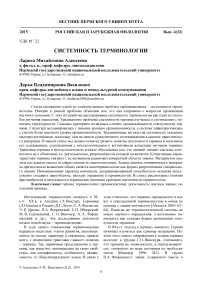Системность терминологии
Автор: Алексеева Лариса Михайловна, Василенко Дарья Владимировна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 4 (32), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена одной из слабоизученных проблем терминоведения - системности терминологии. Интерес к данной проблеме объясним тем, что она сопряжена с вопросом организации научного познания. С этих позиций мы рассматриваем системность терминологии как один из способов изучения мышления. Традиционно проблема системности термина изучалась в соотнесении с понятием структурности. Главным критерием полагалась степень организованности совокупности термина. Структура ассоциировалась с низшим уровнем организованности, а система характеризовалась с учетом более высокого уровня организованности. Традиционные взгляды на системность оказались малопродуктивными, поскольку они не нашли существенного подтверждения в анализе практического материала. В нашей статье мы делаем попытку развить понятие системности термина и наполнить его содержанием, соотнесенным с методологическим и когнитивным аспектами изучения термина. Трактовка термина в методологическом аспекте обусловлена тем, что данный элемент системы соотносится не с объектами, а с деятельностью, репрезентантом которой он является. Когнитивные характеристики термина связаны с естественным развитием конкретной области знания. Материалом анализа послужили тексты из сферы знания по нанотехнологии. Задачи анализа эмпирического материала предполагали выявление общих свойств нанотерминологии как формы репрезентации специального знания. Инновационный характер нанонауки, детерминированный способностью человека искусственно создавать нанообъекты, находит отражение в терминологии. В статье рассмотрены понятия фантазийности и визуальности термина как основные критерии системности терминологии.
Термин, терминология, терминосистема, деятельность, научное знание, системный признак
Короткий адрес: https://sciup.org/14729413
IDR: 14729413 | УДК: 81''
Текст научной статьи Системность терминологии
Исследование терминологии началось в 30е гг. ХХ в. в Австрии (Э. Вюстер), Германии (Л.Ольшки) и России (Д.С.Лотте, С. А.Чаплыгин, Э. К. Дрезен, П.А. Флоренский, С.П. Обнорский, М. В. Сергиевский, Г. О. Винокур, А. А. Реформатский и др.). Эти исследования положили начало новой науке – терминоведению.
В ходе своего становления терминоведение пережило несколько этапов развития, революционных по своему характеру и связанных, прежде всего, с изменением трактовки главного понятия – термина. Так, первичные представления о термине, как известно, основывались на таких свойствах, как специфичность, особенность, независимость от общелитературного языка. В связи с этим считалось, что термины зарождаются и живут в определенной терминосистеме и никак не связаны с самим контекстом [Alexeeva 2004: 63– 64]. Понятие же терминологической системы не имело научного определения, а интуитивно понималось как сложная форма организации совокупности терминов.
В 90-е гг. подход к термину меняется. Термин начинает изучаться как единица мышления. Истоки этого нового направления в теории термина восходят к трудам Г.О. Винокура, считавшего, что термины не «появляются», а «придумываются», «творятся» по мере осознания их необходимости [Винокур 1996: 242]. В трудах П.А. Флоренского также содержится мысль о
том, что «слово есть точка приложения деятельности мысли, создающей предложение и даже целую речь» [Флоренский 1996: 368] и что «всякое техническое выражение, действительно нужное мысли, а не представляющее собой тормозящего речь варваризма, непременно предполагает и новое усмотрение мыслию внутренней связности того, к чему это выражение относится, – значит служит синтезу многих слов, которыми могла бы быть описана вновь найденная связность» [там же: 370].
Характеризуя развитие терминоведения этого периода, В. М. Лейчик высказал суждение о том, что «современный этап развития терминологии по своему содержанию может быть назван науковедческим» [Лейчик 1995: 279], поскольку так же, как и науковедение, науку о терминах волнуют проблемы языка науки в целом. Кроме того, становлению теории термина во многом способствовало коммуникативное описание языка, которое привело к созданию функциональных языковых теорий и «живых» грамматик.
Современный этап развития терминоведения получил название когнитивного. «Когнитивное направление делает терминоведение «открытой» наукой, с явной тенденцией к расширению своих пределов, с тяготением к интеграционным процессам, которые ведут к выделению междисциплинарных программ исследования» [Алексеева, Мишланова 2002: 23]. Расширение границ терминоведения и усложнение предмета исследования логически приводит к усложнению понятия термина. В исследованиях по терминоведению XXI в. «подчеркивается сложная (неоднородная, многослойная) структура термина, предполагающая многогранность и многоаспектность терминологического анализа» [там же: 15]. Термин как научный объект начинает изучаться с учетом таких признаков, как интегрированность и цельность [Алексеева 2010].
В когнитивном аспекте расширение понятия термина выразилось в том, что его стали понимать как постоянно изменяющуюся единицу ввиду его соотнесенности с процессом познания. Как полагает В. В. Налимов, «концепции нельзя определять, их надо разъяснять, концептуальный характер терминов создает повышенный полиморфизм языка науки. Чем глубже и сложнее концепция, кодируемая термином, тем больше его полиморфизм» [Налимов 2003: 137]. Речь идет об открытости семантики термина. Ученый считает, что каждому понятию термина в языке науки соответствует множество значений и любая попытка окончательного определения термина связана с семантическими ограничениями, накладываемыми на термин, соответственно, и на научную теорию.
Это мнение разделяет С. Е. Никитина. Согласно ее представлениям, «термину нигде не дается строгого определения. Смысл его наращивается постепенно с изложением какой-либо научной концепции – так создается контекстуальное определение» [Естественный язык 1988: 33]. Действительно, имеет смысл говорить об амбисемичности языка науки , поскольку в научных текстах, являющихся для терминов ареалом их функционирования, непременно актуализируется новое приращение знания в виде вновь созданных терминов, дефиниции которых далеко не абсолютны, т.е. открыты для дальнейшей интерпретации, а сам научный текст всегда гипотетичен [Татаринов 1996: 168].
Современное развитие терминоведения отражает существенные и кардинальные изменения, происходящие в науке. Наука о терминах характеризуется введением новых понятий, принципов и методов исследования, в число которых входит понятие системности. В терминоведении, в сравнении с лингвистикой, данное понятие остается неразработанным. Отметим, что в методологическом плане понятие системности также вызывает немало дискуссий. Так, известный российский методолог Г. П. Щедровицкий полагает, что в настоящее время «не существует удовлетворительных, достаточно широко принятых понятий системы и структуры» [Щедровицкий 1995: 170]. Причину такой ситуации он видит в смешении понятий системы знания и системы знания об объекте и предмете. В этом плане особую актуальность приобретает проблема дифференциации трех понятий: системы знания, системы объекта и системы предмета.
В рамках статьи мы попытаемся подойти к решению проблемы системности терминологии с указанных позиций. Мы выбираем методологический аспект изучения терминологии, поскольку он позволяет рассматривать и объединять различные виды знания: научное, профессиональное и обыденное.
Бесспорно, проблема системности терминологии стала предметом обсуждения еще в 80-е гг. ХХ в. (В. М. Лейчик, Г. П. Мельников и др.). Тем не менее до настоящего времени остается нерешенной проблема терминологии в свете двух понятий: структуры и системы. Традиционно в терминоведении данные понятии противопоставлялись. Считалось, что терминология – это своеобразная неупорядоченность совокупности терминов, а терминосистема, наоборот, упорядоченное состояние терминологии [Реформатский 1994: 345]. В этом аспекте задача терминолога виделась в упорядочении стихийно сложившейся терминологии и доведении ее до такого уровня осмысления, чтобы она могла называться терми-носистемой [Мельников 1991: 15].
Идею о том, что термины являются не простым собранием слов, а находятся в отношениях семасиологических связей, т.е. проявляют системные свойства, выдвигали основатели терминоведения. Так, еще в 1936 г. А. Ф. Лесохин высказал предположение о том, что «научнотехническая терминология есть, очевидно, совокупность терминов, которые являются необходимыми и достаточными для четкой формулировки явлений и отношений (законов) между ними в той или другой области науки и техники» [Лесохин 1994: 170]. Э. К. Дрезен связывал понятие системности с назначением термина «воспроизводить в сознании человека возможно полнее представление о данном объекте (понятии) со всеми его свойствами и качествами» [Дрезен 1994: 105]. Г. О. Винокур полагал, что в терминологической системе отражаются связи и отношения входящих в нее слов. Чем более систематизированным является материал науки, тем важнее становится вопрос о ее терминологии [Винокур 1994: 222].
Таким образом, классики терминоведения считали, что термины связаны понятиями науки и отражают ее систему. В этом смысле исследование терминов в виде терминосистемы приобрело особую актуальность. В качестве существенных признаков терминосистемы исследователи называли наличие связи между отдельными терминами, цельность, полноту, а также сложность.
С учетом данных признаков определялся основной критерий дифференциации понятий структурности и системности, который связывался со степенью сознательности (стихийности) организации совокупности терминов. Термино-система полагалась более высокой формой организации специальных единиц. Стихийно сложившуюся совокупность специальных единиц называли терминологией, а сознательно сконструированную терминологию определяли как терминосистему [Лейчик 2007: 106–107]. Более того, считалось, что терминосистема отражает не просто систему понятий, а систему понятий определенной теории [там же: 101].
В работах В. М. Лейчика понятие системности рассматривается с точки зрения трех принципов конструирования: формальнологического, лингвистического и гносеологического. Первый принцип способствует организации терминологии с позиций логических категорий рода-вида, части-целого, причины-следствия, простого-производного и др. Второй принцип предполагает рассмотрение собственных ресурсов языка как основы терминообразо- вания. Третий принцип находится в стадии становления [там же: 130–133]. С. В. Гринев использует термин терминология, а не терминоси-стема. Он относит понятие системности к области функционирования терминов и связывает его с эвристической функцией термина, частью которой, по его мнению, является систематизирующая функция, заключающаяся в тенденции закрепления за терминами системы понятий определенной области знания [Гринев 1993: 221].
В конце ХХ в. проблема системности научного исследования становится центром методологических исследований. Особую важность понятию системности придавал Г. П. Щедровицкий. Традиционный взгляд на систему он считал ограниченным, поскольку усматривал в нем только одну сторону – формально-логическую. Системность, трактуемая с этих позиций, «не раскрывает и не может раскрыть ни содержания понятия, ни его объективной структуры сложного познавательного организма, ни его специфических функций в познавательной деятельности» [Щедровицкий 1995: 194].
В современном терминоведении, получившем статус когнитивной науки, понятие системы приобретает особый смысл. Это объясняется прогрессом науки, находящим отражение в терминологии. Поэтому, чтобы проследить закономерности репрезентации нового знания в терминах, нужен принципиально иной взгляд на проблему системности, учитывающий, с одной стороны, сложность объектов исследования и связей между ними, с другой – многогранность развития знания, отраженного в научных понятиях.
Однако дискуссии о системности терминологии конца ХХ в. оказались малопродуктивными, поскольку не нашли подтверждения в анализе практического материала. Трудность заключалась в том, что, теоретически основываясь на дифференциации понятий структуры и системы, исследователи не разработали конкретной методики, применимой к решению данной проблемы. На практике критерии структурности и системности терминологии оказались нечеткими. Поэтому данная проблема не была эмпирически подтверждена, поскольку не имела методических процедур обработки материала, помимо структурно-логического метода. Традиционное деление терминологии, соотносимой с конкретными объектами и явлениями, на структуру и систему не дало реального решения.
В свете современного понимания термина как сложной, многогранной единицы специального знания проблема системности терминологии должна получить комплексное рассмотрение. Основываясь на этом, признаки системности термина можно выявить при исследовании дея- тельности человека в процессе создания нового знания. В структуре деятельности по изучению реальной действительности специальный язык выступает в роли средства, обеспечивающего репрезентацию результатов деятельности. Поэтому термины как основные компоненты языка описания деятельности оказываются элементами сложного процесса познания и языковой репрезентации. Соответственно и изучаться термин должен как элемент этой сложной структуры. В определенном смысле системность термина – это отражение системности познавательной деятельности.
В этом плане особую значимость приобретает высказывание Г. П. Щедровицкого о том, что для понимания языкового знака «нужно рассматривать его не в отнесении к объектам, а в отношении к деятельности, элементом которой он является и благодаря которой он получает смысл и значение» [Щедровицкий 1995: 542]. Мы видим, что Г. П. Щедровицкий рассуждает о новом виде существования знака, деятельностном или социальном. В отношении к термину данное суждение имеет следующий смысл. Традиционно терминологию понимали как совокупность отдельных изолированных знаков. С опорой на Г. П. Щедровицкого можно считать, что терми-носистема – это определенным образом организованная совокупность отношений, отражающая человеческую социальную (научную) деятельность, обладающую органической целостностью. Это означает, что терминосистема рассматривается как отражение целостного феномена, принадлежащего естественно развивающейся области знания.
Таким образом, понятие системности приобретает методологическое значение. Первые попытки применения методологических категорий в исследовании системности терминологии принадлежат Г. П. Мельникову [Мельников 1991]. Он основывался на том, что любое исследование устойчивых свойств явления как органического целого предполагает изучение его внутренней характеристики, или «внутренней детерминанты» [там же: 20]. По его мнению, именно детерминанта определяет особенности единиц и уровней терминосистемы. Детерминантные, или системные, свойства явления проявляются только в случае ее соотнесенности с надсистемой. В качестве надсистемы может выступать социальное знание. Только в такой связке проявляются наиболее устойчивые и специфические свойства системы, «а знание внутренней детерминанты системы позволяет объяснить, предсказать и взаимоувязать все специфические характеристики в системе» [Мельников 1991: 21].
В аспекте методологии наука понимается как знание, которое включает следующие блоки: 1) факты (единицы эмпирического материала) ; 2) средства выражения (ЯСЦ); 3) методические предписания , фиксирующие процедуры научного исследования; 4) онтологические схемы , изображающие идеальную действительность изучения; 5) модели , репрезентирующие частные объекты исследования; 6) знания , объединенные в систему теории , ; 7) проблемы ; 8) задачи научного исследования [Щедровицкий 1995: 245–246]. Это то, что составляет содержание научного предмета науки и задает его системность. Между блоками существуют отношения и связи рефлективного характера. Основываясь на этом, можно заключить, что терминология, будучи средством выражения научного знания, является одной из составных частей системы. Иными словами, терминология и система науки соотносятся как часть и целое.
Большой интерес представляет изучение терминологии новейших областей знания. Материалом нашего исследования послужили тексты, описывающие проблемы нанотехнологии. В ходе исследования терминологии этой области мы попытались сформировать свое представление о системности языковой репрезентации нового научного знания. Подчеркнем, что данную проблему мы связываем теснейшим образом с представлением о самой науке.
Как полагают исследователи нанотехнологии, эта наука есть принципиально новое, беспрецедентное, проникновение человека в мир материальных структур на основе прямого или косвенного научно-технологического изменения среды обитания человека. Термин «нанотехнология» был введен японским исследователем Норио Та-нигучи в 1974 г. У истоков данного научного направления стояли классики мировой науки – А. Эйнштейн, В. Гейзенберг, А. Л. Чижевский и др.
Под нанотехнологиями понимается совокупность процессов, позволяющих создавать материалы, устройства и системы с помощью мельчайших фрагментов структуры размером от 1 до 100 нанометров (нанометр (нм) – одна миллиардная метра). Такие инновации в науке связывают со способностью человека искусственно создавать нанообъекты. Отсюда основной задачей нанотехнологий является химический синтез нанопродуктов. Переход от «микро» к «нано» – это создание возможности манипуляции с отдельными атомами. На этом уровне законы макромира перестают «работать», ибо вступают в силу принципиально новые законы микромира. По международной классификации к наноструктурам относятся объекты, которые хотя бы в од- ном измерении имеют размер не больше 100 нм [Мейдер 2011].
В ходе анализа, учитывая характер единиц эмпирического материала, мы задавались вопросами: обладает ли терминология нанонауки признаками системности и существуют ли какие-либо практические подтверждения системности терминологии?
Специфика знания, уровень решаемых проблем, а также содержание задач, решаемых нанонаукой, позволяют отметить ее основные черты: 1) специфику объектов научного исследования, заключающуюся в отсутствии возможности непосредственного наблюдения их в природе; 2) наличие особых процедур по созданию искусственным способом объектов исследования; 3) необходимость создания принципиально новых инструментов, предназначенных для изучения научных объектов.
Задачи лингвистического анализа состояли в следующем: 1) выявить общие стороны нанотерминологии как единиц репрезентации специального знания; 2) заместить выявленные характерные черты терминологии одним обобщенным абстрактным образом с целью очертить границы целого (обобщение предмета).
В результате анализа содержания основных понятий нанонауки было замечено, что в них выражена тенденция стирания грани между реальным и вымышленным мирами. Этот признак мы назвали фантазийностью . Приведем примеры терминономинаций, характеризующихся с помощью данного признака: нано роботы, теория самовоспроизводящихся роботов, робот-чистильщик, нано фабрика , сверх решетка, фотонная запрещенная зона , идея «умной пыли», «интеллектуальные» поверхности для самолетов и ракет.
Особую роль в наших выводах сыграл анализ текстовых фрагментов. Рассмотрим фрагмент:
«На рисунке 10а изображен двуногий шагающий наноробот ; он шагает за счет того, что по очереди то присоединяет , то отсоединяет «ноги» от «липких концов» к основанию, состоящему тоже из ДНК» [Разумовская 2008: 121].
Системный принцип фантазийности позволяет создать целостность (сюжетность) описания. Приведем еще несколько примеров сюжетности описания понятий:
«Одномерная (1D) магнитная сверхрешетка – чередование нанослоев ферромагнетика полупроводника – используется для считывания магнитной записи. Полупроводниковые сверхрешетки – это система квантовых ям, разделенных барьерными слоями с туннельным типом проводимо- сти. Фотонные кристаллы – оптические сверхрешетки, в которых перемежаются области с разным коэффициентом преломления» [там же: 120].
«Для трехмерной оптической сверхрешетки условия максимума интерференции настолько усложняются, что для данной длины волны они могут не выполниться ни для одного направления в пространстве . В такой решетке волны с некоторыми длинами волн распространяться вообще не могут . Так появляется представление о « фотонной запрещенной зоне ». Ситуация аналогична запрещенной энергетической зоне для электронов в зонной теории твердых тел. Понятие запрещенной зоны для электромагнитных волн (photonic band gap) ввел в 1987 г. Эли Яблонович. Он же создал в 1989 году первый фотонный кристалл для миллиметрового диапазона электромагнитных волн, который получил название ‘яблоновит’» [там же].
В содержании приведенных фрагментов текста проявляется признак фантазийности, т.е. соотнесенность с нереальными объектами.
Характер нанонауки талантливо предсказал В. Гейзенберг. Он писал: «В нашу эпоху люди проникают в отдаленные, непосредственно недоступные для наших чувств области природы, лишь косвенно, с помощью сложных технических устройств поддающиеся исследованию. В результате мы покидаем не только сферу непосредственно чувственного опыта, мы покидаем мир, в котором сформировался и для которого предназначен наш обыденный язык. Мы вынуждены поэтому изучать новый язык, во многих отношениях не похожий на естественный. Новый язык – это новый способ мышления» [Гейзенберг 1987: 224–225]. В. Гейзенберг указывает на одну из основных черт науки будущего – неподвласт-ность непосредственному наблюдению.
Ненаблюдаемость объектов научного исследования послужила еще одним системным признаком терминологии – визуальности. Оперируя ненаблюдаемыми объектами, исследователи в этой области стремятся использовать термины, обладающие потенциальной возможностью наглядной представленности. Так, основные нанообъекты представлены терминами: квантовая точка, нанотрубка, моноатомный слой. В нанотехнологиях можно менять скрученность, «узоров», оперировать барьерными слоями, решать проблему «серой слизи», можно помещать атомы - «гостей» внутрь фуллеренов, сворачивать плоскую гексагональную сетку графита под разными углами. Как мы видим, приведен- ные термины обладают высшей степенью визу-альности.
Системный признак визуальности присутствует в дефинициях многих терминов. Например: «Однослойная углеродная нанотрубка (ОСУНТ) представляет собой цилиндр , получаемый сворачиванием графенового слоя и соединением его кромок без шва», «Очищенные однослойные нанотрубки представляют собой черный пушистый порошок», « Как правило, ОСУНТ-продукты характеризуются также и значительным объемом мезопор, которые образуются вследствие беспорядочной укладки отдельных нано трубок и тяжей (пучков) нанотрубок».
Визуальность присуща многим описаниям процессов и явлений. Приведем несколько примеров. Выделенные слова могут рассматриваться как термины, иллюстрирующие этот признак:
«За счет большого значения приложенного электрического напряжения зонд может « выдирать » атомы из поверхности и переносить их в другое место. Таким образом, используя СТМ, можно манипулировать отдельными атомами и « видеть » отдельные атомы. На рисунке 4 дана знаменитая фотография так называемого « загона для скота », или «квантового коралла ». С помощью СТМ на чистую поверхность меди высажены по окружности с радиусом примерно 140 ангстрем 48 атомов железа, и после этого СТМ воспринимает не только их, но и электроны меди внутри окружности: « волны » на фотографии отражают состояние свободных электронов меди внутри « загона » [Разумовская 2008: 109].
«Многослойные углеродные нанотрубки могут быть похожи на свиток либо образовывать так называемую « русскую матрешку » ( вложенные друг в друга однослойные нано трубки ). С увеличением числа слоев проявляются различные дефекты структуры, образуются изогнутые и спиралевидные, складывающиеся в сложные. Большой интерес для наноэлектроники представляют разветвленные Y- и T-образные углеродные нано трубки » [там же: 116]. «Идеальная однослойная нано трубка – цилиндр , полученный при свертывании плоской гексагональной сетки графита без швов » [Титов 2009].
«Переходя к рассмотрению крышечки однослойной нанотрубки, отметим, что она представляет собой полусферический атомный слой с радиусом 0,68 нм с примерно постоянной величиной ф» [там же].
«В работе [47] описан процесс гидрирования графена. Метод сводится к пропус- канию электрического тока через графен, находящийся в среде газообразного водорода. При этом атомы водорода присоединяются поочередно – один сверху «листа», другой снизу, – немного деформируя плоскую структуру исходного графена. Этот новый материал получил название графан» [Разумов 2010: 20].
Приведенные примеры интересны в двух отношениях. Во-первых, они позволяют ощутить высокую степень визуальности описания. Во-вторых, визуальность способствует воплощению необходимого для автора специального смысла.
В статье предполагалось развить идею о том, что прогрессивное течение науки отражается в языке, специально приспособленном для этих целей. Как показал анализ терминологии нанонауки, данная область знания является интегрированным образованием. Терминология нанонауки принадлежит разным областям знания. Именно интеграционный характер этой науки обусловливает такую черту, как визуальность, способствующую пониманию и взаимодействию специалистов разных областей знания. Исследователи нанотехнологий ведут разговор на языке, системными признаками которого являются фан-тазийность и визуальность, демонстрирующие интеграцию различных видов знания – научного, профессионального и обыденного.
Проведенный нами анализ показал, что нанотерминология изначально нацелена на ее адекватное восприятие и понимание. Мы наложили выявленные признаки на корпус практического материала и получили понятийную систему, репрезентированную в терминах. Отметим, что проведена работа только на первом уровне. Можно предположить, что существуют другие группы признаков, играющих важную роль в си-стемообразовании.
Head of the Department of English Philology
Perm State University
Dariya V. Vasilenko
Lecturer in the Department of English Language and Intercultural Communication
Perm State University
Список литературы Системность терминологии
- Алексеева Л.М. Проблемы термина и терминообразования. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1998. 120 с
- Алексеева Л.М. Цельность текста в трактовке Л.Н. Мурзина и проблемы научного перевода//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. Вып. 3(9). С. 128132
- Алексеева Л.М., Мишланова С.Л. Медицинский дискурс: теоретические основы и принципы анализа. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2002. 200 с
- Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии//Татаринов В.А. История отечественного терминоведения. Классики терминоведения: Очерк и хрестоматия. М.: Моск. лицей, 1994. С. 218284.
- Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М.: Прогресс, 1987. 368 с
- Гринев С.В. Введение в терминоведение. М.: Моск. лицей, 1993. 309 с
- Дрезен Э.К. Научно-технические термины и обозначения и их стандартизация//Татаринов В.А. История отечественного терминоведения. Классики терминоведения: Очерк и хрестоматия. М.: Моск. лицей, 1994. С. 104-165
- Естественный язык. Искусственные языки и информационные процессы в современном обществе. М.: Наука, 1988. 176 с
- Лейчик В.М. Место терминологии в системе современных наук (к постановке вопроса)//Татаринов В.А. История отечественного терминоведения. Направления и методы терминологических исследований: Очерк и хрестоматия. М.: Моск. лицей, 1995. Т. 2. С. 271-281
- Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура. Изд. 3-е. М.: Изд-во ЛКИ, 2007. 256 с
- Лесохин А.Ф. Единицы измерений, научно-технические термины и обозначения//Татаринов В.А. История отечественного терминоведения. Классики терминоведения: Очерк и хрестоматия. М.: Моск. лицей, 1994. С. 166-189
- Мейдер В.А. Наука в XXI веке//Здравый смысл. 2011. № 3 (60). URL: http://razumru.ru/humanism/journal/60/meider.htm (дата обращения: 15.06.2014)
- Мельников Г.П. Основы терминоведения. М.: Изд-во УДН, 1991. 116 с
- Налимов В.В. Вероятностная модель языка: О соотношении естественных и искусственных языков. Изд. 3-е. Томск-М.: Водолей Publishers, 2003. 368 c
- Реформатский А.А. О некоторых вопросах терминологии//Татаринов В.А. История отечественного терминоведения. Классики терминоведения: Очерк и хрестоматия. М.: Моск. лицей, 1994. С.341-358
- Татаринов В.А. Теория терминоведения в 3 т. Т.1: Теория термина: история и современное состояние. М.: Моск. лицей, 1996. 331 с
- Флоренский П.А. Термин//Татаринов В.А. История отечественного терминоведения. Классики терминоведения: Очерк и хрестоматия. М.: Моск. лицей, 1994. С. 359-400
- Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М.: Шк. Культ. Полит., 1995. 800 с
- Alexeeva L.M. What is a term?//Russian Terminology Science (1992-2002). Vienna: TermNet Publisher, 2004. P. 62-78