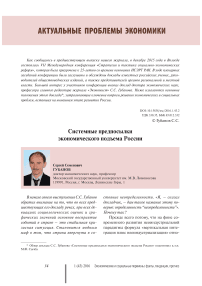Системные предпосылки экономического подъема России
Автор: Губанов Сергей Семенович
Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc
Рубрика: Актуальные проблемы экономики
Статья в выпуске: 1 (43), 2016 года.
Бесплатный доступ
Как сообщалось в предшествующем выпуске нашего журнала, в декабре 2015 года в Вологде состоялась VII Международная конференция «Стратегия и тактика социально-экономических реформ», которая была приурочена к 25-летию со времени основания ИСЭРТ РАН. В ходе пленарных заседаний конференции были заслушаны и обсуждены доклады известных российских ученых, руководителей обществоведческих изданий, а также представителей органов региональной и местной власти. Большой интерес у участников конференции вызвал доклад доктора экономических наук, профессора главного редактора журнала «Экономист» С.С. Губанова. Ниже излагаются основные положения этого доклада, затрагивающие ключевые вопросы решения экономических и социальных проблем, вставших на нынешнем этапе развития России.
Короткий адрес: https://sciup.org/147109816
IDR: 147109816 | УДК: 330.35 | DOI: 10.15838/esc/2016.1.43.2
Текст научной статьи Системные предпосылки экономического подъема России
Системные предпосылки экономического подъема России
Сергей Семенович
ГУБАНОВ доктор экономических наук, профессор
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
119991, Россия, г. Москва, Ленинские Горы, 1
В начале своего выступления С.С. Губанов обратил внимание на то, что во всех предшествующих его докладу речах, при всех девиациях социологических оценок и графических значений основное восприятие событий в стране – это стабильная кризисная ситуация. Становится модным миф о том, что страна ввергнута в со- стояние неопределенности. «Я, – сказал докладчик, – дам такое название этому поверью: определенность “неопределенности”». Почему так?
Прежде всего потому, что на фоне современного развития неоиндустриальной парадигмы формула «вертикальная интеграция плюс неоиндустриализация» отно- сится не только к России, но и к мировому хозяйству в целом. Совершенно однозначно можно говорить, что в промышленно развитых странах развертывается высокотехнологичная или технотронная индустриализация, цифровая индустриализация и плюс – что самое главное, ибо это ее системная основа, – вертикальная интеграция. А сегодня уже можно говорить также и о сетевой интеграции. Но нам достаточно было бы, если б удалось обеспечить хотя бы горизонтальную и вертикальную интеграцию.
Формула развития России: вертикальная интеграция плюс неоиндустриализация. В приведенную формулу развития России экспортно-сырьевая модель не входит, и это было видно еще несколько лет назад.
Так, в наших публикациях при констатации ситуации 2009 года отмечалось: если мы сохраняем в посткризисный период экспортно-сырьевую модель экономики, то вместо высоких темпов роста попадаем прямиком в ситуацию затяжной депрессии. По расчетам, в 2009 году реальный КПД экспортно-сырьевой модели не превышал 13%. Сейчас ее КПД означает арифметический ноль. Что подразумевается под этими 13%? В долларовом выражении с 2000 по 2008 год ВВП нашей страны вырос примерно в 6 раз, а реальная покупательная способность граждан, бюджета и предприятий увеличилась максимум на 27%, то есть не дотягивает даже до трети. Такой перепад происходит за счет инфляции нефтедоллара – параметра, которым наша страна абсолютно не управляет. Но игра в экспорт сырья – это игра с нулевой суммой: когда мы дороже продаем нефть, газ и остальные ресурсы, то дороже покупаем оборудование и другие продукты. Инфляция нефтедоллара не дает нам ровно никакого выигрыша.
В 2009 году на основе анализа нами было высказано еще одно кажущееся весьма категоричным суждение о том, что сырьевого роста нашего ВВП в посткризисный период уже не будет ни при каких условиях.
Интересные выводы мы опубликовали в январе 2012 года. Заметьте, еще нет никаких украинских событий, никакого Майдана, действуют высокие цены на нефть, нет санкций, нет отсечения от мировых рынков рефинансирования, с точки зрения внешних условий ситуация благоприятная. Выполняя в это время исследовательскую работу, как это обычно бывает, вместе с основным мы получили довольно интересный побочный результат, доказав, что второй волны мировой рецессии в промышленно развитом мире в 2012 году не будет. Зато совершенно неожиданно, согласно расчетам, опасность автономной рецессии выявилась для России.
Проведенный в середине 2012 года анализ эмпирического и статистического материала показал, что оценка, сделанная в январе, абсолютно корректна. Тогда было спрогнозировано то, что мы увидели потом в декабре 2014 года. И тогда уже в профессиональном экономическом сообществе пошла речь об антикризисной политике.
Итак, с чем же мы имеем дело: с временной остановкой темпов экспортно-сырьевого роста или с кончиной самой экспортно-сырьевой модели? Что перед нами? Если перерыв в росте, тогда это временное, конъюнктурное нефундаментальное событие. Если же это конец экспортно-сырьевой модели, значит, необходим поворот к совершенно новой модели развития. Это не означает конец России, наоборот, это конец старой и начало новой модели.
Если мы в 2008 году солидарно говорили, что повторения 1998 года не будет, то, к сожалению, в нынешней ситуации соз- дались предпосылки национального дефолта. Его скрытое состояние видно по неспособности государства обеспечивать свои внутренние обязательства, например перед категориями бюджетников, пенсионеров и т.д. Происходящий сегодня отказ от полноценной индексации на величину инфляции – это не что иное, с точки зрения финансовой дисциплины, как частичный дефолт. Бюджетный дефолт есть не что иное, как следствие дефолта экспортно-сырьевой модели.
Поэтому с позиции нынешнего дня мы дискутируем с ретролибералами – теми, кто представляет позицию дня минувшего. Я их упоминаю, потому что они взялись выяснять истоки автономной рецессии в нашей стране после того, как она стала фактом. А мы знали эти причины до того, как она случилась. Отсюда возникает риторический вопрос: кто имеет право на разработку антикризисных мер? Тот, кто ничего не понимает в ситуации, или тот, кто доказал ее понимание, предвосхитив ее три года назад?
Предложения ретролибералов сводятся к следующему: осуществить переход от экономики спроса к экономике предложения. Звучит вроде бы резонно: у государства сейчас все равно нет средств на поддержку спроса, поэтому давайте перейдем к экономике предложения. Сократим налоги, уберем поддержку по многим расходным статьям, начиная с обороны, инфраструктуры, подрежем социальные расходы, расходы на науку. Естественно, что экономика предложения в том исполнении, как нам предлагают ретролибералы, это не что иное, как банальный откат к ситуации 1990-х годов, когда вся экспортно-сырьевая рента перекочевывала в карманы олигархов, а те совершенно не поддерживали внутренний спрос. Особое внимание хочется обратить на то, что все рассуждения ретролибералов, таких как А. Кудрин, А. Улюкаев, Е. Гур-вич, основаны исключительно на мифе – экономики спроса в России не было и нет.
Весь ли прирост ВВП первого десятилетия 2000-х годов становился приростом совокупного внутреннего спроса страны? Если была экономика спроса, значит, все, что прибавилось к ВВП, обратилось во внутренний спрос. Если это не так, значит, рассуждения об экономике спроса – просто досужные разговоры. А вот как это проверить? Ясно, что нужно учесть еще один параметр – то, что вычитается из этого прироста, т.е. так называемый чистый экспорт. Наши расчеты показывают, что чистый экспорт за весь анализируемый период превышал прирост ВВП, в итоге совокупный внутренний спрос не только не возрастал соразмерно приросту ВВП, а из года в год сокращался. Сокращался из-за оттока капитала, резервирования, размещения средств в зарубежных ценных бумагах и из-за схемы обмена товарного на бестоварное, т.е. виртуальное.
Но что же добило экспортно-сырьевую модель? Не санкции, не цены на нефть, не другие конъюнктурные внешние факторы, а феномен, который называется новой индустриализацией промышленно развитых стран.
Иногда мы можем слышать о реиндустриализации в странах ЕС, в США, Великобритании. К сожалению, у нас в переводных терминах очень слабо ориентируются и плохо представляют себе, что это такое. Иногда можно услышать совершенно несуразную трактовку: реиндустриализация – увеличение доли промышленности в ВВП. Это неаутентичный перевод. Под реиндустриализацией в промышленно развитых странах понимают, прежде всего, антипод финансиализации, т.е. нынешнего состояния, когда финансовый капитал доминирует в экономической системе и коман- дует ею. Реиндустриализация же означает стремление вернуть господствующие позиции промышленному капиталу. Это аутентичное понимание реиндустриализации в США и англо-саксонском ядре. Однако и это еще не охватывает процессов развития и прогресса, которые на самом деле происходят в промышленно развитых странах, потому что там вовсю идет автоматизация и роботизация производительных сил. Рост качества и удельного веса автоматизированных рабочих мест – это и есть первый показатель новой индустриализации. В материальном производстве США автоматизировано более 25% рабочих мест. В целом цифра автоматизации рабочих мест в промышленно развитых странах сегодня достигает 60%. Вот что такое новая индустриализация в действии. В России уровень роботизации составляет всего 0,2%.
Каким образом новая индустриализация в ЕС похоронила нашу экспортно-сырьевую модель? Прежде всего путем роста доли постнефтяных источников, т.к. процесс новой индустриализации сопряжен с переходом от тепловой углеводородной энергетики к постнефтяной, не сжигающей. Еще в 2009 году мы высказали прогноз, что в электробалансе Европейского союза доля постнефтяной энергетики к настоящему времени составит 33–35%. Действительно, Европейский Союз уже вышел на 33% удельного веса альтернативных источников в совокупном электробалансе, что в нефтяном эквиваленте означает годовую экономию до 160–170 млн. тонн нефти. На эту сумму сократился спрос на нефтегазовый экспорт России. Понятно, что сюда входят такие процессы, как рециркуляция ресурсов, рост энергоэффективности и др. Они камня на камне не оставляют от былой сумасбродной идеи превратить Россию в энергетическую сверхдержаву.
Ещё раз подчеркиваю, что старая экономическая система абсолютно бесперспективна. Роста она нам не даст, что бы мы ни делали. Но это не значит, что перед нашей страной закрыты перспективы развития. Перспектива развития есть, ресурсы, потенциал развития есть, но не хватает экономической системы, рассчитанной на подъем страны. Нам нужно совершить переход к экономической системе, рассчитанной на социально-экономический подъем. Именно он гарантирует нам развитие.
В связи с вышесказанным С.С. Губанов озвучил следующие предложения.
-
1. Необходима разработка долгосрочной стратегии новой индустриализации России до 2020 года, но не абстрактной Стратегии–2030, как ее сегодня рисуют, а именно стратегии новой индустриализации. Нужно стремительно автоматизировать производительные силы. С точки зрения социальной структуры общества это означает увеличение доли интеллектуального труда в совокупном распределении общественного труда.
-
2. Государственное руководство должно обеспечить равные условия разработки как ретролиберальной, так и неоиндустри-альной программы развития. До сих пор административные и финансовые ресурсы находятся в руках ретролибералов, а у того, кто отстаивает новую индустриализацию, совершенно нет возможности и нормальных условий для разработки программы новой индустриализации страны. Мы выступаем за то, чтобы и та, и другая программа получили равные условия для разработки, для привлечения специалистов, организации научных коллективов и т.д.
-
3. Сегодня вся модель прогнозирования рассчитана на входной параметр в виде цены за бочку нефти. Следует создать другую модель прогнозирования и плани-
- рования, рассчитанную на входной параметр в виде почасовой производительности труда и заработной платы. Это профессиональный вопрос, и мы знаем, как его решить.
-
4. Необходимо провести Всероссийское экономическое совещание по системным вопросам новой индустриализации. Это достаточно гибкая для государственного руководства форма и в политическом смысле накануне электорального цикла. Если государственное руководство сочтет, что не все вопросы достаточно проработаны, оно может откреститься и сказать, что это диспут в научном сообществе. Если оно сочтет, что вопросы решены достаточно глубоко и предметно, то может уже выходить на общегосударственное решение. Поэтому я считаю, что такая форма
обсуждения и принятия системных изменений накануне электорального цикла достаточно продуктивна.
Условиями реализации этих предложений является поддержка научного и промышленного сообщества со стороны органов региональной и федеральной власти и, на чем хотелось сделать особый акцент, – издание соответствующих поручений Президента РФ. Президент поручил обновление Стратегии–2020 не тем людям и не тем командам. Именно это я подразумеваю, когда говорю об издании других поручений Президента по затронутым вопросам.
Таковы альтернативы системного выбора. Мы отлично видим перспективы развития нашей страны, у нас есть конкретные предложения и полное понимание того, как их реализовывать.