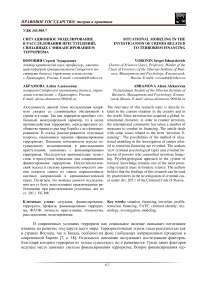Ситуационное моделирование в расследовании преступлений, связанных с финансированием терроризма
Автор: Воронин Сергей Эдуардович, Абрамова Ална Алексеевна
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность
Статья в выпуске: 1 (47), 2017 года.
Бесплатный доступ
Актуальность данной темы исследования напрямую связана со сложившейся обстановкой в стране и в мире. Так как терроризм приобрел глобальный, международный характер, то в целях противодействия терроризму, международное сообщество приняло ряд мер борьбы с его финансированием. В статье рассматриваются отдельные вопросы, касающиеся термина «финансирование терроризма». Показаны возможности метода ситуационного моделирования в расследовании преступлений, связанных с финансированием терроризма. Исследуются криминальные психотипы и преступное поведение лиц совершивших финансирование терроризма. Психотипологический подход в системе криминалистического знания остается одним из самых перспективных научных направлений в криминалистической науке. Полагаем, что выводы данного исследования могут быть использованы практическими работниками при расследовании уголовных дел по ст. 205.1 УК РФ
Ситуация, финансирование, терроризм, профиль, финансирование терроризма, фатф, личность преступника, этимология, расследование, моделирование
Короткий адрес: https://sciup.org/142233854
IDR: 142233854 | УДК: 343.985.7
Текст научной статьи Ситуационное моделирование в расследовании преступлений, связанных с финансированием терроризма
В современных условиях терроризм как социальное явление оказывает негативное влияние на развитие государств всего мира. Террористическая угроза стала реальностью как в странах Востока, так и Запада, особенно на фоне глобальных миграционных процессов в современной Европе [7, с. 18]. Отдельного внимания заслуживает исследование факторов, благодаря которым терроризм не только существует, но и развивается. Среди таких факторов ведущее место занимает система финансирования терроризма. Вопрос финансирования тер-

роризма осознан мировым сообществом, признание степени его опасности нашло отражение в ряде программных документов международных организаций.
Этимологический анализ позволяет выявить подлинный смысл «финансирования», т.к. оно тесно связано с понятием «успешное завершение» какой-либо инициативы, операции: от латинского слова finis (граница, предел, конец) и старофранцузского глагола finer (довести до успешного конца, заплатить, уплатить). Поэтому смысл слова «финансировать» означает собрать средства, чтобы довести до успешного конца, завершить операцию, т.е. сделать так, чтобы покрыть потребности в ресурсах либо деньгами, либо ценностями. Отсюда вытекают основные элементы понятия финансирования: оно реализуется за счет заемных средств или авуаров (валюты, наличных денег, ликвидности, капиталов, доходов) и представляет их ассигнование.
Впервые понятие «финансирования терроризма» было введено в Конвенции о борьбе с финансированием терроризма (заключена 9 декабря 1999 года, в г. Нью-Йорке). Конвенция определила для всех стран-участниц ООН общепринятый термин и установила определенные признаки «финансирования терроризма». Рассматривая содержание данного понятия, можно сказать, что международное сообщество под финансированием терроризма понимает предоставление (полностью или частично) или сбор (полностью или частично) средств, необходимых для осуществления террористической деятельности.
В рамках Конвенции о борьбе с финансированием терроризма (заключена 9 декабря 1999 года, в г. Нью-Йорке) предметом преступления признаются активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также юридические документы или активы в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, векселя, аккредитивы, но, не ограничиваясь ими. Международным сообществом признается, что в качестве метода финансирования могут быть использованы переводы денег на банковскую карту, передача денег в результате продажи, мены, дарения, предоставления кредитов и т.д. (п. 3 ст. 2 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма).
Расширяя представление о понятии финансирования терроризма, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием (легализацией) денежных средств добытых преступным путем и финансированию терроризма (далее – ФАТФ) создала общепризнанный кодекс правил и норм, среди которых есть и указание на финансирование терроризма. В данном акте признается в качестве элементов финансирования терроризма поддержка террористов, экстремистов, а также их объединений как в процессе проведения террористических актов, так и в моменты их подготовки и обучения.
К сожалению, следует признать, что в настоящее время в России отсутствуют комплексные криминалистические исследования на монографическом уровне, посвященные проблеме финансирования терроризма. А значит, правоохранительные органы в современных правовых реалиях не имеют эффективных криминалистических методик борьбы с данным видом преступлений. Особенно это касается изучения личности террориста как важнейшего элемента криминалистической характеристики преступления данного вида.
Проблема личности преступника, безусловно, занимает одно из центральных мест в любой частной криминалистической методике расследования преступлений отдельного вида.
Ученые-криминалисты традиционно высоко ценят исследования многих наук, в том числе психологических, в области изучения свойств личности преступника и подчеркивают их важность для использования в своей науке [2, с. 55]. Однако как отмечал В.К. Гавло, «криминалистику и ее методику в первую очередь интересуют такие данные о личности субъекта преступления, которые указывают на закономерные связи между нею и совершенным преступлением, проявляющиеся вовне в различных следах-последствиях содеянного.
В этом плане личность следует изучать как следообразующий объект, источник информации о совершенном преступлении и как средство его раскрытия» [8, с. 197].
Мы согласны также с тем, что эти «данные о личности преступника целесообразно объединить в две группы: сведения о личности, имеющие доказательственное значение, и сведения о личности, имеющие тактическое значение» [3, с. 121]. Следует заметить, что процесс раскрытия и расследования преступления неразрывно связан и с решением задачи по выявлению причин и условий его совершения, с выполнением в рамках криминалистической деятельности профилактических функций. В круг объектов профилактического криминалистического воздействия входят и некоторые участники процесса расследования, в частности, обвиняемый, в адрес которого чаще всего направлено индивидуальное профилактическое воздействие. Следовательно, в плане изучения личности необходимо выделить и третью группу: сведения о личности, имеющие профилактическое значение.
Какие же данные о личности преступника могут иметь доказательственное значение?
В большинстве случаев ученые–криминалисты, отвечая на этот вопрос, называют социально-демографические, физические, психологические, биологические и другие особенности и свойства личности, которые отразились в материальной обстановке (материальные) и сознании людей (идеальные) и оказали существенное влияние на характер преступления. Различным свойствам личности принадлежит неодинаковая роль в преступном поведении. Так, навыки и умения могут существенно влиять на выбор того или иного объекта (предмета) преступного посягательства, того или иного способа совершения и сокрытия преступлений. Большинство криминалистов полагают, что чем теснее связь преступника с предметом преступного посягательства, тем сложнее и изощреннее, как правило, действия по совершению и сокрытию преступлений. Именно поэтому в криминологии и криминалистике давно предпринимаются попытки создания типологии преступника по отдельным видам преступлений.
И здесь уместно сказать о проблеме построения психологического портрета, который является частным случаем применения ситуационного моделирования в расследовании преступлений отдельного вида. Как известно, основной целью использования психологического портрета является стремление криминалиста «сузить круг подозреваемых и дать более четкое направление расследования». Ситуационное моделирование личности организатора финансирования террористической деятельности, на наш взгляд, напрямую связано с проблемой типологии преступников и их психологическим профилированием. Обратимся к научным данным, накопленным и обработанным за два столетия юридической наукой по этому вопросу.
Уже достаточно давно не только в криминологии, но и в криминалистике существуют попытки создания типологии преступника по отдельным видам преступлений. И это не случайно: личность расхитителя не может не отличаться от личности убийцы или насильника. В криминалистике эта проблема нашла отражение в попытке создания розыскной модели, которая состоит из признаков, имеющих системообразующее значение. Розыскная модель получила соответственно и свое название – «профиль преступника».
Термин «профиль преступника» вначале применялся криминалистами ФБР для описания особенностей и специфических деталей действий («индивидуального порядка») при совершении преступлений. Специалисты, занимающиеся расследованием таких преступлений, как изнасилование и убийство, показали, что можно делать вывод об образе жизни, криминальных особенностях и месте постоянного проживания «серийного преступника» на основании данных, свидетельствующих о том, где, когда и как были совершены ими преступления. Несмотря на то, что эти выводы делались на основе данных, полученных агентами ФБР при расследовании многих преступлений, а также из специальных интервью осужденных за такого рода преступления, они вытекали из дедуктивных заключений, то есть основывались на законах формальной логики.
Опыт каждодневной практики ФБР постепенно сформировал концепцию так называемой «внутренней логики преступления». Ее принципы можно проиллюстрировать, например, предположением, что хорошо разработанное и организованное преступление совершается лицом, которому вообще свойственно тщательно планировать и формировать свою жизнь [9, с. 84]. Данное положение особенно должно быть учтено в психологическом портрете организатора финансирования терроризма, которым, безусловно, не становятся случайные люди и в поведении которого можно проследить определенные психологические закономерности, обуславливающие статус лидера данной преступной группировки. К сожалению, в отечественной криминалистике подобные опыты создания психологических профилей проводились только в отношении серийных сексуальных убийц. Эта попытка была предпринята на основе изучения данных, имеющихся в государственном научном центре (ГНЦ) социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского. Исследование построено на анализе материалов историй болезни лиц, которые обвинялись в совершении серийных сексуальных убийств и проходили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в ГНЦ на протяжении последних 25 лет. Была разработана анкета, которая включала 196 вопросов и была нацелена на получение персонографической (демографической), биографической, психологической, сексологической, криминалистической, виктимологической и психологической информации.
Понятно, что эти полученные данные и разработанные методики не могут быть применены к личности организатора финансирования террористической деятельности, не отвечающей главному системообразующему признаку, лежащему в основе этих методик – серийности совершенных преступлений. Именно отсутствие этого признака и затрудняет использование при формировании портрета организатора так называемую «основополагающую (каноническую) коррекцию». Суть этой процедуры состоит в анализе связи между двумя группами переменных величин. Другими словами, это попытка выведения сложных регрессивных уравнений, которые содержат ряд переменных критериев, а также определенное число прогностических переменных величин. На одной стороне этого уравнения находятся необходимые для следователей переменные величины, извлеченные из информации о преступлении, на другой – характерные особенности преступника, имеющие поисковую ценность.
Так, если А1...n означает действие преступника (включая, например, время, место и выбор потерпевшего), а С1...m означает особенности преступника, то возникает эмпирический вопрос об установлении весовых отношений между F1...] и K1...m в уравнении следующего вида:
F1A1+...+FnAn = K1C1+...+KmCm [11, с. 18].
Вполне очевидно, что связь между функциями F1 и K1 прямо пропорциональна, то есть увеличение информационных данных о времени, месте и, например, предмете преступного посягательства в исправительных учреждениях ведет к увеличению данных о характерных особенностях преступника.
В ряду признаков, которые могут быть положены в основу психологического профиля организатора преступного сообщества, относятся так называемые личностные различия. Исследования этого плана строятся на сравнительном анализе особенностей людей, совершивших разные преступления. Авторы такого рода исследований склонны считать, что имеется какая-то особая причина, толкающая человека на путь совершения особого вида преступлений. Работы Г.Ю. Айзенка, вскрывающие личностные различия между особыми типами преступников, возможно, являются наиболее типичными для этого направления исследований. Применение результатов этих работ на практике сталкивается с неразрешимыми проблемами. Тем не менее, трудно не согласиться, что личность индивида так или иначе не отражается в способе совершения преступления. Проблема заключается лишь в том, чтобы идентифицировать «реальные» переменные А и С, действительно имеющие прямую связь с личностными особенностями преступника.
Как показывают исследования, по сравнению с другими преступниками, организаторы финансирования террористической деятельности являются более адаптированными, т.е. более приспособленными к различным социальным ситуациям и их изменениям: лучше ориентируются в социальных нормах и требованиях, особенно в своей социальной среде. Во многом такой высокой степени адаптивности преступников способствует исламский фактор. Ислам является не только Мировой авраамической религией, но и сравнительно молодой цивилизационной культурой, объединяющей сегодня 1,5 млрд человек на Земле. Ученые-исламоведы, во многом, объясняют радикализм современного Ислама «болезнями роста» этой самой «молодой» Мировой религии, возраст которой 1,5 тыс. лет. Чаще всего, организаторам финансирования не свойственны такие черты, как агрессивность поведения, которые отмечаются у насильственных преступников. Безусловно, у таких лиц отмечается высокий уровень интеллекта, они обладают достаточно хорошими экономическими знаниями и знаниями в области финансовой деятельности. Лидерское положение в преступной группе организаторов финансирования террористической деятельности во многом способствует глубокая вера в Аллаха и хорошее знание Корана.
По мнению В.М. Быкова, с которым можно согласиться, центральное звено (А) в ОПС – это преступная деятельность группы. Первая ядерная страта (Б) – это отношение каждого члена преступной группы к ее преступной деятельности. Вторая страта (В) – это характеристика межличностных отношений, опосредствованных содержанием преступной деятельности группы. Поверхностный слой (Г) – это межличностные отношения между членами группы, основанные на личных эмоциональных связях и выбора, не связанные непосредственно с самой преступной деятельностью группы [1, с. 58].
Последний, так называемый поверхностный слой, на наш взгляд, очень хорошо проанализировала в своем диссертационном исследовании «Личность женщины в механизме преступления и ее значение для криминалистической методики расследования преступления отдельного вида» Л.Ю. Кирюшина [10, с. 97]. Так, исследуя гендерные особенности преступной деятельности банды, организованной в 2000 году на Алтае некоей гражданкой Скосыр-ской, Л.Ю. Кирюшина обратила внимание на старые, всем хорошо известные, но по-прежнему, достаточно надежные и эффективные методы управления, применяемые ею в этом организованном преступном сообществе, наводившем ужас на водителей-дальнобойщиков в течение многих лет на всей территории Алтайского края. В подчинении у этой женщины-главаря было 29 мужчин – «отпетых» убийц и грабителей. Периодически меняя любовников и фаворитов, гр.Скосырская достаточно умело манипулировала членами своей банды, грамотно распределяя роли в проводимых преступных акциях, долгое время, оставаясь недосягаемой для правоохранительных органов. Она активно руководила поиском и хранением оружия и боеприпасов, изготовлением масок, распределяла обязанности и роли между участниками банды, обеспечивала сбыт и дележ похищенного имущества, подыскивала места его хранения. При совершении многочисленных разбойных нападений она всегда оставалась в автомобиле, опасаясь быть опознанной кем-либо. Всего преступной группой под руководством гр. Скосырской было совершено 34 разбойных нападений.
В этом же научном исследовании Л.Ю. Кирюшина отметила и чрезвычайную агрессивность женщин-преступниц, нисколько не уступающую, а иногда и намного превосходящую мужскую агрессию. Та же гр. Скосырская иногда своей жестокостью поражала даже «видавших виды» мужчин – членов банды, когда сама лично, нисколько не брезгуя при этом, отрубала пальцы только что убитым дальнобойщикам, чтобы снять золотые кольца и перстни с еще неостывших трупов [10, с. 99].
В рамках нашего исследования особый интерес представляет типология лидеров ОПС, данная в свое время В.М. Быковым. Он предлагает классифицировать лидеров преступного сообщества на следующие психотипы:

-
1. Лидер – вдохновитель: авторитарный универсальный;
-
2. Лидер – вдохновитель: авторитарный ситуативный;
-
3. Лидер – организатор: демократичный универсальный;
-
4. Лидер – организатор: демократичный ситуативный;
-
5. Лидер – организатор: смешанный универсальный;
-
6. Лидер – организатор: смешанный ситуативный [1, с. 141].
Даже беглого, поверхностного взгляда на типологию преступников, предложенную В.М. Быковым, достаточно, чтобы понять: в качестве классификатора для своей научной системы автор использовал криминальную ситуацию. По сути, мы имеем дело с одной из первых, в целом удачной, попыток психологического профилирования преступников, предпринятых еще в советской криминалистике, с использованием метода ситуационного анализа [6, с. 23].
А теперь с помощью метода ситуационного моделирования попытаемся построить психологический портрет современного организатора финансирования террористической деятельности в России, выявив при этом типичные эндогенные и экзогенные свойства личности преступника, позволяющие в полной мере осуществить научную экстраполяцию. В качестве примера представляем психологические профили двух наиболее ярких представителей организаторов финансирования террористической деятельности [4, с. 17].
С точки зрения ситуационного моделирования особый интерес, на наш взгляд, представляет личность главаря северокавказского бандподполья Саида Бурятского, который, как известно, «преуспел» не только в организации резонансных террористических актов, но также и финансировании ваххабитской деятельности на Северном Кавказе.
Психологический портрет Саида Бурятского:
Саид Бурятский (Александр Александрович Тихомиров) родился 10 февраля 1982 года в городе Улан-Удэ Бурятской АССР. Бурят по матери, русский по отцу Тихомиров многие годы воспитывался отчимом-чеченцем. В школе учился посредственно, был обычным и даже незаметным ребенком. Со взрослыми и учителями вел себя предельно вежливо. В подростковом возрасте несколько лет проучился в буддистском дацане. В 15 лет принял Ислам и взял имя Саид. В последующие годы прошел успешное обучение в исламских университетах Египта и Кувейта. Посещал лекции известных ученых шейхов Махмуда Мисри и Мухаммада Юсри. Известен своей исключительной религиозностью и прилежанием в учебе. Знал наизусть 40 хадисов на арабском языке. Долгое время работал в организации «Дар ум-Акрам». Тесно сотрудничал с религиозным издательством «Умма».
В начале 2008 года Саид получил видеописьмо из Чечни от известного арабского полевого командира Муханнада и решает присоединиться к северокавказскому вооруженному бандподполью. В 2009 году Саид тайно прибывает в Чечню. Он отлаживает каналы финансирования террористической деятельности, используя свои обширные связи с бурятскими бизнесменами. Также Саид придумывает достаточно хитроумные схемы обложения податями бизнесменов Северного Кавказа. Параллельно занимается подготовкой шахидов и изготовлением поясов «смертников».
17 августа 2009 года Саид Бурятский организовал и лично участвовал террористическом акте в Назрани. Автомобиль со взрывчаткой протаранил ворота ГОВД и взорвался на территории отдела милиции. В результате взрыва мощностью от 400 до 1000 кг в тротиловом эквиваленте погибли 25 сотрудников милиции, 260 человек были ранены. Здание Назранов-ского ГОВД в результате теракта было полностью разрушено. 2 марта 2010 года Саид Бурятский был убит в результате проведенной спецоперации в Ингушетии.
По оценкам специалистов, Саиду были присущи такие поведенческие черты характера, как, чрезвычайная собранность, расчетливость, пониженный уровень эмоциональности, умение слушать собеседника, подчеркнутая холодность и часто «деланное» спокойствие при принятии ответственных решений, азиатское умение излагать простые мысли с подчеркнуто важным и весьма значительным видом. В качестве черты характера была отмечена также и холодная, расчетливая жестокость. Являясь ортодоксальным салафитом, Саид отдавал приказы на устранение кяфиров – врагов Ислама практически не задумываясь.
Психологические свойства личности. По типу характера Саид являлся интровертом меланхолического склада. Только в юности у него проявился достаточно высокий уровень интеллекта при окончании исламского университета. В процессе обучения в Египте проявил незаурядные математические способности. Имел яркую предпринимательскую жилку, которая позволила ему в 2009 году отладить финансирование всего северокавказского бандподполья. Он придумал весьма оригинальную схему отмывания нелегальных доходов от наркотиков и оружия, используя оффшорные компании в мусульманских странах, официально исповедующих ваххабизм (салафизм). Саид всегда отличался достаточно высоким уровнем психической адаптации, позволяющим принимать ему, как лидеру, необходимые волевые решения в чрезвычайных ситуациях. Также обладал большой целеустремленностью, решительностью, настойчивостью, выдержкой и самостоятельностью при принятии важных стратегических и тактических решений в деятельности бандподполья.
С точки зрения показателей экстраверсии и нейротизма по Айзенку: по оценкам специалистов, Саид при жизни не отличался особой общительностью, как и все эпилептики, склонные к интроверсии и аутизму. Со слов очевидцев, длительное общение с «братьями по вере», чрезвычайно угнетало и утомляло Саида. Этому общению он всегда предпочитал уединение и молитвы.
С точки зрения акцентуации характера по системе П.Б. Ганнушкина и на основании имеющихся данных Саид, безусловно, являлся эпилептоидом конституциональнодепрессивного типа. В течение всей его недолгой жизни у него было зафиксировано несколько приступов эпилепсии. Будучи абсолютным эпилептоидом, он почти всегда находился в мрачном расположении духа, был крайне осторожен по отношению ко всему незнакомому; привержен к строгим правилам, аккуратности и порядку. Очевидно, именно отсюда его исключительное прилежание в учебе, которая позволила добиться ему таких успехов в изучении Корана и стать безусловным лидером ваххабитского движения на Северном Кавказе. Известный публицист Гейдар Джемаль, неоднократно выражавший свои симпатии террористам, назвал Тихомирова «…символом нового поколения в эпопее кавказской войны, в жилах которого течет русская и бурятская кровь».
Для наиболее полного представления личности преступников осуществляющих финансирование терроризма следует рассмотреть психологический портрет другого террориста – Самера Салех ас-Сувейлема (Хаттаба).
По данным российских спецслужб наиболее успешным финансистом террористической деятельности на территории Северного Кавказа был Самер Салех ас-Сувейлем, известный как полевой командир в Чечне Хаттаб. Хаттаб был иорданским евреем по матери. Он родился 14 апреля 1969 года на территории Саудовской Аравии. Его отец был старейшиной кочевого бедуинского племени, которое кочевало на границе Саудовской Аравии и Иордании. С детства Хаттаб отличался острым умом и творческим воображением. Очень любил лицедейство. Имеются факты, что Хаттаб в детстве устраивал домашние театральные постановки, чем развлекал своих родственников.
В 1987 году родные отправляют Хаттаба на учебу в США (г. Нью-Йорк). Однако очень скоро Хаттаб попадает в ваххабитскую организацию арабов-мигрантов, заражается идеями «салафийя», бросает колледж и уезжает на священную войну «газават» в Афганистан. В 1987 году он принял участие в активных боевых действиях под Джелалабадом и Кабулом, был тяжело ранен в живот. В результате взрыва гранаты он потерял несколько пальцев на обеих руках, поэтому его прозвали «Одноруким арабом». С 1995 по 2002 гг. Хаттаб являлся одним из руководителей вооруженных формирований самопровозглашенной Чеченской рес-
публики Ичкерия на территории Российской Федерации. Активно проповедовал идеи «сала-фийя» и религиозной священной войны («газават»). Являлся бессменным главным бухгалтером и кассиром террористических организаций «Исламская международная миротворческая бригада» и «Высший военный маджлисуль шура объединенных сил моджахедов Кавказа». В рамках настоящего диссертационного исследования особый интерес представляет именно эта деятельность Хаттаба. Именно Хаттаб организовал бесперебойное зарубежное финансирование закупки боеприпасов и обустройства лагерей по подготовке боевиков и шахидов на территории Чечни. И только ликвидация Хаттаба в результате спецоперации российских спецслужб 20 марта 2002 года, наконец-то, остановило этот финансовый поток из-за рубежа.
По версии российских спецслужб, Хаттаб являлся «двойным» агентом спецслужб США и Саудовской Аравии. Вероятнее всего, Хаттаб был завербован ЦРУ США еще в 1987 году. Полагаем, именно спецслужбы США и Саудовской Аравии являлись главными источниками финансирования террористической деятельности полевых командиров на территории Чечни. Отголоски финансовой деятельности Хаттаба (правда, уже не в таком объеме), мы до сих пор можем наблюдать на территории Дагестана и Ингушетии.
По оценкам специалистов, Хаттабу присущи такие черты характера, как, расчетливость, пониженный уровень эмоциональности, агрессивность, фанатичная религиозность в сочетании с довольно прагматичным светским мышлением. Говоря о психологических свойствах личности, следует дать характеристику по типу характера. Так, Хаттаб являлся экстравертом холерического склада. Однако, даже по тем скудным данным, которыми мы располагаем, Хаттабу была свойственна так называемая «мозаичная» акцентуация характера. То есть, вкрапление в акцентуацию гипертима акцентуации истероидного типа. Полагаем, именно этим фактом объясняется склонность Хаттаба к жестоким театральным постановкам с отрезанием голов российским военнопленным. Экспертами при жизни у него был отмечен достаточно высокий уровень интеллекта (выше среднего) при наличии неоконченного среднего образования. Имел достаточно высокий уровень психической адаптации, позволяющий принимать ему необходимые волевые решения в критических ситуациях. Всегда отличался большой целеустремленностью, решительностью, настойчивостью, выдержкой и самостоятельностью при принятии важных стратегических и тактических решений в деятельности ваххабитов. Мог сплотить вокруг себя и возглавить большую группу людей.
С точки зрения показателей экстраверсии и нейротизма по Айзенку, Хаттаб всегда отличался невероятной общительностью и, одновременно, повышенной тревожностью и склонностью к фрустрации. Имея акцентуацию «мозаичного» типа, Хаттаб во время своей недолгой жизни проявил достаточно большие артистические способности, что, обычно, свойственно психопатам истероидного типа [5, с. 86].
Сказанное выше позволяет сделать вывод, что психопатии истероидного типа – наиболее распространенный вид аномалии характера, встречающийся среди лидеров радикальных исламских организаций. А это означает, что криминалисту, приступающему к расследованию таких сложных преступлений, связанных с финансированием терроризма, необходимо вооружиться, кроме религиоведения, еще фундаментальными знаниями в области судебной психиатрии и юридической психологии. Что же касается психологического профиля ваххабита, то здесь ситуация осложняется тем, что отсутствует самая главная детерминанта, необходимая для выведения уравнения канонической корреляции – серийность преступлений, если только не считать устойчивым признаком совершения преступлений исследуемого вида приверженность лица учению салафитов (салафия). Выстраивая психологический профиль российского ваххабита, авторы предлагаемой статьи основывались на материалах уголовных дел, возбужденных по признакам статьи 205 «Террористический акт», 205.1 «Содействие террористической деятельности» УК РФ. При этом в своем исследовании авторы умышленно не касались проблемы шахидов, которая требует самостоятельного изучения и выходит за рамки исследовательских задач настоящей статьи.
Список литературы Ситуационное моделирование в расследовании преступлений, связанных с финансированием терроризма
- Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп: монография. Ташкент: Изд-во ВШ МВД СССР. 1986.
- Воронин С.Э,. Ахмедшин Р.Л., Алексеева Т.А. Психотипологический подход в системе криминалистического знания аспекты: монография. Красноярск: Изд-во Сибирского института бизнеса, управления и психологии, 2015.
- EDN: UXXUML
- Воронин С.Э., Воронина Е.С., Железняков А.М. Организация преступного сообщества: уголовно-правовые и криминалистические аспекты. Красноярск: Изд-во Сибирского института бизнеса, управления и психологии, 2015.
- EDN: VBLAOH
- Воронин С.Э. Использование полиграфа и метода психологического профилирования в расследовании преступлений, связанных с религиозным экстремизмом/Российский следователь. 2016. № 3. С. 16-19.
- EDN: VKSKRX
- Воронин С.Э., Кузнецова С.М. Психологический портрет организатора преступного сообщества // Вестник Казанского юридического института МВД РФ. 2016. № 1 (23). С. 80-87.
- EDN: VNUAAP