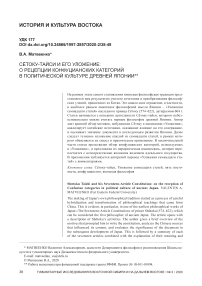Сётоку-Тайси и его уложение: о рецепции конфуцианских категорий в политической культуре древней Японии
Автор: Матвеенко Валентин Александрович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История и культура Востока
Статья в выпуске: 2 (52), 2020 года.
Бесплатный доступ
На раннем этапе своего становления японская философская традиция представляется нам результатом умелого сочетания и преобразования философских учений, пришедших из Китая. Это нашло свое отражение, в частности, в наиболее раннем памятнике философской мысли Японии - «Уложении семнадцати статей» наследного принца Сётоку (574-622), датируемом 604 г. Статья начинается с описания деятельности Сётоку-тайси, которого небезосновательно можно считать первым философом древней Японии. Автор дает краткий обзор мотивов, побудивших Сётоку к написанию «Уложения», анализирует китайские источники, оказавшие влияние на его содержание, и оценивает значение документа в последующем развитии Японии. Далее следует тезисное изложение каждой из семнадцати статей, в рамках которого объясняется их смысл и практическое применение. В заключительной части статьи представлен обзор конфуцианских категорий, используемых в «Уложении», и предложена их иерархическая взаимосвязь, которая переплетается с непосредственно японским видением идеального государства. В приложении публикуется авторский перевод «Уложения семнадцати статей» с комментариями.
Сётоку-тайси, уложение семнадцати статей, пять посто-янств, конфуцианство, японская философия
Короткий адрес: https://sciup.org/170175940
IDR: 170175940 | УДК: 177 | DOI: 10.24866/1997-2857/2020-2/38-48
Текст научной статьи Сётоку-Тайси и его уложение: о рецепции конфуцианских категорий в политической культуре древней Японии
Идея о склонности японской культуры впитывать инокультурные изменения, усиленно адаптируя их под собственный культурный паттерн, широко известна и не требует дополнительных доказательств. То же можно сказать и о философской традиции Японии, которая развивала собственное культурное ядро путем творческой адаптации внешних по происхождению идей.
Ярким образцом такого стремления уже на самом раннем этапе становления японской культуры, в период Асука (537–710), можно назвать древнейший японский письменный памятник, составленный в 604 г., «первый законодательный документ» [14, c. 8] и наиболее ранний образец японской политико-философской традиции – «Уложением семнадцати статей»1 (яп. дзю:ситидзё: кэмпо:, 十七条憲法 ), в котором нашли свое отражение философские интуиции его составителя, ориентированные на распространение и укрепление буддийского учения и конфуцианских максим (в определенной мере смешанных с протосинтоистскими представлениями). Все они в совокупности должны были стать отправной точкой в процессе формирования централизованного государства по китайскому образцу и отражают устремления правящей элиты легитимировать собственное господство.
Авторство документа традиционно приписывается племяннику правившей в 593–628 гг. императрицы Суйко (554–628) наследному принцу Сётоку (574–622), известному также как Сётоку-тайси2, который занимался непосредственным управлением государством. Помимо известной поддержки буддийского учения с его именем связаны два важнейших события в политической истории древней Японии: уста- новление в 603 г. системы придворных рангов, которая предполагала возможность назначения на должности на основании личных заслуг и талантов, а не на основании родственных связей, а также, собственно, составление в 604 г. «Уложения». Помимо «Уложения» Сётоку приписывается авторство не дошедших до наших дней «Записи государей» (яп. тэнно:ки, 天皇記) и «Записи страны» (яп. коки, 国記). Несмотря на такую значимость, о его жизни доподлинно известно немного, а на русском языке его личности не посвящено ни одного специального исследования3.
Согласно хронике «Нихон сёки», принц собственнолично написал «Уложение», однако историки до сих пор спорят не только о том, действительно ли Сётоку являлся автором этого документа, но и о том, жил ли он вообще4. Тем не менее, несомненно, что «Уложение» является первым образцом японского политического мышления и отражает присущие своему времени стремления. Более того, мы солидарны с Т. Касулисом в том, что Сётоку-тайси был не кем иным, как первым японским философом: не потому, что предложил какую-либо философскую систему, но потому, что продемонстрировал сам процесс философствования. Нам видится удачным то сходство, которое отмечает исследователь, ссылаясь на первую книгу «Метафизики», где Аристотель говорит о Фалесе как о философе, потому что последний изложил свое видение действительности не на основе мифа, а на почве размышления [25, p. 2]. Так и «Уложение» Сётоку является образцом не эклектики, а умелого и понимающего анализа и синтеза традиций, пришедших из Китая и корейских государств, что и рождает собственно философский интерес: желание понять рефлексивное основание сложившегося синкретизма.
Во времена написания «Уложения» Япония еще не имела собственной оригинальной письменности, поэтому текст был записан на камбуне , японизированной версии китайского классического языка вэньянь . Сам по себе этот факт также оказал значительное влияние на зарождение в Японии философской мысли, так как использование китайского языка предполагало не только умение писать на нем, но и, разумеется, читать, то есть благодаря переселенцам с материка и собственным посольствам развивающееся японское государство имело доступ к многовековому философскому наследию китайской культуры.
Оригинал «Уложения», к сожалению, не сохранился, однако оно не было забыто и в полном виде воспроизведено в официальной государственной хронике «Нихон сёки», законченной в 720 г., то есть спустя столетие после смерти Сётоку, что прямо, на наш взгляд, указывает на значимость излагаемых в тексте политических принципов, вокруг которых строилось государство.
Распространенный перевод названия документа как «конституции» мы считаем не совсем верным, и таковое именование (яп. кэмпо: 憲 法), скорее всего, было присвоено ему значительно позже [14, с. 11]. Конституция, в общем и целом, должна определять государственное устройство, но в тексте памятника этому не уделяется внимание: он являет собой нечто иное – поучения и наставления правителя в адрес всего чиновничества. Разумеется, это не говорит о том, что сам Сётоку и вся политическая элита не были заинтересованы в формализации государственного устройства и государственных процедур, напротив, изложенные в «Уложении» идеи постепенно претворялись в жизнь в процессе становления японского государства. Этому свидетельствуют не только изданный в 646 г. законодательный акт «Манифест Тайка» (яп. тайка кайсин-но микотонори, 大化改新詔), где обрели свое воплощение и развитие идеи, изложенные в «Уложении», но и написанные в последующий период Нара (710–784) в рамках сложившейся системы уголовного и гражданского права рицурё:сэй законодательные своды «Тайхо: рицурё:» (яп. 大宝律令, 701–702 гг.) и «Ё:ро рицурё:» (яп. 養老律令, 718 г.).
Однако ни один другой документ в истории Японии более не был назван словом «конституция», кроме «Конституции Мэйдзи» (яп. дайниппон тэйкоку кэмпо: , 大日本帝國憲法 ) в 1890 г., что позволяет рассматривать «Уложение» как своеобразную «интеллектуальную основу» [4, с. 67] последующих законоположений и политических доктрин, таких как «Клятва пяти пунктов» 1968 г. (яп. гокадзё:-но госэй-мон, 五箇条の御誓文 ), «Основные принципы кокутай » 1973 г. (яп. кокутай-но хонги , 国体の 本義 ) и «Императорский рескрипт об образовании» 1890 г. (яп. кё:ику ни кансуру тёкуго , 教育 ニ関スル勅語 ) [24, p. 30]. В один ряд с этими документами (однако по несколько иной при-чине) можно поставить и «Уложение для императорского двора и аристократии» (яп. кинтю: нарабини кугэ сёхатто , 禁中並公家諸法度 ), регламентировавшее отношения с императорским домом и составленное сёгуном Токугава Иэясу в 1615 г. Документ, подобно «Уложению» Сёто-ку, был разделен на семнадцать пунктов, чтобы придать ему больший вес [16, с. 209].
Источниками «Уложения» и самого политического дискурса древней Японии являются многочисленные конфуцианские, буддийские и даосские сочинения, которые читал Сётоку в ходе своего обучения совместно со своими наставниками и советниками [14, с. 12; 25, p. 9]. Среди этих текстов конфуцианские произведения определялись как важнейшие [18, с. 206]. Скорее всего это были:
– те китайские тексты, которые впоследствии стали обязательными в образовательной системе нарской Японии: пользующиеся отдельным почтением «Лунь юй» или «Избранные бесе-ды»5 (яп. ронго, 論語 ) и «Сяо цзин» или «Канон сыновней почтительности» (яп. ко:кё:, 孝經 );
– трактаты, которые можно было изучать по выбору и которые делились на несколько подгрупп. В «большую» группу входили «Ли-ц-зи» или «Книга ритуалов» (яп. райки, 禮記), в особенности ее отдельные главы «Да сюэ» или «Великое учение» (яп. дайгаку, 大學) и «Чжун юн» или «Учение о середине» (яп. тю:ё:, 中庸), а также «Чуньцю Цзо чжуань» или «Комментарии Цзо к “Веснам и осеням”» (яп. сюндзю: са- сидэн, 春秋左氏傳). В «среднюю» группу входили «Ши цзин» или «Канон песен» (яп. сикё:, 詩經), «Чжоу ли» или «Чжоуские ритуалы» (яп. сюрай, 周禮) и «И ли» или «Церемонии и ритуалы» (яп. гирай, 儀禮). В «малую» группу входили «И-цзин» или «Канон перемен» (яп. экикё:, 易經) и «Шу-цзин» или «Канон истории» (яп. сё:кё:, 書經) [17, c. 30–32]. Изучались также и комментарии к этим текстам, так как оригинал любого произведения содержался в составе комментария к нему.
Ниже мы бы хотели представить краткое изложение основных идей «Уложения», акцентируя внимание не только на конфуцианских элементах в «Уложении» (что является основным замыслом настоящей работы и нашло отражение в предлагаемой версии перевода6), но и при необходимости на том, как умело эти элементы сопрягались с исконно японскими представлениями о правлении и некоторыми буддийскими «корректировками» этого способа.
Любому подобному документу присуща его собственная внутренняя иерархия, благодаря которой мы можем отметить степень значимости употребляемых категорий. Поэтому несомненный интерес представляет тот факт, что «Уложение» в первой статье начинается со слов: «Согласие – сделайте [своей] ценностью, а уступчивость – [своей] основой». Таким образом, первое место в этом своде политических и моральных наставлений отдано не необходимости чтить императорскую власть (что помимо прочего является одной из главных целей проводимых реформ и самого документа), не декларированию законов, а соблюдению согла-сия7 (яп. ва, 和) между людьми! В статье эта мысль продолжается и далее: «Однако, [когда] верх [обладает] согласием, а низ – дружелюбием, [когда есть] слаженность в обсуждаемых делах, какое дело [тогда] не [завершится] успешно?». Несмотря на то, что в дальнейшем в тексте «Уложения» (как и во многих других памятниках древней Японии) не дается хоть какого-либо определения согласия, не указываются конкретные пути его достижения или его источник, что делает эту категорию, возможно, самым «недоопределенным политическим концептом» [24, p. 30] Японии, мы убеждены в ее ключевой роли в формировании политического нарратива.
Однако, возможно, такая расстановка приоритетов обусловлена и более тривиальной причиной: согласие здесь является не только политическим идеалом, но и «призывом к здравому смыслу» [25, p. 7]: Сётоку был регентом при императрице Суйко, которая правила в 593– 628 гг. и была поставлена на трон в качестве промежуточной фигуры после убийства императора Сусюн8, но так и не стал императором по неизвестным причинам [6, с. 55–56]. Наблюдаемая юным Сётоку постоянная вражда кланов Сога и Мононобэ и их противоречия в вопросах внешней политики, возможно, и послужили одним из источников почитания согласия.
В то же время мы полагаем, что само выражение «сделайте согласие своей ценностью» (яп. 和爲貴) заимствовано из «Лунь юй» 1.129 («[Когда] соблюдают ритуал, гармония10 будет в почете») или из «Ли-цзи» («В ритуале [для ученого] всего ценнее гармония [между людьми]» [9]), тексты которых были прекрасно известны Сётоку из его занятий с учителями. Отметим, сущности японской категории ва, а вопрос о возможности подобного соотнесения требует отдельного исследования. То же относится и к остальным японским и китайским категориям, русскоязычный перевод которых может привлечь излишние смыслы, несвойственные японской философской традиции.
что в оригинале обе эти цитаты записаны практически идентично ( 禮之用和為貴 и 禮之以和 為貴 соответственно). Более того, характерная терминология позволяет увидеть в статье не что иное, как парафраз первого чжана конфуцианского текста «Сяо цзин», который начинается со слов: «Цари древности обладали всеобъемлющей силой добра-дэ и внушали путь-дао, посредством этого Поднебесная была [им] послушна, народ решал [дела] согласием и дружелюбием, верхи и низы обходились без злобы».
Как бы то ни было, в случае с категорией ва мы убеждены в том, что это не простая калька китайской категории хэ , которую можно без труда обнаружить в том же «Лунь юй» и в других местах, например, в чжане 13.23: «Благородный человек в гармонии [с людьми], но не подстраивается [под них]. Низкий человек подстраивается [под людей], но не в гармонии [с ними]». Это связано не только с ролью, отводимой этой категории (неслучайно она в «Уложении» на первом месте), но и с ее семантикой, которая значительно шире, чем у китайской хэ .
Вторая статья «Уложения» начинается со слов «Искренне чтите Три Драгоценности. [Эти] Три Драгоценности суть Будда, Дхарма и сангха», что ярко демонстрирует нам глубокое почтение, которое Сётоку испытывал к буддийскому учению, распространителем которого он являлся сам и которое поддерживал клан Сога. Авторству Сётоку помимо «Уложения» и двух упомянутых выше хроник приписываются также «Комментарии к Сутре о Шримале» (яп. сё:мангё-гисё , 勝鬘経義疏 ), «Комментарии к Лотосовой сутре» (яп. хоккэ-гисё , 法華 義疏 ) и «Комментарии к Сутре о Вималакир-ти» (яп. юймагё-гисё , 維摩経義疏 ). Выбор этих сутр, по-видимому, связан с тем, что на троне в то время была Суйко, правитель-женщина. Так, в «Сутре о Шримале» главное действующее лицо – тоже женщина, а достижение мира и процветания связывается с инкорпорированием буддийских норм в правление [25, p. 10]. В «Лотосовой сутре» женщинам не отказано в возможности достичь освобождения при жизни [20]. Следует отметить, что во время правления Суйко и Сётоку Япония имела тесные связи с поддерживающим буддизм суйским Китаем, куда регулярно отправлялись молодые люди изучать буддизм и китайскую культуру.
Третья статья говорит о необходимости следования императорским указам и воле императора, что является ярким примером наметивше- гося к тому моменту процесса централизации власти. Также здесь вводится широко используемое в китайской традиции разграничение на «небо» и «землю»: «Государь берет свой пример с Неба, подданные – с Земли. Небо – покрывает [собой], Земля – принимает [в себя]». Это можно интерпретировать как своеобразное изложение основ конфуцианской иерархии в правлении и социальной дифференциации, которые в конечном итоге подчеркивают зависимость происходящих событий от поступков правителя и его подданных. Это указывает на понимание Сётоку конфуцианства как механизма для управления государством через упорядочивание государственных ролей и отношений между ними, в то время как буддизм связывался скорее с персональным аспектом человеческой жизни, чем с социальным.
Здесь мы хотим обратить внимание на предположение Т. Касулиса о том, что Небо, упоминающееся в третьей статье и записанное иероглифом 天 , подразумевает не столько китайскую концепцию тянь , сколько японскую концепцию ам [25, p. 12]. Известно, что столетием позднее в обеих официальных хрониках Японии, «Код-зики» и «Нихон сёки», будет постулировано происхождение императорской власти и фамилии «генетически» от Неба (то есть от божеств) в противовес китайской концепции небесного мандата ( 天命 – кит. тяньмин , яп. тэммэй, ), но сама по себе эта генетическая связь ни в «Код-зики», ни в «Нихон сёки» не объясняется, как не объясняется и в тексте «Уложения». Т. Касу-лис связывает это с тем, что на момент написания «Уложения» концепция небесного мандата уже была отвергнута, так как противоречила устоявшемуся к тому времени представлению о генетической связи императорского рода с небом [25, p. 13], которое, возможно, было раскрыто в недошедших до наших дней записях Сётоку.
В четвертой статье вводится одно из пяти конфуцианских постоянств11 – ритуал (禮 – кит. ли, яп. рэй), который описывается как «основа всего». Тем самым Сётоку продолжает следовать конфуцианской традиции, так как следование ритуалу позволяет правлению осуществляться «самим собой». Отдельно стоит заметить, что в этом наставлении Сётоку обращается не только к тем, кто служит непосред- ственно при императорском дворе, но и к тем, кто служит вне его стен.
Пятая статья призывает чиновников вести дела мудро, но не исходя из собственной выгоды, а к жалобам имущих и неимущих относиться с одинаковым усердием. Тем самым данная статья, как и несколько следующих, закладывает основы регламентации чиновничьей деятельности и подчеркивает «всеобщий» характер уложения.
Шестая статья также продолжает конфуцианские идеи «Уложения», в ней вводятся важнейшие категории конфуцианства: человечность ( 仁 – кит. жэнь , яп. дзин ), второе конфуцианское постоянство, и верность ( 忠 – кит. чжун , яп. тю: ). В этой же статье приводится одна из важнейших этических норм конфуцианства, которая в «Уложении» звучит следующим образом: «Наказывать зло и поощрять добро – хороший обычай древности. Потому не скрывайте человеческое добро, а увидев зло, непременно исправляйте [его]». В несколько ином виде ее можно обнаружить в «Лунь юй» 14.34: «На добро следует отвечать добром, на злобу следует отвечать по справедливости».
Одна из задач всего документа – это описание идеального государства, поэтому в этой статьей Сётоку продолжает выстраивать образ идеального чиновника: он порицает лесть, ложь, зависть и злословие, которые ведут к гибели народа и государства.
Привнесение в текст «Уложения» категории «человечность», на наш взгляд, подчеркивает глубокое понимание Сётоку китайской классики и сводит на нет возможные предположения о компиляционном характере «Уложения». В конфуциевом понимании человечность – это не просто рефлексивное переживание причастности Другому, но и экзистенциальный способ интериоризации ритуала, то есть способ отношения к ритуалу не как к чему-либо внешнему, а как к части собственной экзистенции12. Поэтому мы считаем неслучайным совместное использование в «Уложении», хотя и в разных его статьях, обеих конфуцианских категорий – ритуала и человечности, так как «не обладающие верностью и человечностью люди», о которых Сётоку пишет в шестой статье, по сути своей те, кто не соблюдают ритуал.
Седьмая статья говорит о том, что обязанности и полномочия человека должны соответ- ствовать его способностям, иное положение дел рассматривалось как уголовное правонарушение [21, p. 61–62]. Начиная с этой статьи в тексте уложения будет присутствовать оппозиция терминов сакаси (賢) и хидзири (聖), каждый из которых можно перевести как «мудрец». Данная пара дважды встречается в этой статье, единожды в 10-й и дважды в 14-й. Подробно эти термины проанализировал М. Комо [22], поэтому мы отметим здесь лишь иерархию в отношениях между двумя этими терминами во времена написания «Уложения». Слово хидзири в своих наиболее ранних употреблениях записывается с помощью знаков «солнце» (日 – яп. хи) и «знать» (知 – яп. сири)13, которые, таким образом, формируют его чтение, причем знак 知 помимо значения «знать» имеет также смысл «править» и «владеть» [5, с. 26–27; 28, p. 158– 161]. Таким образом, данный концепт подразумевает под собой мудреца-правителя и указывает на его космическую связь с солнцем, что делает его термином более высокого порядка и подчеркивает связь такого мудреца-правителя с Небом, о которой мы писали выше. Данный термин прежде всего указывает на функцию мудреца как посредника между Небом и Землей, эти коннотации могут быть обнаружены в «Нихон сёки» в контексте описания сотворения мира: «Поэтому сначала установилось Небо, а Земля сделалась потом. И тогда между ними родились божества» [12, с. 115]. В оригинале этого отрывка используется не просто слово «божества» (神 – яп. ками), а камихидзири (神聖), то есть «божественные мудрецы», что указывает на роль мудрецов-хидзири как со-творителей мира в метафорическом и буквальном смыслах [5, с. 62; 22, p. 74]. Эта космологическая установка переработанной конфуцианской терминологии позволяет нам артикулировать особую роль ассоциированного с хидзири правителя в политической системе древней Японии как транслятора воли солнца, от которого происходит правящий род. На это в «Уложении» также указывает бином хидзири-но кими (聖王), «мудрец-правитель».
Иероглиф сакаси такой связи не имеет и подразумевает под собой не «небесную» мудрость, а мудрость «земную», поэтому сакаси можно понимать как «мудрец-подданный». В уложении эти два типа мудрецов упоминаются в паре, тем самым подчеркивается необходимость наличия и того, и другого для осуществления должного правления. Кроме того, следует отметить, что сакаси встречается в тексте пять раз, что прямо свидетельствует о целенаправленном и осознанном указании на конфуцианскую концепцию мудрого правления.
Для нашей работы эта оппозиция имеет большое значение потому, что наиболее наглядно демонстрирует то, как политическая элита древней Японии воспользовалась конфуцианской терминологией мудрого правления для обоснования собственной легитимности, что позволило сделать Сётоку продолжателем нарративной традиции китайской классики. М. Комо приводит анализ частотности употребления термина хидзири в «Нихон сёки» и обнаруживает, что оно используется исключительно по отношению к представителям японского императорского рода, либо по отношению к китайским правителям древности, тем самым указывая на то, что китайские «мудрецы древности» приходились нормативными моделями для правителей Японии. Также он отмечает, что наиболее часто данный термин употребляется именно по отношению к Сётоку [22, p. 80], так как его уже с рождения сравнивали с мудрецом [13, с. 91, 106]. Таким образом, при переводе «Уложения» мы придерживались вышеуказанных трактовок и стремились переводить хидзи-ри как «мудрый правитель», а сакаси – как «разумный подданный» или «разумный советник».
Восьмая статья призывает чиновников прикладывать больше усилий в службе: приходить раньше и уходить позже, так как время, проводимое на службе, являлось практически главным компонентом чиновничьей деятельности. Этот взгляд нашел свое отражение и в упомянутом кодексе «Тайхо: рицурё:», согласно которому такие проступки, как беспричинная неявка, опоздание или самовольный уход являлись уголовно наказуемыми [21, p. 53–54, 63–64]. Подробнее о регламентации деятельности чиновников можно прочесть в исследованиях М.В. Грачева [2; 3]. Столь особенное внимание к времени, вероятно, объясняется тем, что оно было формой подношения народа и чиновников императору: народ «подносил» его за работами, а чиновники – за службой. Это, в свою очередь, было связано с тем, что император считался своеобразным «хозяином времени» [11, с. 64– 65]. Так, именно по его велению составлялись исторические хроники, а за интронизацией нового императора (а порой и во время правления, но по его же указу) вводился новый девиз правления (年号 – яп. нэнго), что по сути являлось новой точкой летоисчисления. В идеале у подданных вообще не должно было быть личного времени, за что в результате можно было получить аттестацию по высшему разряду [2, с. 26].
В девятой статье говорится о третьем конфуцианском постоянстве – доверительности (или доверии) ( 信 – кит. синь , яп. син ): «Доверие – основа должного [хода вещей], в каждом деле должно быть доверие». Эта категория, на наш взгляд, является одной из ключевых в политической культуре древней Японии и составляет условие достижения согласия ва . Упоминаемая в этой же статье категория «должное» ( 義 – кит. и , яп. ги ) в такой системе является регулятивным принципом, который приводит это условие возможности к жизни. Также ги является в конфуцианстве еще одним, четвертым, постоянством. Необходимо отметить, что иероглиф 義 , обозначающий категорию должного, в корпусе конфуцианских источников иногда мог записываться омофоном 儀 , который можно перевести как «церемония», «манеры поведения», «поведение» или «правила», так как изначально оба знака несут семантику организации порядка. Сами случаи замены связаны с тем, что зачастую при выборе иероглифа для записи слова не последнюю роль играл не только смысл самого слова, но и смысл, диктуемый тем или иным иероглифом. Таким образом, первое предложение этой статьи может подразумевать под ги в том числе и правила, то есть мы можем предположить следующий перевод открывающего статью предложения: «Доверие – основа правил [поведения], в каждом деле должно быть доверие».
Выше мы уже отмечали, что Сётоку руководствуется конфуцианскими идеалами в первую очередь, когда речь идет об управлении государством, но когда речь идет о собственном я, в ход идут буддийские максимы. Так, уже в первых строках десятой статьи звучит призыв к смирению: «Уничтожьте [в себе] гнев, отбросьте негодование, не сердитесь на людей, отличных [от вас]». Эти и другие слова ярко демонстрируют нам умелое сочетание Сётоку конфуцианского и буддийского учений: государство не может функционировать иначе, чем как строгая иерар- хичная система, где каждому субъекту отводятся свои роль и место, но подобная система не отменяет равенства всех людей: «У всех людей есть сердце, а у каждого сердца есть убеждения; приемлемое для другого – не [приемлемо] для меня, приемлемое для меня – не [приемлемо] для другого. Сам я не обязательно мудр, другие не обязательно глупы – мы все [лишь] обычные люди».
Одиннадцатая статья продолжает конфуцианскую идею о мудром управлении государственными делами, изложенную в пятой статье. Слова Сётоку «в последнее время поощряют за неимение заслуг, а наказывают за неимение промахов», говорят о его несогласии с имевшейся в то время системой назначения на государственные должности, где главным «качеством» было фамильное имя претендента. Напомним, что с Сётоку связано введение в Японии системы из двенадцати рангов, движение по которой предполагало наличие заслуг, умений и достижений. То, как эта система функционировала на деле, конечно, другой вопрос, однако мы склонны считать, что данная статья является выражением именно этого стремления.
Двенадцатая и шестнадцатая статьи отражают проводимые земельные и налоговые нововведения, начатые с целью централизации власти. Двенадцатая статья предвещает изменения в системе налогообложения, в результате которых местные налоги будут упразднены и заменены на государственные, что впоследствии отразится в первой статье «Манифеста Тайка». Изменения, указанные в шестнадцатой статье «Уложения», касаются трудовой повинности, в частности – регулирования привлечения крестьян к строительным работам. В упомянутом «Манифесте» они своего отражения не найдут, но будут зафиксированы в VII в. в кодексе «Тайхо: рицурё:»14. Сётоку называет предлагаемые изменения «хорошими правилами древности», имея в виду «Лунь юй» 1.5: «Управлять государством в тысячу колесниц: вести дела внимательно, но честно, упорядочивать расходы, но любить людей, распоряжаться народом согласно времени». В то же время мы полагаем, что речь здесь также идет об упомянутом выше управлении временем, так как следование «хорошему правилу древности» предполагает, что у крестьянина не останется свободного времени: он будет либо на сезонных, либо на государственных работах.
Тринадцатая статья, как и восьмая, призывает чиновников нести службу с большим рвением и подчеркивает постулируемую «Уложением» идею согласия: «Однако в день, когда следует вернуться к делам, приступайте, как и раньше, должно согласию».
О том же говорится и в пятнадцатой статье, где подчеркивается разграничение «личного» и «государственного», чтобы первое не мешало службе: «Отвернуться от личного к государственному – единственный путь подданного. [Когда] простого человека одолевает личное, непременно его одолеет и злоба. [Если же] есть недовольство, никогда не бывать сплоченности. [Когда же] нет сплоченности, личное вредит государству: возникая, недовольство нарушает порядок и вредит законам».
Четырнадцатая статья вводит последнее, пятое, постоянство учения Конфуция – мудрость или рассудительность ( 智 – кит. чжи , яп. ти ). Помимо этого, статья продолжает мысль о необходимости наличия не только мудрого правителя, но и мудрых подданных для осуществления должного правления: «Однако как править государством, не имея способных [советников] и мудрых [правителей]?».
Эта же мысль присутствует и в заключительной семнадцатой статье «Уложения», которая указывает на необходимость различных точек зрения при решении сложных дел: «Все дела не решить одному, [их] следует обсуждать вместе [с другими]». Это вполне соответствует высказанной ранее в десятой статье идее о том, что мудрость может исходить от любого, а не только от правителя, так как все мы – просто люди. В этом и заключается разница между конфуцианским идеалом правления и идеалом, описываемым Сётоку: правитель не является единственномудрым, ему необходимы его советники, которые могут направить «я» правителя в должное русло и воспрепятствовать его излишнему проявлению в правлении [25, p. 12], подчеркивая идею согласия как двигателя государства.
Все вышесказанное прямо указывает на то, что китайские философские тексты, попавшие в Японию вместе с иммигрантами и учеными с корейского полуострова, кардинальным образом повлияли на язык, который использовало древнеяпонское государство на самом раннем этапе своего становления. Особую роль в этом процессе сыграла непосредственно конфуцианская классика, предлагавшая вполне конкрет- ные модели правления, которые использовались правителями древней Японии: не только концепция мудрого правления, но и практики гадания и интерпретации предзнаменований.
Однако, подытоживая наш краткий обзор содержания «Уложения», мы считаем необходимым отметить два аспекта, на которые в своем очерке об «Уложении» указывает Т. Касулис. По мнению исследователя, они не позволяют считать «Уложение» непосредственно конфуцианским произведением или рецепцией исключительно конфуцианской политико-философской традиции. Обратного мы, разумеется, не утверждаем, что ясно следует из наших комментариев к документу, но, тем не менее, выделим данные замечания.
Т. Касулис отмечает, что, во-первых, в документе никак не упомянута конфуцианская программа обучения, ориентированная на изучение классики с целью понимания «пути царей древности», который Конфуций считал основой своего учения. Во-вторых, не сказано, что авторитет и полномочность правителя зиждется на Небесном мандате [25, p. 9].
Данные замечания совершенно справедливы, однако и сам исследователь, и мы отмечали, что рецепции Небесного мандата не произошло ввиду наличия в Японии уже сложившейся генетической традиции интерпретации авторитета императорской власти. Вопрос же о конфуцианской программе обучения, на наш взгляд, является спорным, так как, с одной стороны, ни в «Уложении», ни в каких-либо других документах действительно нет призыва к постижению «пути царей древности» и следованию ему, но, с другой стороны, конфуцианский базис японской образовательной системы очевиден и неоспорим.
В завершение отметим, что наиболее важным в вопросе о конфуцианских истоках «Уложения» помимо очевидных и скрытых цитат из «Лунь юй», на наш взгляд, является то, что в тексте методично и последовательно раскрываются все пять конфуцианских постоянств.
Так, в первой статье декларируется, что ритуал – не что иное, как основа, на которой держатся не только отношения «верхов» и «низов», но и в целом управление государством. Шестая статья продолжает эту мысль и говорит нам о том, что те, кто не соблюдают ритуал, – не человечны, что является источником больших бед. В девятой статье приводится следующее постоянство – должное, следование должному.
Более того, должное является нам как результат следующего постоянства – доверительности (или доверия), которой в «Уложении» уделено особое внимание, так как она, в отличие от остальных категорий, упоминается пять раз15. Доверие – то, что должно быть присуще каждому делу и каждому типу отношений. В четырнадцатой статье в контексте размышлений о необходимости не только мудрого правителя, но и разумных подданных упоминается последнее постоянство – рассудительность.
Таким образом, как мы видим, все важнейшие конфуцианские категории не просто упомянуты в тексте, но органично связаны друг с другом. Так, рассудительность – своеобразное требование к «квалификации» служащих, которые должны не только иметь в себе человечность и соблюдать ритуал, но и основывать все на доверии, чтобы привести к жизни должный ход вещей. И в то же время такое конфуцианское видение сути правления изящно вписано в главенствующую в документе, как мы считаем, исконно японскую идею согласия как высшей ценности государства.
Список литературы Сётоку-Тайси и его уложение: о рецепции конфуцианских категорий в политической культуре древней Японии
- Воробьев М.В. Японский кодекс «Тайхо Ёро рё» (VIII в.) и право раннего средневековья. М.: Наука, 1990.
- Грачев М.В. Регламентация служебной деятельности японских чиновников // История и культура традиционной Японии: ОпеП;аИа et Classica: Труды Института восточных культур и античности. Вып. 16. М.: РГГУ, 2008. С. 7-32.
- Грачев М.В. Суетная придворная жизнь (несколько соображений о повседневности «человека двора» в древней и раннесредневековой Японии) // История и культура традиционной Японии 8: ОпеШ;аИа et Classica: Труды Института восточных культур и античности. Вып. 57. СПб.: Гиперион, 2015. С.70-85.
- Еремин В.Н. История правовой системы Японии. М.: РОССПЭН, 2010.
- Ермакова Л.М. Ритуальные тексты в со-циокосмической системе древнего Ямато. Исследование // Норито. Сэммё. М.: Наука, 1991. С.10-87.
- Кожевников В.В. Средневековая Япония в лицах. Владивосток: Дальнаука, 2007.
- Конончук Д.В. О происхождении и смысле конфуцианской категории { жэнь // В пути за китайскую стену. К 60-летию А.И. Кобзева: Ученые записки Отдела Китая ИВ РАН. Вып. 12. М.: ИВ РАН, 2014. С. 176-195.
- Конончук Д.В. «Лунь юй»: к вопросу о происхождении названия // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2015. № 1. С. 28-33.
- Ли Цзи // Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1973. С.136-140.
- Мещеряков А.Н. Герои, творцы и хранители японской старины. М.: Наука, 1988.
- Мещеряков А.Н. Пожалование и подношение в официальной культуре Японии VIII века // Вещь в японской культуре. М.: Восточная литература, 2003. С. 60-73.
- Нихон сёки. Анналы Японии: в 2-х т. Т. 1. Свитки I-XVI. СПб.: Гиперион, 1997.
- Нихон сёки. Анналы Японии: в 2-х т. Т. 2. Свитки XVII-XXX. СПб.: Гиперион, 1997.
- Попов К.А. Законодательные акты средневековой Японии. М.: Наука, 1984.
- Попов К.А. Конституция Сётоку (604 г. н.э.) // Народы Азии и Африки. 1980. № 1. С. 127-136.
- Прасол А.Ф. От Эдо до Токио и обратно: культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава. М.: Астрель, 2012.
- Прасол А.Ф. Становление образования в Японии (VIII-xIx века). Владивосток: Дальна-ука, 2001.
- Радуль-Затуловский Я.Б. Конфуцианство и его распространение в Японии. М.: Либро-ком, 2011.
- Свод законов «Тайхо рицурё». 702-718 гг. Рицу (Уголовный кодекс). М.: Наука, 1989.
- Трубникова Н.Н. Деятельность Сё:то-ку-тайси (574-621) [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://trubnikovann.narod.ru/ Asuka3.htm
- Рицурё: (Уголовные и гражданские законы). Токио: Иванами сётэн, 1994.
- Como, M., 2003. Ethnicity, sagehood, and the politics of literacy in Asuka Japan. Japanese Journal of Religious Studies, Vol. 30, no. 1-2, pp. 61-84.
- Como, M., 2008. Shotoku: ethnicity, ritual and violence in the Japanese Buddhist tradition. Oxford; New York: Oxford University Press.
- Goto-Jones, Ch., 2005. Political philosophy in Japan: Nishida, the Kyoto school, and co-prosperity. New York; London: Routledge.
- Kasulis, T.P., 2018. Prince Shotoku's Constitution and the synthetic nature of Japanese
- thought. In: Davis, B.W. ed., 2018. The Oxford handbook of Japanese philosophy. Oxford: Oxford University Press, pp. 83-96.
- Konishi, J., 1984. A history of Japanese literature. Vol. 1: The archaic and ancient ages. Princeton: Princeton University Press.
- Lee, K.D.Y., 2007. The prince and the monk: Shotoku worship in Shinran's Buddhism. Albany: State University of New York Pres.
- Piggot, J., 1997. The emergence of Japanese kingship. Stanford: Stanford University Press.
- Yoshida, K., 2003. Revisioning religion in ancient Japan. Japanese Journal of Religious Studies, Vol. 30, no. 1-2, pp. 1-26.