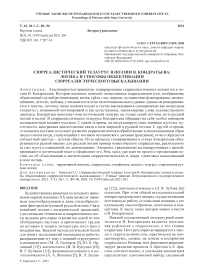Сюрреалистический тезаурус в поэзии В. Кондратьева: логика и способы объективации сюрреалистического высказывания
Автор: Горелов О.С.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1 т.43, 2021 года.
Бесплатный доступ
Анализируются принципы тезаврирования сюрреалистических концептов в поэзии В. Кондратьева. История основных понятий, осмысляемых сюрреализмом (сон, воображение, объективный случай (антиципация), мечта, грёза, глаз, зеркало, путешествие-фланирование, память-забвение, детство, любовь), учитывается поэтом на интенциональном уровне, однако не разворачивается в текстах, поэтому такие понятия входят в состав высказывания одновременно как инородные элементы с измененной мотивировкой и как естественные, закономерные слова художественного дискурса. Кондратьев наполняет ими поэтический тезаурус не только своей поэтики, но и русской поэзии в целом. В сюрреалистическом тезаурусе Кондратьева обращает на себя особое внимание поливалентный концепт пустыни. С одной стороны, он актуализирует само значение пустоты, пустотности, выстраивая диалогические связи в поле мировой и русской поэзии. С другой стороны, от концепта пустыни получают развитие сюрреалистически обработанные и скомпонованные образ песка и мотив ветра, стыкующийся с мотивом человеческого дыхания (рождения), отчего образуется субъектный триггер - детские образы. Из-за процесса тезаврирования в стихах Кондратьева обнаруживается редкий именно для русской поэзии пример миметического сюрреализма, реализуемого за счет пусть и смещенной, но демонстрации. Элементы, традиционно ассоциирующиеся с прозой, проникают в поэтический текст и оформляют его. Речь здесь уже идет не просто о прозаизации поэзии, но об объективации и миметизации сюрреалистических и, шире, сдвиговых высказываний в поле поэзии.
Нарративный мимезис, сюрреальное, патафизика, концепт, тезаурусская поэзия
Короткий адрес: https://sciup.org/147227326
IDR: 147227326 | УДК: 821.161.1"20"-14 | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.561
Текст научной статьи Сюрреалистический тезаурус в поэзии В. Кондратьева: логика и способы объективации сюрреалистического высказывания
Художественная рецепция культурных феноменов первой половины ХХ века является значимым текстообразующим и даже стилеобразующим фактором актуальной русской поэзии. Связь новейшей поэзии с модернистской традицией, с различными течениями и направлениями эпохи модерна регулярно становится одной из тем обобщающих научных и критических трудов по истории и теории литературы пост-(нео-) модернизма. Важной методологической базой для новых исследований оказываются работы, раскрывающие эту тему с позиций структурного и имманентного (М. Л. Гаспаров [3], Ю. Б. Ор-лицкий [13]), контекстного (И. В. Кукулин [10], В. Г. Кулаков [11]), феноменологического и поэтологического (А. А. Житенев [5], В. Л. Лехци-
ер [12]), лингвопоэтического (Л. В. Зубова [6]) подходов. При этом общий исследовательский интерес представляют авторы, осуществляющие поэтическую работу со смыслами модерна, с его ключевыми мыслеобразами, понятиями и концептами. К числу таких авторов можно отнести и В. Кондратьева1.
Важной составляющей литературной идентичности В. Кондратьева является постоянная рефлексия о сюрреализме , о его теории и практике. Поэт регулярно возвращается к мысли о сюрреалистическом , практически не концентрируясь, однако, на поиске и восприятии сюрреального . Разница этих феноменов репрезентирует различие проектов А. Бретона и Л. Арагона соответственно, а указанная асимметрия предполагает однозначный выбор, сделанный
Кондратьевым в пользу Бретона, которого он ставил выше и как художника. Разумеется, это связано и с вполне конкретными попытками взять на себя бретоновскую роль и трансплантировать сюрреализм в русскую литературу. Однако большего внимания, как кажется, заслуживают особенности прозаических и поэтических текстов Кондратьева, сформировавшихся как раз благодаря смещениям в сторону сюрреалистического, а не сюрреального.
ПРИНЦИПЫ МИМЕТИЗАЦИИ СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКОГО
Размышления о сюрреализме, о возможности или невозможности сюрреализма в России, распространенные в прозе, эссеистике и письмах Кондратьева, складываются в отдельный нарратив, и с нарратологической точки зрения он выстраивается диегетически. В стихах же обнаруживается редкий именно для русской поэзии пример миметического сюрреализма, реализуемого за счет пусть и смещенной, но демонстрации. Кондратьев стремится создать в них, наследуя практике А. Бретона и У. К. Уильямса, динамическую композицию, которая «включает в себя напряженный свободный стих, переходящий к интонации прозы “объективного повествования”» [7: 33]. То есть элементы, традиционно ассоциирующиеся с прозой, проникают в поэтический текст и оформляют его, хотя сюрреалистическая поэзия, как правило, сама распространяла свои принципы на прозу. И речь здесь идет не просто о прозаизации поэзии, но об объективации и миметизации сюрреалистических и, шире, сдвиговых высказываний в поле поэзии. Такая практика устанавливается и осваивается в русскоязычном пространстве только в 2000-х годах в рамках «нового эпоса». Принципиальными становятся констативная интонация, номинативные конструкции и нарративный мимезис, пара-дигмальной фигурой для подобных постсюрреалистических реализаций оказывается Л. Шваб. И только ретроспективно можно увидеть, как эта линия комплементарно связывается с практикой В. Кондратьева.
Миметическая функция в поэзии Кондратьева получает тенденцию к освобождению от собственно референтивной, в том смысле как это видел и описывал П. Рикёр:
«Миметическая функция рассказа ставит проблему, в точности соответствующую проблеме метафорической референции. Эта функция является лишь частным приложением метафорической референции к сфере человеческой деятельности» [15: 9].
У Кондратьева еще действует метафорический принцип художественной рефлексии, однако он уже начинает деформироваться, что приводит к двойственному результату: постепенно размывается как сама метафора, так и текстовая референция, превращаясь в референцию метафорическую. Поэтому так ощутим не столько сюрреальный, сколько неоромантический характер ранних кондратьевских текстов и некоторых его стихов второй половины 1990-х годов. У Шваба, напротив, миметическая презентация уже сочетается с метонимическим принципом, что и создает постсюрреальный эффект. Но поскольку Кондратьеву на сознательном, рефлексивном уровне был важен именно дух сюрреализма, то он, можно сказать, бессознательно блокировал сюрреалистический код и его возможные эффекты, тесно переплетая «метафорическое переописание и нарративный мимесис» [15: 10].
Основным событием-триггером нарративного мимезиса в поэтических текстах Кондратьева можно назвать сюрреалистическую встречу с женщиной (женщиной-девочкой, бабочкой) ; временн ы м триггером - утренние сумерки . Иногда эти условия соблюдаются в рамках одной симультанной композиции: «утро / как девочка спешит тропинкой / с сачком мельканье бабочки опередить, пока / на гальку взгляд не упадет монетой» (32)2. Образ бабочки или даже мотив полета бабочки («мельканье») акцентируют дополнительное значение мимолетности, тем самым соединяя лиминальную темпоральность, концепт встречи и собственно образ женщины-девочки. Образ бабочки интересен и контекстуально, потому что он был концептуализирован в творчестве Бретона, который даже включил статью про бабочку в «Краткий словарь сюрреализма» (1938). Собственно в его романе «Аркан 17» бабочка «демонстрирует, как непостижима и туманна тайна смены поколений»3.
Далее у Кондратьева возможны иные вариации, в которых пропущенные члены могут лишь подразумеваться:
«Ты шла дорожкой парка, и казалось, / что с встречей тянешь ты и час, и два; / Сиял зенит, и гарью дым клубился, / а корни веток всё впивались цепко / в пожар чернеющий рассветных сумерек» (33).
Ситуация «шла дорожкой» двоит адресацию к женщине («ты»), поскольку связана с предшествующим референсом «девочка спешит тропинкой» (к тому же здесь возможен метонимический сдвиг: ты шла дорожкой – ты была дорожкой; девочка спешит тропинкой – девочка и есть тропинка). Мимолетность оборачивается остановкой времени, что вызвано как раз отступлением от миметического объективного повествования в сторону субъективного описания чувства томления: «казалось, что с встречей тянешь», в то время как героиня уже идет по дорожке, и ее видит герой. Демонстрация парка летом (на сезон указывают гарь и парадоксальные «корни веток») предполагает в потенции бабочку как символ встречи с уже женщиной-девочкой. Видение еще не свершившихся событий, учитывание еще не оформившихся предметов мира – важная черта патафизического зрения поэтического субъекта Кондратьева. Согласно А. Жарри, патафизика и есть такая «наука о воображаемых решениях, которая образно наполняет контуры предметов свойствами, пока что пребывающими лишь в потенции»4.
Ту же комбинацию утренних сумерек и особого (иногда патафизического) зрения можно обнаружить в поэзии А. Николева (имя которого Кондратьев одним из первых начал возвращать русскому читателю): «Я полюбил и раннее вставанье: / чуть обнаруженных вещей / предутреннее очертанье»5. Именно в этот период, как следует из николевского текста, становится доступным для восприятия « нежнейший межпредметный клей »6, напоминающий о патафизи-ческом наполнении контуров предметов потенциальными свойствами. Такое легкое приклеивание предметов друг к другу указывает на особое понимание эроса реальности обоими поэтами. В случае Кондратьева можно говорить о возникновении эротической машины языка, которая, если работает исправно, издает равномерный гул, свидетельствующий в то же самое время об отсутствии всякого гула и шума. В кондратьевских текстах этот шелест языка «приклеивается» к человеческому дыханию (влияние идей поэта Ч. Орлсона), становясь шелестом вздоха, который и «превращается, незримый, в сон, / до сумерек утра исчезнув» (31). И это уже диалог или спор с А. Драгомощенко, в текстах которого происходит погружение как раз в шелест языка, обозначающий звуковой и до-логосный пейзаж рая. Он же и сюрреальный пейзаж, судя по акцентам миметической демонстрации: «татуировки песка, / окружающий шелест, не говорящий никому – ничего»7. Как замечает Е. Павлов,
«несмотря на всю утопичность, такой шелест служил и служит предметом поэтических экспериментов. “Невозможное – не есть немыслимое”. Поэзия для Драгомо-щенко – это такое критическое состояние языка, которое указывает на свои истоки в свершенности бессмысленного райского шелеста. По эту сторону рая поэзия есть неустанное упражнение в говорении одного и того же – буквальное значение греческого слова tautologos» [14].
Драгомощенко находил и в практике Кондратьева это стремление к «безликим теням непрерывного “шелеста”» [4], при этом очень чутко используя аналогию с одной из сюрреалистических функций (коллекционирование), утверждая, что Кондратьев именно коллекционирует безмыслие, которое несет в себе гул языка, являющийся, по Барту, утопией языка, «утопией музыки смысла» [1: 543]. Отсюда в дальнейшем получит свое развитие пост-утопия саунд-поэтики и асемантической поэзии 2010-х годов (В. Банников, В. Бородин, Н. Сафонов).
Случайные встречи с чудесным (аналог трансцендентного рая) в ситуации утренних сумерек устанавливают мотив пробуждения в утро (вместо сюрреалистического пробуждения в ночи) и связанный с ним мотив осеннего рождения из одноименного стихотворения (вместо рождения весны): «Но пока ты еще / здесь – в ожидании чуда / кружится хоровод осени» (35). Акцентирование противоречивой, странной межпредметной и, как следствие, межсубъектной реальности не дефокализует и не усыпляет героя, но приводит к «усиленной патафизической бдительности» [17: 23], создавая совсем другую утопию:
как мореходы, смотрим ненастье за высоким окном в наступающих утренних сумерках.
Созвездия наших судеб невнятны в предутреннем свете: они пропадают в туманности, где Венера перед восходом сверкает на звездном пути трех волхвов, проходящих по небу и дары приносящих в чашах осеннего золота, называя твое рождение именем спящей весны (35).
Диегетическим двойником миметического «Осеннего рождения» оказывается цикл стихов «Великое однообразие любви» Драгомощенко, целиком построенный на прямой речи о любви. Ощутимо влияние этого цикла на стихотворение Кондратьева, воссоздающего подчас целые сцены из претекста (героиня, стоящая у окна, дуновения ветра от весны к осени и наоборот). У Драгомощенко довольно скоро выявляется и устанавливается как основная тема языковой антиципации: «Мы не спим, ибо предчувствие слова касается нас. <…> “Любовь моя”, как трудна радость ночи»8. Фоновое присутствие языка, его райский шелест и означает великое однообразие эроса реального:
Гордая девочка с темной мальчишеской головой, Стоящая
Между двух яблонь весной,
В мире,
Залитом великим однообразием любви9.
Сюрреалистический вариант миметического метафоризма10 Кондратьева, таким образом, оказывается между диегетическим метафориз-мом Драгомощенко и миметическим метонимиз-мом Шваба. В текстах 1990 года – цикл «Прогулки, по ином Тристане», «Чай и карт-постали», «Паркетная лекция», «Дерево двух», «Дама с моноклем» – сквозь метафоризм начинают проступать признаки сюрреалистического, растет значение приемов авангардистского письма. Однако эти приемы меняют принцип действия. Так, парономазия, подчас становясь элементом автоматического письма, позволяющим ослабить логические связи в развитии мысли, в контексте всего стихотворения и при установке на нарративный мимезис, наоборот, фокализует рациональную сделанность аллитерационных сгущений: «Око, орало оводу. / Переселение Гелиака в эклиптике <…> Пар. Окалина озера / ртуть кипела, и зеркало» (47).
ТЕЗАВРИРОВАНИЕ СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИХ КОНЦЕПТОВ
Другим, более важным новшеством становится то, что Кондратьев и в этих стихах, и в рассказах, статьях, стихотворениях в прозе оперирует сюрреалистическими словами и образами уже как концептами. Среди таковых как общекультурные понятия или понятия актуальные для вторичных стилей (барокко, романтизм, различные модернистские стили и т. д.), но переосмысленные сюрреализмом, так и собственно сюрреалистические: сон, воображение, объективный случай (антиципация), автоматизм, мечта, грёза, взгляд, глаз, зеркало и зазеркалье, путешествие-фланирование, память-забвение (индивидуальные вариации – дежа вю и жаме вю), детство, любовь11. История этих «терминов» учитывается на интенциональном уровне, однако не разворачивается в текстах, поэтому такие понятия входят в состав высказывания одновременно как инородные элементы с измененной мотивировкой и как естественные, закономерные слова художественного дискурса. Таким образом, сюрреалистический словарь, сюрреалистическая энциклопедия (в бретоновское время основные варианты внешнего языка описания) замещаются в кондратьевской поэтике категорией сюрреалистического тезауруса . Собственно поэтому дальше концепты встраиваются в некую игру, помещаются в разные контексты, включаются в неологические трансформации: «Мадалена предбывшая, сыпала смолью / и Майра, каждо-дневица случая . Всякий / из встречных - последний. В нарочных местах / каждый шаг, слеп » (57).
Еще одним способом тезаврирования сюрреалистического становятся мифологические аранжировки: например, в стихотворении «Как сейчас вспоминаю, вечно влюбленный…» природные образы и фигура сатира могут, как предлагает Ю. Демиденко, прочитываться через элементы экфрастического описания «Пана» М. Врубеля. Миметическим временем вновь становятся утренние сумерки, поскольку на картине Врубеля изображена старая луна, в северном полушарии означающая рассвет. В другом тексте Кондратьев дает эту диспозицию в сжатом виде: « старые лица / в сумерках тихо мерцают» (118).
Тезаврирование может пониматься как буквальное накапливание золота сюрреализма, отдельные элементы (концепты) которого рассеиваются в пространстве русской культуры:
пунктиры, они облекают чаепитие с облаками. Любитель любви, чашечница на веранде утро пчёл, золотое по Петербургу
(мы) бродили, полные изумления. Геодезия в правилах припоминания снов. Тело города, скрытое сетью вен и неисчислимых капилляров. Картина двух. Сюда же относят виды фигур, испещрённые звёздами и планетами. Посреди поля девушка, платье её состояло из глаз, широко раскрытых навстречу, как показалось, станция уведомления (60).
Нарочито изолированное в скобках «мы» подчеркивает синтаксическую изоляцию конструкции «мы бродили, полные изумления». «Мы» здесь не риторическое, а сюрреально отрешенное, оно же будет использоваться как в автоматических текстах Кондратьева, так и в текстах, где становится заметным влияние поэтики Драго-мощенко и «языковых поэтов» США: обильное использование абстрактной лексики и цепочек причастных оборотов, орнаментация поэтического нарратива, дополнение рациональным диегезисом чувственного мимезиса: «Комната не имела нужды к описанию, / как и действие к продолжению»; «Тропизмы и синкопы кадра, чувственность / и голод: города / не для охотников за пристальными образами, / а хроника сентиментальности»; «Симультаническая молва / перекрывала проспект желания / стать ясновидящим. Ландшафт был шахтой страха / перед попыткой в бездну» (текст «Паркетная лекция», посвященный сыну Драгомощенко – Остапу) (63). Но, как правило, и такая поэтика у Кондратьева деформируется через все то же прошивание сюрреалистическими концептами:
…Это бывало ночами , смеркающимися в гримасы разошедшихся линий, в небывалые джунгли, в полярное зарево, в фата-моргану порывающегося из подсознания плывуна, вовлекавшего в метаморфозы загадочных празднеств, которые мы забываем, изнемогая к утру (76).
Принципы и результирующий эффект сюрреалистического тезаврирования особенно становятся очевидными на фоне ранних текстов Кондратьева, где те же мотивы и образы, важные для сюрреализма, используются в другой, неоромантической логике, еще не как концепты. В текстах проявляются черты городской элегии 1960–1970-х годов, стабилизируются синтаксис и просодия:
Призрачным шагом я прохожу по реке, вспоминаю прошедшее время и время, что будет… Все же свет от окна остается моим, сонная ночь и туман, старые письма и старые мысли шепот в крови и безумие (102).
Окончательно ослабевает сюрреальное в стихотворениях с рифмой, которых, впрочем, немного: «Так срывает осень покрывало лета или весны, / так уходит жестокий ветер морозу в угоду. / Пролетают над маленьким городом сны, / по ночному указу отпущенные на свободу» (107).
В сюрреалистическом тезаурусе Кондратьева обращает на себя особое внимание поливалентный концепт пустыни . С одной стороны, он актуализирует само значение пустоты, пустотности, выстраивая диалогические связи в поле мировой и русской поэзии. Из-за того, что «любое пространство может выворачиваться своей пустотной изнанкой» [9: 11], художественная реальность приобретает черты патафизического воображаемого измерения, наполненного собственной потенциальностью. К. Корчагин демонстрирует это, сопоставляя пространственные профили В. Кондратьева и Л. Аронзона: лимб – рай, имманентность – трансценденция соответственно [9: 10–11]. Одновременно с этим кондратьевская модель существенно разнится с концентрическими пространствами Бретона, утверждающими своими топологическими трансформациями свободу субъекта: «Роза фантастическим образом обращена внутрь себя самой . Ее да восхитительной птички-ибиса в нарядном воротничке вполне достаточно, чтобы мечта человеческая никогда не умирала» [1: 145]. У Кондратьева, наоборот, получают распространение вовне и совпадают «в мерцающей пустыне черных топей» (19) одинаково безразличные к человеку миметический карельский и мифологический петербургский топосы.
С другой стороны, от концепта пустыни получают развитие сюрреалистически обработанные и скомпонованные образ песка и мотив ветра, стыкующийся с мотивом человеческого дыхания (рождения), отчего образуется субъектный триггер – детские образы. Благодаря им мир наполняется любовью, желанием; начинает казаться видимым «межпредметный клей», а сама пу-стотность положительно переозначивается: так, «в разрывах пустоты, любимой ветром» медлительный вздох «стремится по пескам ребячьим криком / в рождении своем, прозрачностью отмыть от буквы слов рой» (30). Практически любой объект «в ветре <…> обретает движение» (36). «Ветер, легчайший спутник наслаждений» (58), в отличие от сюрреалистов с их гегельянским духом, больше связан у Кондратьева с веяниями истории, культуры, речи. Мифологическая поэтика дополняется общекультурным типом ал-люзивности: «пустынная улица в даль уводит, / девочка гонит резиновый мяч» (90) (возможна параллель с картиной «Меланхолия и тайна улицы» Д. де Кирико). Особенно позитивной реальность предстает в пространстве детского сна: «Вышли купаться девочка и мальчик / на золотой бережок» (103); мальчик – «ангел в детских сандялиях», вокруг него – «желтый песочек» (111). Алхимический мотив превращения песка в золото (еще пример: «Как новые поселенцы / строят свой дом на песке и сваях, не разбирая причины, / так нам, укрепляясь единой мыслью, в думах о крове и хлебе листать золотые страницы» (132)) тоже отсылает к идее тезаврирования сюрреалистического как чего-то особенно ценного, но эксцентрического, рассыпающегося (тезаурус).
Патафизическая идея позволяет рассматривать пустотность в терминах потенциальности («В пустынном ландшафте исчерпываются все возможности и не происходит ничего, потому что все в равной степени вероятно и немысли-мо»12), а также страховать от избыточной хаотичности:
«Мы обращаемся к ней (патафизике. – О. Г. ) в трудных случаях, когда странности и парадоксы сделали жизнь эксцентрической несколько выше сил. Здесь и вступает не признающая противоречий “наука воображаемых решений”, для которой любая возможность дана реально »13.
Данность такой реальности легко подвергается сюрреализации с помощью антиципаци-онных механизмов: «призрачность и равнодушие встреч / Будят вчерашнее ожидание » (29); « предвосхищение встречи двух / полнит дерево ожидание » (65). Этот принцип срабатывает даже в самых ранних, регулярных стихах: «Так давай подождем . Ведь для этого вечер и ночь / нам отмерены щедростью времени» (127).
Патафизика, хотя и применяется только «в оперативных целях», может «на неиспорченный организм <…> подействовать, как называют медики, парамнезией»14. Медицинский дискурс нередко становится концептуальным фоном для выстраивания художественного и нарративного времени по сюрреалистическим принципам, в том числе когда активизируется мотив забвения / забывания или сюжетная функция неузнавания, ассоциирующаяся как с фольклором, так и с театральными жанрами. Например, в тексте-письме «Петроградский проспект»:
«Петербург, после дождя. Я позволил себе парафраз названия известной, 1942 года, картины Макса Эрнста: перспектива ландшафта, организованного в нагромождениях форм, неузнаваемых ( агнозия ? жамэ вю ?), но смутно припоминаемых – в плане скорее метафизическом, чем конкретно. Исторический пейзаж, отреченный непредвзятым разумом от номинализма. Чувство отжитости, духовного и физического тупика, таким образом, разрешается в само-преодолении, возрождением в прямом, предметном чтении-видении. Происходит открытие Летербурга» (144).
Жаме вю можно считать оригинальным приемом Кондратьева, с помощью которого выражаются агнозическая природа субъекта и пата-физический принцип мироустройства. Прием этот, скорее всего, является частным случаем остранения, которое «в случае Кондратьева <…> обретается как ментальное странствие» [16: 80]. Странствуя, субъект тезаврирует вокруг себя пространство утопии-ностальгии: «универсалии, хотя бы и с оглядкой на Витгенштейна, у нас в Летербурге реальны» (146). «Открытие Летербурга» – это статья Б. Констриктора, на ко- торую ссылается Кондратьев в пассаже из «Петроградского проспекта» и в которой Летербург, сохранившийся в текстах Хармса, Введенского, Вагинова, предстает экстремальной точкой существования [8: 108].
Таким образом, определяется и место жительства Гипноса – сюрреалистического поэта – город на берегу Леты:
«Будить петербургскую память – все равно, что тревожить с юности дряхлого наркомана, сомнамбулу, у которого я и не я, было и не было – все смешалось»15; «…обращенный у моря на все стороны света… этому городу, кроме своего будущего, вспоминать нечего»16.
Тезаурусная сетка предоставляет возможность возникнуть еще одному новому жанру – сюрреалистическому путеводителю.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Автономизация знаков культуры и сюрреальная реорганизация времени при тезаурусном, предметном чтении-видении служат средством обнаружения пространства утопии или, как это происходит у Кондратьева, ностальгии. Таким образом, Кондратьев с помощью субъектной метапозиции актуализирует само мировоззренческое ядро сюрреализма, в то время как новые реализации сюрреального в литературе второй половины ХХ века осуществлялись через действие сюрреалистического кода, хоть и сформированного тем же теоретическим кор -пусом сюрреализма, но существенно отстранившегося от него. Все это характеризует позицию Кондратьева как цельную в своей противоречивости и уникальную для новейшей русской литературы.
Список литературы Сюрреалистический тезаурус в поэзии В. Кондратьева: логика и способы объективации сюрреалистического высказывания
- Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М.: Прогресс, 1989. 616 с.
- Вишневецкий И. Г. Литературная судьба Василия Кондратьева // Новое литературное обозрение. 2019. № 3 (157). С. 239-267.
- Гаспаров М. Л. Избранные труды: В 4 т. М.: Языки русской культуры, 1997-2012.
- Драгомощенко А. Странствующие / Путешествующие (Памяти Василия Кондратьева) // Русский журнал. 1999. 14 окт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://old.russ.ru/krug/19991014_dargomos. html (дата обращения 01.03.2020).
- Житенев А. А. Поэзия неомодернизма: Монография. СПб.: ИНАПРЕСС, 2012. 480 с.
- Зубова Л. В . Современная русская поэзия в контексте истории языка. М.: Новое литературное обозрение, 2000. 432 с.
- Кондратьев B. К. Предчувствие эмоционализма (М. А. Кузмин и «новая поэзия») // Михаил Куз-мин и русская культура XX века: Тезисы и материалы конференции 15-17 мая 1990 г. / Сост. Г. А. Морев. Л.: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме: Совет по истории мировой культуры АН СССР, 1990. С. 32-36.
- Констриктор Б. М. Открытие Летербурга // Михаил Кузмин и русская культура XX века: Тезисы и материалы конференции 15-17 мая 1990 г. / Сост. Г. А. Морев. Л.: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме: Совет по истории мировой культуры АН СССР, 1990. С. 108-109.
- Корчагин К. «Жить на краю посреди пустоши значит жить в самом сердце.» // Кондратьев В. Ценитель пустыни: Собрание стихотворений. СПб.: Порядок слов, 2016. С. 8-16.
- Кукулин И. В . Машины зашумевшего времени: как советский монтаж стал методом неофициальной культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2015. 536 с.
- Кулаков В . Г. Поэзия как факт: Статьи о стихах. М.: Новое литературное обозрение, 1999. 400 с.
- Лехциер В. Л. Введение в феноменологию художественного опыта. Самара: Самарский университет, 2000. 236 с.
- Орлицкий Ю. Б. Динамика стиха и прозы в русской словесности. М.: РГГУ, 2008. 845 с.
- Павлов Е. Тавтологии Драгомощенко // Новое литературное обозрение. 2015. № 1 (131) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/131_nlo_1_2015/ article/11274/ (дата обращения 01.03.2020).
- Рикёр П. Время и рассказ: В 2 т. М.; СПб.: Университетская книга, 1998. Т. 1. 313 с.
- Скидан А. Василий Кондратьев: до востребования // Скидан А. Сопротивление поэзии: Изыскания и эссе. СПб.: Борей-Арт, 2001. С. 79-84.
- Хьюгилл Э. Патафизика: Бесполезный путеводитель. М.: Гилея, 2017. 430 с.