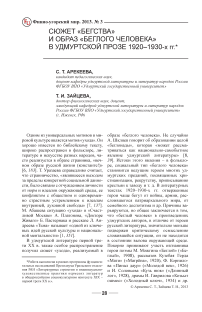Сюжет «бегства» и образ «беглого» человека в удмуртской прозе 1920-1930-х гг
Автор: Арекеева Светлана Тимофеевна, Зайцева Татьяна Ивановна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Языковая палитра
Статья в выпуске: 3, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются рассказы удмуртских авторов, в центре которых находится образ беглого человека, раскрывающийся в универсальном сюжете ухода (бегства). Выявляются общие и специфические черты произведений на уровне поэтики сюжета, повествования, хронотопа, поведения героев.
Удмуртская проза, рассказ, образ беглого человека, сюжет, хронотоп, герой-трикстер
Короткий адрес: https://sciup.org/14723004
IDR: 14723004
Текст научной статьи Сюжет «бегства» и образ «беглого» человека в удмуртской прозе 1920-1930-х гг
России ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» (г. Ижевск, РФ)
Одним из универсальных мотивов в мировой культуре является мотив «ухода». Он хорошо известен по библейскому тексту, широко распространен в фольклоре, литературе и искусстве разных народов, часто реализуется в образе странника, «вечном образе русской жизни (константе!)» [6, 183 ]. Т. Уразаева справедливо считает, что странничество, «являвшееся выходом за пределы конкретной социальной данности, было связано с отчуждением личности от норм и идеалов окружающей среды, ее конфликтом с обществом и одновременно страстным устремлением к идеалам внутренней, духовной свободы» [7, 137 ]. М. Абашева ситуацию «ухода» в «Счастливой Москве» А. Платонова, «Докторе Живаго» Б. Пастернака и рассказе Л. Андреева «Тьма» называет «одной из ключевых идей русской культуры и национальной ментальности» [1, 351 ].
В удмуртской литературе первой трети XX в. также особое распространение получил сюжет «ухода», реализуемый в образе «беглого человека». Не случайно А. Шкляев говорит об образовании целой «беглоиады», которая «может рассматриваться как национально-самобытное явление удмуртской литературы» [8, 39]. Истоки этого явления – в фольклоре, социальный тип «беглого человека» становится ведущим героем многих удмуртских преданий, посвященных христианизации, рекрутству, приписыванию крестьян к заводу и т. д. В литературных текстах 1920–1930-х гг. отверженные герои чаще бегут от войны, армии, расслоившегося патриархального мира, от семейного деспотизма и др. Причины варьируются, но общее заключается в том, что «беглый человек» в произведениях удмуртских авторов, в отличие от героев русской литературы, значительно меньше подвержен критическому осмыслению сложившейся ситуации, он не находится в состоянии вызова окружающей среде. Покорно принимают участь изгнанника герои поэмы М. Можгина «Беглой» («Беглый», 1908), рассказов Кузебая Герда «Мати» («Матрёна», 1920), Ф. Корнилова «Пинал даур» («Молодой век», 1926) и И. Соловьева «Кузь нюк» («Длинный лог», 1928), драмы И. Гаврилова «Кезьыт ошмес» («Холодный ключ», 1934) и др.
В контексте сказанного интересны наблюдения А. Веснина о том, что «бегство» в русской культуре «подразумевает движение от чего-либо с неизменным явным или скрытым критическим пафосом по отношению к явлению, явившемуся причиной проявления символической двигательной активности» [2, 87 ].
Особенности художественного изображения мотива «ухода» в удмуртской литературе 1920–1930-х гг. можно рассмотреть на примере структуры сюжета, организации хронотопа, деталей поведения героев в рассказах И. Соловьева «Длинный лог» и Ф. Корнилова «Молодой век». Сопоставление этих произведений раскрывает различные варианты воспроизведения удмуртской литературой 1920–1930-х гг. моделей жизнепо-ведения «беглого героя» и мотивов его «бегства».
В основе рассказа И. Соловьева «Длинный лог» – народное предание о трагической судьбе беглеца-рекрута. История знакомства автора с сюжетом этой легенды увлекательно рассказана в мемуарах известного удмуртского литератора И. Гаврилова, сокурсника И. Соловьева по Можгинскому педагогическому училищу. Взяться за создание художественного произведения начинающего писателя побудила история о беглом удмуртском крестьянине Шактыре, рассказанная студентам местным конюхом.
Важнейшей особенностью структуры рассказа «Длинный лог» является прием контрастного построения композиции. Для начальных строк рассказа характерна сказово-повествовательная стилистика, оттеняющая первоначальную идиллическую картину: герой красив и молод, он полон сил и счастлив в родительском доме, крестьянский труд приносит ему радость и удовлетворение. Умело используя прием синекдохи, автор психологически точно воспроизводит нежданную перемену в жизни героя, в одночасье нарушившую привычный миропорядок семьи: «Пичи тодьы бумага лыктыса, Шактырлэсь улонзэ пожаз» («Пришедшая маленькая белая бумага испортила жизнь Шактыра»)1 [5, 68]. Поведение призванного на царскую службу героя и его проводы в рассказе написаны «по законам» традиционной фольклорной обрядности. В прощальном монологе героя, перекликающемся с мотивами рекрутских народных песен, отчетливо слышен надрыв, намечающий предопределенность его трагической судьбы. Родители участь сына приемлют сдержанно, смиренно: «Мар карод на, арлыд вуэм бере» («Что же делать, коль годы подошли») [5, 68]. Эмоционально живо написанная картина рекрутских проводов вместе с покорностью героев передает глубокий трагизм их внутренних переживаний.
Герой-рекрут И. Соловьева согласно удмуртским архаичным представлениям переходит из одного мира в другой, т. е. потусторонний. В изображении перехода значимое место занимает эпизод переодевания, символизирующий изменение статуса героя. Прощаясь с прошлым, Шак-тыр перечисляет детали своей одежды как данность недавней счастливой жизни: «…кенсы, ос сьоры сюры вылэ, сизьымо кутэ, мертчан бинялтонэ, базар шортэн куэм штание, бурлатшортэнэз дэреме, сьод пыгыли шляпае кылё» («…в амбаре, на перекладине за дверью, остаются мои лапти-семерики, льняные онучи, штаны, сотканные из базарной пряжи, кумачовая рубашка, черная поярковая шляпа») [5, 70 ]. «Одежда» в развитии сюжета рассказа актуализируется в рефлексии переодетого в солдатскую форму Шактыра. Следующий монолог героя воочию передает глубину его ностальгических переживаний, осознание им всего трагизма произошедших перемен и безвозвратность прошлого: «Пинал йырме солдат диськут воштиз. Дорам ке луысал, шинель интые куинь куско дукесме дисясал, сурон сапег интые сизьымо кутме кутчасал, мундир интые казакейме дисясал, картуз интые гын шляпаме изьясал» («Мою молодую голову-судьбу сменила солдатская одеж-
(fy) Финно – угорский мир. 2013. № 3 да. Если бы был дома, то вместо шинели надел бы зипун в три оборки, вместо кожаной обуви надел бы лапти-семерики, вместо мундира надел бы казакей2, вместо картуза – войлочную шляпу») [5, 71–72 ].
Как отмечалось выше, рассказ несет в себе поэтику народных рекрутских песен, отражающих тяжелую участь новобранца. В произведении страдания Шактыра усугубляются ситуацией незнания героем русского языка. Бегство из армии сюжетно приурочено к моменту несения солдатом караула, когда Шактыр нечаянно уснул на посту и офицер забрал его ружье. Таким образом, непосредственным толчком к побегу явился страх наказания, однако «уход» героя – это реализация заранее предсказанного сценария его судьбы, воплощенного в композиции всего рассказа.
Контрастная композиция произведения, противопоставляющая природную идиллию и городское пространство, художественно убедительно раскрывает подневольное, униженное существование Шактыра на службе. Герой-беглец стремится домой, жаждет встречи с родными, но понимает, что соседи-сельчане выдадут его властям. Вернувшись из «иного» мира домой формально, что подтверждается-закрепляется ритуалом его очередного переодевания, реально герой вернуться в деревню не может. Потому в роли субститута родного пространства выступает лес; именно природа становится заступницей и пристанищем для беглеца: «Солэн атай юртэз нюк пыдсын, бадзым кыз улын – лапас луоз. Лыз-чибор ужпиез – котырысь-тыз пойшуръёс луозы» («Его отцовским домом на дне лога станет лабаз под большой елью. Его пестрого жеребца заменят звери») [5, 73 ]. Но Шактыр не может обойтись без людей: голод заставляет его искать еду, воруя ее у крестьян. Один из микросюжетов наглядно воспроизводит то, как он наведывается к жнецам. Автор очень своеобразно рисует коллизию противопоставления беглеца социуму: оставляя своих сородичей без еды, Шактыр непроизвольно настраивает их против себя.
В рассказе достаточно мастерски переданы внутренние переживания отшельника, что малохарактерно для удмуртской прозы 1920-х гг. Посредством несобственнопрямой речи раскрывается эмоциональночувственный мир героя, вынужденного праздно созерцать труд жнецов и одновременно с болью и щемящей тоской думать об отцовском доме, родимом поле.
Восприятие сельчанами беглеца связано с мифологическим мироощущением народа, их оценка героя как «палэсмурта» («лешего»), «пересь гондыр аби» («старого дедушки-медведя»), «кузь мурт» («великана») подчеркивает одичание Шактыра и одновременно с этим постепенную утрату им человеческих, моральных качеств. Отражая архаичные представления людей того времени об окружающем мире, рассказ И. Соловьева абсолютно правдиво раскрывает народное отношение к беглому человеку: жалость и страх.
Итак, вынужденный побег Шактыра, обусловленный его желанием спастись от гибели на службе, оборачивается отшельнической жизнью героя в глубоком логу. Удача рассказа в том, что автор сумел показать не только физические страдания беглеца (в приближении зимы Шактыр становится словно загнанный зверь), но и его внутренние противоречия: «…пойшур овол мон, адями» («…не зверь я, человек») [5, 77]. В конечном счете герой начинает сожалеть о своем бегстве со службы: «Эксэйлы урод уж лэсьти: солдатысь пег-зи» («Царю сделал плохое дело: из солдат сбежал») [5, 77]. Поведение героя обусловлено, с одной стороны, народным пониманием мироустройства, а с другой – формирующимися в удмуртской художественной литературе тех лет течениями романтизма и реализма. В национальной литературе последующих лет герой такого плана станет бунтарем или революционером. Финал рассказа И. Соловьева трагичен, что характерно для поэтики романтического произведения: беглеца, заманенного женщиной, разъяренные сельчане убивают как животное. Глубину и неоднозначность образу героя придает его предсмертный монолог, в котором он винится перед людьми за свои поступки. Примечательно, что рассказ начинается с причитаний и причитаниями заканчивается – это также подчеркивает его близость к мифу, которому свойственна кольцевая композиция. Герой-беглец удмуртской литературы охвачен «кольцом своей судьбы».
Произведения, составляющие удмуртскую «беглоиаду», отражают процесс развития национальной литературы, ее своеобразный переход от фольклорного мышления к авторскому. Рассказ Ф. Корнилова «Молодой век» разрабатывает проблематику «беглого человека» на современном для писателя материале. Здесь используется прием повествования от 1-го лица, придающий произведению черты сказа: герой-рассказчик – Василий повествует некоему Ивану историю своей дружбы с Митрей Матё. Текст начинается с непосредственного обращения к слушателю: «Вот, Иван, тон дунне вылын оскымон уром вань шуиськод…» («Вот ты, Иван, говоришь, на свете есть верная дружба…») [3, 316 ]. Этому тезису тут же противопоставляется антитезис: «Дун-не вылын оскымон уром овол!» («Нет на свете надежного друга!») [3, 316 ]. Дальнейшее повествование выстраивается как доказательство слов рассказчика, демонстрирующее один из опытов внедрения в литературу многосубъектных форм художественного отображения человека и окружающего мира.
Для устного слова героя-рассказчика характерны диалогичность и эмоциональность повествования, его интонации свойственна взволнованность, отражающая психологическое состояние человека, разочаровавшегося в дружбе. Жалуясь на свою судьбу, герой рассчитывает на понимание и сострадание слушателя. Действительно, он вызывает сильное читательское сочувствие, в том числе благодаря использованию пословично-афористических сентенций, присущих сказу: «Пеляз ву пыртэк одиг пуны но уяны дышымтэ» («Ни одна собака еще не научилась плавать без того, чтобы в ее уши вода не попадала») [3, 317]; «Ку-скерттон е вискад чиньы медаз тэры, тани кыче вылэм дунне» («Чтоб палец не пролез между телом и ремнем, вот какой оказалась солдатская жизнь») [3, 317].
Ведущие герои рассказа «Молодой век» словно бы представляют собой близнеч-ную пару; рассказчик не раз говорит о том, что они были неразлучными друзьями: «юон дыръёсы парен огкадь дисяськись-ком, шорамы учкыны ик мусо вал» («во время празднеств одевались абсолютно одинаково, смотреть на нас было одно загляденье») [3, 316 ], «нюнен-вынын кадь ик улим» («жили как кровные братья») [3, 317 ]. Между тем разлад героев-двойников, как и в произведениях устного творчества, проговорен изначально. Рассказчик как бы невзначай отмечает противоположность их характеров: «Монэ тодиськод ини тон, – вордскем тырысь ыж кадь востэм адями, Матё нош тэлясь пу кадь тачыртись маке» («Меня-то ты уж знаешь, я с рождения кроткий, как овца, а Матё – трескучий, как дрова горящие») [3, 317 ]. Идеальные взаимоотношения друзей, представленные рассказчиком в начале произведения, по «закону контраста» переходят в свою противоположность.
Молодые люди, получив повестку в Красную армию, принимают обоюдное решение удариться в бега. Следует отметить, что в рассказе ни осуждения, ни развенчания героев как дезертиров не происходит. Их поведение объясняется боязнью оказаться на войне: «Бась-тозы ке басьтозы армие – номыр овол, табере салдатъёсын пуныен кадь уг ве-расько ни, шуо, но одигез умойтэм – ож. Басьтозы, чик улытэк-вылытэк быроз пинал йыр!» («Заберут так заберут в армию – ничего такого; теперь, говорят, с солдатами, как с собаками, не обращаются, но одно плохо – война. Заберут, совсем не пожив, пропадет молодая голова») [3, 317 ]. Таким образом, если герой И. Соловьева бежит с царской службы из-за звериных издевательств начальства и тем самым вызывает читательское сочувствие, то герои Ф. Корнилова инициируют осуждение, поскольку их поступок так или иначе несет в себе «подтекст дезертирства».
Прощание героев с родным домом, с отцом-матерью описано в лирико-
(fy) Финно – угорский мир. 2013. № 3 романтическом ключе, близком к фольклорной традиции: «Кызьы гуртэз куштод, кызьы вордскем юртэн люкиськод?» («Как дом бросишь, как с родным домом расстанешься?») [3, 318 ]. Как и в рекрутской обрядовой поэзии, здесь звучит мотив вечной разлуки, смерти, раскрывающийся, например, в речи матери героя-рассказчика: «Оло, бер адземе та луоз» («Последний раз тебя, может, вижу») [3, 318 ]. Земной поклон призывников в ноги родителям, их прощальное обращение к каждому члену семьи – все соблюдено в русле традиционных солдатских проводов. Однако эти действия носят инверсированный характер, поскольку герои уходят не на службу, а в бега. В рассказе сохраняется традиционный смысл перехода в «иной» мир.
Ф. Корнилов придает мотиву «бегства» более глубокий смысл. Один из нюансов заключается в том, что родители поддержали решение детей избежать службы в армии. Автор заостряет внимание читателя на безграничной родительской любви, в особенности материнской: «Эте, нуные! Тон чылкак огнад ук мынам син азям, сюсьтыл кадь. Тонэ табере оже басьто-а ини» («Сыночек, дитя мое! Ты ведь единственный у меня, как свечечка, перед моими глазами постоянно стоишь. Теперь на войну тебя уж забирают») [3, 318 ].
Солидарность родителей с сыном-беглецом – достаточно редко встречающаяся коллизия в национальных литературах тех лет. Для сравнения можно обратиться к рассказу марийского писателя Якова Элек-сейна «Березовый короб», в котором актуализирована ситуация единства родителей с народом, но не со своим сыном, беглым солдатом: «Стыд за сына, который отделил себя от своих сородичей, крепко связанных традициями народного воспитания… составляет стержень характеров его отца и матери. Отец Чопая объявляет собравшимся возле тела сына жителям села о своем отказе хоронить его…», – пишет Р. Кудрявцева [4, 62 ]. Поведение героев в рассказе Я. Элексейна, на наш взгляд, более приближено к соцреалистической трактовке.
Рассказчик постоянно подчеркивает, что он верит и доверяет другу, характеризует его «оскымон эш», «оскон уром» («надежный друг»), «айы интыын» («вместо отца»). На фоне этих повторов-напоминаний ситуация неожиданного «предательства» воздействует и на героя, и на читателя особенно сильно. Василий рассказывает о том, как они с Матё, чтобы спастись от ищущих их солдат, переодеваются и разыгрывают роль братьев-двойников, один из которых слепой, а другой – его поводырь. Очевиден прием «мифологического перевоплощения» (Ю. Лотман), мотив ряжения сопровождается мотивом раздразнивания. Герои пытаются не просто спастись от преследователей, но с помощью плутовских проделок оставить солдат с носом, посмеяться над ними. В духе героя-трикстера персонажи Ф. Корнилова демонстрируют своим врагам-антагонистам мнимое проявление слабости, а через раздразнива-ние – проявление силы. Но единая пара «раскладывается» изнутри: находясь в среде ищеек-солдат, один беглец предельно спокоен, другой – в паническом смятении, один – смеется, другой – плачет, один – зрячий, другой – «слепой». Суть трюков, логика поступков Матё далеко не во всем понятна Василию, однако в первый раз героям-беглецам сказочно удается ускользнуть из рук своих преследователей. Другой случай, очень близкий к фольклорному приему-испытанию, дает герою-рассказчику повод судить о трансформации его друга во врага. Матё, схваченный солдатами, песней предупреждает друга об опасности: «Васяе, Ва-сяе, мемелы-дядиелы вера. Вуоно арняе Матёды табань сины уз берт ин» («Васенька, Васенька, матери-отцу передай.
В следующее воскресенье Матё уж не придет домой есть табани-лепешки») [3, 325 ]. Пропетые слова – шифр, иносказание, своеобразное средство предотвращения беды. Трюк, к несчастью, не был понят Василием: он отзывается на песню, выдает свое местоположение и оказывается в руках солдат. Песня – до такой степени эмоциональный народный жанр, что на бессознательном уровне она втягивает человека в свою стихию, заставляет Василия безотчетно откликнуться на слова друга: «Оло, кырзамзэ кылыса, визьтэммиськем, лэся» («Услышав песню, с ума что ли сошел») [3, 325 ].
Уже отмечалось, что рассказ представляет собой монолог-жалобу героя-рассказчика. Однако анализ произведения показывает обратное. Обвинение друга в предательстве из уст Василия звучит неубедительно, поскольку это было не намеренным предательством, а, скорее, стечением неблагоприятных обстоятельств. Сказовый характер повествования дает читателю возможность составить собственное мнение о происшедшем. Вся структура рассказа раскрывает рассказчика как скептика, убежденного в том, что если даже ближайший друг приносит беду, то мир враждебен человеку. Не страдания беглеца, не социальная несправедливость общества, а предательство друга составляет сердцевину рефлексии героя.
Список литературы Сюжет «бегства» и образ «беглого» человека в удмуртской прозе 1920-1930-х гг
- Абашева, М. «Пропаду среди всех!» (А. Платонов и сюжет «ухода» в русской прозе XX века)//«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. -Вып. 3. -М., 1999. -С. 350-357.
- Веснин, А. А. Мотив «бегущего человека» в авторском кинематографе второй половины ХХ века: дис. … канд. культурологии/А. А. Веснин. -Кострома, 2003. -198 с.
- Корнилов, Ф. Пинал даур (Молодой век)//Сюрес вожын: Веросьёсын бичет (1919-1935-ти арьёс) (На перекрестке дорог: антология удмуртского рассказа 1920-1930-х годов). -Ижевск, 2010. -С. 316-325.
- Кудрявцева, Р. А. Марийский рассказ XX века (история и поэтика жанра): моногр./Р. А. Кудрявцева. -Йошкар-Ола, 2008. -208 с.
- Соловьев, И. Кузь нюк (Длинный лог)//Зарни крезь: кылбурьёс но повесть (Золотые гусли: стихи и повесть). -Ижевск, 1972. -С. 68-78.
- Степанов, Ю. С. Константы: словарь русской культуры: 3-е изд./Ю. С. Степанов. -М.: Академический проект, 2004. -982 с.
- Уразаева, Т. Т. О роли мотивов «путешествия», «странствия» в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»//Проблемы метода и жанра: сб. статей/отв. ред. Ф. З. Канунова. -Томск, 1985. -Вып. 11. -С. 136-148.
- Шкляев, А. Г. Романтические тенденции в удмуртской литературе//Шкляев А. Г. Времена литературы -времена жизни: статьи об удмуртской литературе. -Ижевск, 1992. -С. 35-43.