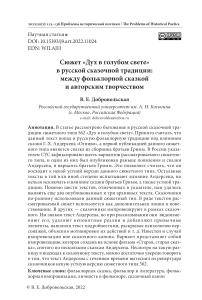Сюжет «дух в голубом свете» в русской сказочной традиции: между фольклорной сказкой и авторским творчеством
Автор: Добровольская Варвара Евгеньевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрено бытование в русской сказочной традиции сюжетного типа 562 «Дух в голубом свете». Принято считать, что данный текст попал в русскую фольклорную традицию под влиянием сказки Г.-Х. Андерсена «Огниво», а первой публикацией данного сюжетного типа является сказка из сборника братьев Гримм. В России указателем СУС зафиксировано шесть вариантов рассматриваемого сюжетного типа, и один из них был опубликован раньше появления и сказки Андерсена, и варианта братьев Гримм. Это позволяет считать, что он восходит к некой устной версии данного сюжетного типа. Остальные тексты в той или иной степени испытывают влияние Андерсена, но нельзя исключать и влияние сказки братьев Гримм, а также устной традиции. Помимо шести текстов, отмеченных в указателе, нам удалось выявить еще два опубликованных и три архивных текста. Сказочники по-разному использовали данный сюжетный тип. В ряде текстов рассматриваемый сюжет используется как дополнительная линия в повествовании. В других - сказочники импровизируют в рамках сказочного. Им знаком текст Андерсена, но при рассказывании они видоизменяют его, удаляют непонятные реалии и добавляют привычные элементы, наполняя текст подробностями, раскрывая психологию персонажей, объясняя мотивировки их действий и т. д. Известен и случай импровизации вне сказочного канона. Вариант представляет собой импровизацию, которая создана на основе фильма «Старая, старая сказка», снятого по нескольким сказкам Андерсена. Несмотря на такую разницу в подходах к сказочному тексту, можно достаточно уверено говорить о том, что текст Андерсена с течением времени вытеснил из репертуара сказочников некую устную версию сюжетного типа 562.
Фольклорная сказка, фольклор и литература, фольклорная импровизация, личность в фольклоре, сказочный канон
Короткий адрес: https://sciup.org/147237930
IDR: 147237930 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.11024
Текст научной статьи Сюжет «дух в голубом свете» в русской сказочной традиции: между фольклорной сказкой и авторским творчеством
В заимодействие фольклора и литературы в настоящее время постоянно привлекает внимание исследователей. Если еще в начале и середине ХХ в. основной темой исследований в данном направлении были работы, посвященные выявлению фольклорных мотивов в творчестве того или иного писателя, то сейчас ситуация поменялась. В настоящее время фольклорный материал записывается от грамотных людей, имеющих среднее, а зачастую и высшее образование. Они знакомы с произведениями русских и зарубежных авторов (хотя бы в рамках школьной программы), они смотрят телевизор, слушают радио, читают детские книги своим внукам (с ними же смотрят мультфильмы и фильмы-сказки), а в ряде случаев пользуются информацией из сети Интернет. Им доступны различные журналы, в которых встречаются рассказы современных авторов. Весь этот разнообразный и неоднородный материал оказывает влияние на репертуар современных носителей фольклора, в том числе и на репертуар сказочников. В настоящее время он представляет собой разнообразные по происхождению тексты: это традиционные сказки, чаще всего относящиеся к ядру русской сказочной традиции, и своеобразные варианты текстов, в основе которых лежат авторские произведения [Добровольская, 2018b, 2018с, 2019а, 2019b]. Отметим, что книгу как источник влияния на фольклорный текст рассматривали и исследователи русских былин. Достаточно назвать монографии А. М. Астаховой [Астахова: 281–332] и Ю. А. Новикова [Новиков: 267–348].
Констатируя литературное происхождение сказочного текста, исследователи обычно оставляют в стороне вопрос о том, что именно и почему заимствуют русские сказочники из авторских произведений и является ли это тем, что называется «коллективным выбором» или это индивидуальные предпочтения конкретного человека.
Анализ доступного корпуса сказочных материалов показал, что литературные источники влияния на сказку разнообразны. Это может быть лубочная литература, произведения русских классиков, авторов второго и третьего ряда, книги иностранных авторов, школьные хрестоматии, церковная литература, тексты из местных газет, адаптированные детские книжки и даже сборники сказок, относящиеся к академическим изданиям (первенство здесь, безусловно, принадлежит сборнику А. Н. Афанасьева [Добровольская, 2021b]).
Особый интерес вызывают книги сказок братьев Гримм, Г.-Х. Андерсена, Шарля Перро, Л. Де Бомон, Г. Вильнёв, которые могли оказать влияние на творчество русских сказочников в большинстве случаев только через переводные издания [Добровольская, 2018a, 2018e, 2019d, 2020b].
Большинство заимствований из иностранных авторов связано с ядром русского сказочного репертуара. Однако есть один сюжет, который крайне редко встречается в русской сказочной традиции. Речь идет о текстах, атрибутированных в СУС как сюжетный тип 562 «Дух в голубом свете». В указателе АТ рядом с названием сюжетного типа «The Spirit in the Blue Light» стоит примечание «Andersen’s Fire-Steel» (АТ: 204–205), которого в более позднем указателе АТУ нет, но в ремарках к данному сюжетному типу отмечено, что важнейшей литературной версией является сказка Андерсена (АТУ: 331).
Согласно указателям АТУ и АТ, сюжет данного типа зафиксирован преимущественно в Северной Европе, странах Балтии, Германии и Австрии, Венгрии, Словении, Польше, Франции, Греции и Турции. Мы можем говорить о распространении данного сюжетного типа в Скандинавии и на территории германо-балто-славянского союза.
Подробно сюжетный тип «Geist im blauen Licht» описан в статье Элизабет Такер [Tucker]. Однако автор говорит лишь о европейских версиях, вскользь отмечая, что данный тип зафиксирован и в России. Подборка текстов данного сюжетного типа, подготовленная Д. Л. Эшлиманом1, и его же статья в Гринвудской энциклопедии сказок [Ashliman], посвященная магическим объектам, также не затрагивают русский материал.
Считается, что первое упоминание данного сюжета содержится в книге братьев Гримм ( Гримм ). Однако отдельные эпизоды, прежде всего связанные с перенесением принцессы в дом героя, встречаются и в более ранних произведениях, например, у Фомы Кантимпре в его труде «Bonum universale de apibus»2.
В России указателем СУС зафиксировано шесть вариантов рассматриваемого сюжетного типа. Два из них отнесены к данному типу с оговорками. Очевидно, что любой указатель не совершенен. В него зачастую не включены сюжеты, опубликованные в региональных изданиях, архивные материалы и сказки, увидевшие свет после публикации самого указателя. СУС в данном случае не исключение, и в последнее время многие статьи указателя могут быть пополнены не учтенными в нем публикациями3.
Принято считать, что данный текст попал в русскую фольклорную традицию под влиянием сказки Г.-Х. Андерсена «Огниво» ( Андерсен ), а первой публикацией данного сюжетного типа, как было отмечено выше, является сказка из сборника братьев Гримм. Действительно, в 1812 г. выходит первое издание сказок братьев Гримм, в котором есть сказка, рассматриваемого нами сюжетного типа ( Гримм ). Она называется «Синяя свеча». Якоб Гримм указал, что сказка была записана от солдата под Мекленбургом. Сюжет «Синей свечи» необычайно близок к еще ненаписанному на тот момент «Огниву», только вместо дупла герой спускается в колодец, а вместо огнива забирает у ведьмы синюю свечу, которая чудесным образом вызывает не собак, а маленького черного человечка.
Текст Андерсена был опубликован в мае 1835 г. Писатель указывал, что слышал эту сказку в детстве в прядильном цехе и во время сбора урожая хмеля.
Однако не учтена более ранняя публикация данного сюжетного типа. В 1787 г. на русском языке в сборнике «Повествователь русских сказок» ( Повествователь ) опубликован текст «Сказка об орехе-свистуне». Эта сказка представляет собой сложную контаминацию различных сказочных сюжетов, доминирующим среди которых является «Звериное молоко» (СУС 315). Повествуя о странствиях царевича Ифата в поисках ореха-свистуна, автор данного текста использует сюжетный тип 562. Герой попадает в дом некоего старика, который отправляет Ифата в подземелье за таинственным фонарем. Юноша находит фонарь с огарком свечи, выясняет, что свеча может вызывать духов, которые выполняют желания героя, и решает фонарь отдать своему хозяину, а свечу оставить себе. Этим он вызывает большое неудовольствие старика, который выгоняет юношу. Царевич пожелал увидеть королевну Фарису, дочь короля Рофана. Эта часть повествования совпадает с сюжетом 562 практически полностью — духи приносят королевну к герою, она рассказывает отцу о своих ночных путешествиях, король созывает совет и те сначала предлагают сделать дорожку из муки, но поскольку духи несут кровать с царевной по воздуху, мука рассевается в воздухе и дорожки не получается. Во второй раз Фариса кидает вниз по пути игральные карты, по ним находят Ифата и арестовывают его. Свеча остается в камзоле героя, и он, пообещав стражнику денег, просит принести ему забытую одежду. Получив желаемое, он спасается от гибели, похищает Фарису и в итоге женится на ней. Далее сказка развивается в рамках других сюжетных типов. Таким образом, эпизод внутри сказочного текста практически полностью совпадает с сюжетной схемой сказки о духе свечи.
Итак, русской литературной традиции был известен сюжет о духах предмета и о ночных похищениях принцессы задолго до появления сказки Андерсена (и публикации братьев Гримм).
Это позволяет говорить о том, что в народных традициях Европы, в том числе и России, существовал сюжет о чудесном предмете, который первоначально принадлежал некоему персонажу и был им утерян. По какой-то причине самостоятельно тот не мог вернуть себе этот предмет и вынужден был прибегнуть к помощи стороннего лица, которое и стало новым обладателем диковинки, вызывающей волшебного помощника, исполняющего приказы, а затем спасающего нового хозяина от гибели. Этот сюжет входит в группу сказок о чудесном предмете, вызывающем чудесного помощника, но отличается от других сказок данной группы4.
Данный сюжет в русской традиции не популярен и находится на периферии сказочного репертуара, поскольку доминирующим сюжетом группы о вызывании чудесного помощника с помощью предмета в русской традиции был тип 560 «Волшебное кольцо» (только в СУС отмечено более 50 вариантов) (СУС: 159).
Кроме варианта из книги «Повествователь…» в нашем распоряжении нет текстов, зафиксированных до появления сказки Андерсена. Однако доступные нам материалы показывают, что, несмотря на влияние авторской версии, данный сюжетный тип по-разному реализовывался в репертуаре сказочников.
В ряде случаев это были лишь отдельные мотивы, которые сказочники использовали для развития сюжета или придания ему дополнительной интриги. Так, в 1904 г. В. Ф. Булгаковым в селе Чемала Улалинской волости Бийского уезда Томской губернии от Алексея Марковича Козлова была записана сказка о Василии, солдатском сыне (Красноярск, № 16). Она представляет собой сюжетный тип 905 «Королева (царица) и жена сапожника». Но помимо основного сюжета присутствует и вторая сюжетная линия: сын солдата тянется к знаниям, хорошо учится, получает должность чиновника и, слушая рассказы отца о военной службе, отправляется в Польшу, где однажды видит загадочный свет, который исходит от змея. Ему рассказывают:
«У нас за городом, живет, видишь ли, змей. Вот он это и бегает ночью-то. Изо рта у него пламя пышет, только безвредное. <…> Потом он спать ложиться и на грудь себе свечку ставит, она горит. А свечка-то не простая: кто будет ее иметь, тот все может сделать и достать себе» ( Красноярск , № 16).
Герой похищает свечку. Надо отметить, что сказочник упоминает и колодец, в котором прячется от преследующего его змея герой. Именно там герой узнает, что, если перекинуть свечу из правой руки в левую, появятся кучер и лакей, выполняющие все его желания. Одним из желаний героя становится подмена королевы на чеботарицу. История о получении свечи и ее чудесных свойствах существует в данном тексте как своеобразная вставная новелла, объясняющая возможность подмены одного человека другим. Несмотря на то, что в данном варианте юноша не получает никакой выгоды для себя (обычно солдат женится на принцессе), его жизни ничего не угрожает и чудесные помощники не должны спасать его от смерти, рассматриваемый фрагмент очевидно появился в сказке под влиянием сюжетного типа 562.
Вторая сказка записана Булгаковым в 1905 г. ( Красноярск , № 25). Она представляет собой контаминацию ряда сюжетов, связанных с поиском пропавшей жены. Одним из них является сюжет типа 562. В сказке чрезвычайно развернуто представлен мотив получения чудесной свечи. Герой спускается в западню и находит стол, на котором лежит некий мальчик, которого герой должен разрубить пополам, что он и делает. После этого свеча, стоящая на столе, загорается, и герой забирает ее с собой. Через некоторое время он узнает, что если свечу зажечь, то появляется «ссеченный мальчик» и выполняет его желания.
Помимо получения свечи, в этом варианте присутствуют и мотивы похищения царской дочери духом свечи, и узнавания царем того, куда носят ночью Марфиду-царевну. В первый раз ей под кровать прячут решето с мукой, но чудесный помощник поднимает «бурю погоду», разбивает «у короля магазины с хлебом, муку по всему восударству» разносит, «как все равно надуло снегу» (Красноярск, № 25). Второй раз, дорожку к дому героя делают из крови, которой наполнен бычий пузырь. Именно по ней находят дом героя, и он попадает в тюрьму.
Присутствует в данной сказке и чудесное спасение. Арестованный герой просит принести ему свечку и «коробок серянок», зажигает ее у виселицы, и дух свечи спасает его от смерти, превратившись в огненное колесо, а затем в сивого коня.
Несмотря на довольно запутанный сюжет, комплекс мотивов, связанных с типом 562, опознаваем и практически полностью соответствует сюжетной схеме, хотя получение чудесной свечи представлено оригинальной версией, а концовка данной сюжетной линии не совпадает с традиционной: несмотря на то, что герой несколько ночей велит духу свечи принести ему Марфиду-царевну, после своего спасения он не женится на ней, а продолжает искать исчезнувшую жену.
И в этом случае сказочник знал сказку сюжетного типа 562, но по какой-то причине (скорее всего для создания авантюрного сюжета) счел целесообразным включить данный сюжет в сказку о поисках исчезнувшей жены, что потребовало от него некой корректировки сюжетной схемы.
Еще два текста этой сказки были записаны в Башкирии от одного сказочника Г. Х. Хабибулина5 в разное время. Варианты различаются незначительными деталями. Они представляют собой контаминации различных сюжетов, доминирующим среди которых оказывается СУС 566 «Рога». В процессе рассказа о странствиях солдата Гаврилы сказочник сообщает, что тот нашел свечу, которая вызывает двух молодцев, исполняющих желания хозяина свечи. Герой велит молодцам построить «хрустальный двухэтажный дворец», где живет, «на качелях качается, вино попивает» (Бараг, 1969: 41). Через некоторое время он просит духов свечи принести ему «царскую дочь с койкой» (Бараг, 1969: 41). Царь решает узнать, куда пропадает его дочь, привязывает к кровати мешки с горохом, «горох сып-сып — дорожка получилась» (Бараг, 1969: 42), но Гаврила это увидел и велел молодцам засыпать горохом весь город. Царь не предпринимает второй попытки узнать правду, а просто приходит к солдату и предлагает свою дочь в жены. После свадьбы сказочное действие развивается в рамках сюжетного типа СУС 566, и свеча попадает в руки неверной жены.
Во всех вышеперечисленных вариантах сюжет 562 используется сказочниками полностью или частично в рамках других сюжетных типов как дополнительные линии повествования. Однако есть варианты, когда данный сюжет представлен в сказке как единственный или основной. Однако и тут возможны разные варианты.
Один из текстов принадлежит выдающемуся сказочнику ХХ в. Ивану Федоровичу Ковалеву ( Ковалев ). Его «Огниво» очень близко к тексту Андерсена не только по сюжетной схеме, но и по целому ряду деталей. Текстологических совпадений необычайно много. Русский сказочник упоминает и размер глаз собак, и защищающий от них передник, и деньги, лежащие в сундуках, и т. д. У Ковалева есть и забытое солдатом в первый раз огниво, и отрубание головы ведьмы, и «мальчишка-сапожник в кожаном фартуке» ( Андерсен : 11), принесший солдату огниво в тюрьму ( правда у Ковалева он превращается в «знакомого мальчика-сапожника» ( Ковалев : 153) ) . Однако Ковалев не был бы выдающимся сказочником, если бы просто пересказывал литературный текст. Он вводит в сказку реалистические подробности, которых нет у Андерсена, объясняет причины некоторых событий. Так, говоря о том, почему собака не заметила дорожку из золы, сказочник поясняет:
«Но так как ночь была слишком темная, то собаки не заметили, как сыпалась зола, а духу с золой они не почувствовали (зола не имеет запаха, поскольку она пережжена)» ( Ковалев : 153).
Ковалеву не свойственна и ирония Андерсена. Вместо ироничных замечаний писателя сказочник использует развернутые морализаторские сентенции. Так, если у Андерсена после освобождения солдат решает жениться на принцессе, а та «вышла из медного замка и сделалась королевой. Понятно, она была очень довольна» ( Андерсен : 11), то у Ковалева герой подробно и обстоятельно выдвигает девушке свои условия:
«Если хочешь быть моей женой, то я возьму тебя замуж, только при условии, если ты меня от души можешь полюбить, и больше мне не вредить и не произносить зла. А то я женюсь все равно на другой, хотя на самой бедной девушке, но на красавице. И она будет царицей» ( Ковалев : 154).
К сожалению, несмотря на хорошо изученное творческое наследие И. Ф. Ковалева [Гофман, Минц], [Померанцева], до сих пор неизвестно, откуда он узнал эту сказку. В его репертуаре есть сказки, на которые повлияло творчество братьев Гримм. Иван Федорович узнал их сказки в немецком плену от Лизхен — дочки какого-то фабриканта, у которого он оказался в услужении. Вполне вероятно, что у Лизхен была не только книга со сказками братьев Гримм, но и с произведениями Андерсена.
Аналогичный вариант использования текста Андерсена присутствует и у вепсского сказочника Ф. П. Смирнова. Этот текст не отмечен в указателе и традиционно не относится к русской традиции, хотя он записан на русском языке, которым свободно владел исполнитель. Рассказывал ли Смирнов эту сказку на вепсском языке, не известно. Русская версия «Огнива» у Смирнова полностью соответствует сюжетной схеме. В его сказке есть подземелье, три собаки, сундуки с золотом и даже фартук, на который нужно посадить собаку, чтобы открыть сундук. Сказочник сохраняет даже такую деталь, как размер глаз третьей собаки, хотя и изменяет знаковую для датчан деталь. У Андерсена глаза у собаки «были ни дать, ни взять две Круглые башни» (Андерсен: 11). Речь в данном случае идет о Круглой башне — одном из самых высоких зданий старого Копенгагена. Смирнову это, скорее всего, было неизвестно, кроме того, в ряде популярных изданий встречаются сравнения глаз собаки просто с круглыми башнями, самыми высоки башнями и т. п. Возможно, что было издание, в котором были таможенные башни, откуда они и попали в текст Смирнова, но можно предположить, что это личное изобретение сказочника. Совпадают с текстом Андерсена и мотивы, связанные с поиском того, кто похищает царскую дочь по ночам. Сказочник использует и эпизод с крестом, нарисованным мелом на дверях, и дорожку из пшена, просыпающегося из мешочка, сделанного царицей.
Но Филипп Семенович не просто пересказывает литературный текст. Он, как и И. Ф. Ковалев, наполняет его привычными сказочными образами и деталями. Так, вместо ведьмы действует Баба-Яга — костяная нога, вместо принцессы — царевна; у героя появляется имя — Антипка; родители героини пьют «кофей», охраняют ее «мамушки, нянюшки, сенные девушки» ( Смирнов ), арестовывает солдата царская милиция.
Смирнов использует и отсутствующий в сказке Андерсена мотив предсказания, которое сделали знатоки и чернокнижники, сообщив, что царская дочь «выйдет за русского солдата, за рядового замуж» ( Смирнов ). Этот мотив встречается в ряде сказочных сюжетов (например, 461 «Марко Богатый»), он мог быть известен сказочнику6.
Таким образом, Смирнов, так же как и Ковалев, был знаком с текстом Андерсена, но при рассказывании видоизменял его, удаляя непонятное и добавляя привычные элементы, наполняя текст подробностями, психологическими деталями, мотивировками действий персонажей и т. д.
Еще три сказочника, записи которых находятся в Фольклорном архиве Карельского научного центра РАН (Архив КарНЦ), также явно были знакомы с текстом Андерсена и также пытались переосмыслить его в рамках традиционного сказочного канона.
Текст, записанный от Е. А. Васильевой7, полностью соответствует сюжетной схеме типа 562. В ее сказке много текстологических совпадений с текстом Андерсена. В ее варианте солдат спускается в дупло, сажает собак на передник колдуньи, есть эпизод с крестом, нарисованным мелом, и дорожкой из пшена, есть мальчик сапожник, который приносит солдату в тюрьму забытое огниво. Но это не простой пересказ литературного сюжета. Сказочница заменяет непонятные ей детали на привычные. Так у собаки глаза «больше прежнего рубля», мальчику сапожнику за услугу достаются «три медных пятачка», солдат перед смертью просит «завернуть папироску». В тексте встречаются своеобразные оценочные замечания исполнительницы: «Смело подходит солдат к собаке (солдаты ведь не боятся)».
Второй текст принадлежит Б. Н. Сахарову8. В 1968 г. ему было 35 лет, он окончил 9 классов и работал электриком. Он мог знать книжный вариант сказки «Огниво». К сожалению, собиратели не отметили, откуда сказочник узнал сказку.
Текст Б. Н. Сахарова довольно точно соответствует тексту Андерсена, хотя в нем есть оригинальные детали. Так, солдат, возвращаясь со службы, раздает полученные деньги нищим: «Вот попадется ему нищий, калека, прохожий. Он одному рубль даст, другому рубль. Ну, так и денежки отдал». Вместо принцессы или царской дочери героиней сказки стала «одного вельможи дочка», а для того чтобы вычислить, куда она пропадает по ночам, позвали «бабушку-задворенку, фею эту». Солдат сразу же узнает о свойствах огнива и поэтому не отдает его ведьме. Кроме того, он не убивает ее, а бросает «эту бабку в подземелье».
Еще один текст записан от И. П. Савинковой9. Исполнительница была неграмотной, поэтому сказку Андерсена могла только услышать. Общая сюжетная схема у Савинковой совпадает с текстом Андерсена, но в ряде случаев она заменяет персонажей Андерсена на более привычные: так вместо ведьмы действует Баба-Яга, а вместо принцессы и короля —
«купцова дочь» и купец. Появляется множество деталей, являющихся личным творчеством сказочницы. Так, вместо договора с ведьмой о добывании огнива из подземелья, сказочница создает развернутую картину диалога солдата с Ягой, во время которого тот предлагает ей помощь в покупке лошади, затем добывает деньги и огниво и избавляется от противницы, не просто отрубив ей голову, а предварительно ослепив ее с помощью хитрости.
Сказки рассматриваемого сюжетного типа в творчестве упомянутых выше сказочников представляют собой в большей или меньшей степени импровизации в рамках привычного сказочного канона на сюжет текста Андерсена.
Наконец, есть еще один текст, принадлежащий к рассматриваемому сюжетному типу. Он был записан в Судогод-ском районе Владимирской области в 1996 г. и опубликован в сборнике «Фольклор Судогодского края» ( Добровольская , Морозов , Смолицкий , № 28). Его рассказала Ефимия Григорьевна Падкина, жительница села Гонобилово Судогодского района, 1909 г. р. От андерсеновской сказки сказочница не оставила практически ничего. Основой для этого текста послужил фильм Надежды Кошеверовой «Старая, старая сказка» (1968). Именно под влиянием кино в сказке появляется чудесный помощник Огневой. Волшебник исполняет желания солдата, появляясь после того, как тот ударит по огниву. Ефимия Григорьевна не пересказывает фильм, а на его основе создает самостоятельное произведение, где тесно переплетаются реалии сказочной и повседневной жизни. Вместо принцессы появляется дочка барина Лена, которая плачет на балконе, потому что ее «даже никуда не пускают» и от этого горя она хочет «броситься на асфальт прямо». Солдат служит «три года на границе», и после победы над барином его выбирают председателем, он получает квартиру и помощника Ваньку ( Добровольская , Морозов , Смолицкий , № 28).
Герои Падкиной активно обсуждают происходящие события; сказка состоит из множества диалогов, многие из которых не влияют на развитие сюжета. Так, прислуга тетя Таня, увидев, что у ее хозяйки, девушки Лены, «такие губы толстые», и выслушав ее рассказ о приходе во сне парня, объясняет, кто к ней приходил ночью на самом деле:
«Эх ты, дура, черт приходил, враг ведь он, тебя удушит, дура» ( Добровольская , Морозов , Смолицкий : 174).
Сказочница вкладывает в уста персонажа фрагмент популярной на данной территории былички о посещении тоскующей женщины огненным змеем. Разговаривают герои сказки своеобразным языком, который сказочница использует для создания «культурной речи». Так, когда барин просит солдата простить его, тот отвечает:
«Не прощу ни за что! При таком народе ты меня оконфузил» ( Добровольская , Морозов , Смолицкий : 175).
Народ, после расправы над барином просит солдата стать председателем такими словами:
«Володя, ставай на его место у нас в председатели, мы видим ты уж очень хороший человек!» ( Добровольская , Морозов , Смо-лицкий : 175).
Появляются в сказке и собаки — пять овчарок, с помощью которых герой расправляется с врагами:
«Грызите <…> барина да барыню, они мне петлю припасли, хотят меня давить ни за что» ( Добровольская , Морозов , Смо-лицкий : 175).
Сказка наполнена множеством деталей. Так, покупка одежды солдатом описывается чрезвычайно подробно:
«Расстилает шинель, скинул с себя гимнастерку, ему подают дорогую рубашку <…>, скинул с себя эти военные брюки, свернул, кладет все на шинель <…>, надел туфли, сапоги с себя скинул, портянки в сапожки, все в шинель завернул и в уголу-шек положил…» ( Добровольская , Морозов , Смолицкий : 173).
Служанка приносит Лене «покушать щи и сладкого чаю», ее родителям предлагает «чай или молочко горячее». Оправдываясь перед барином солдат говорит о том, что у него «в воинском билете одни награды и благодарности» ( Добровольская , Морозов , Смолицкий : 175)10.
Как видно из приведенных примеров, сказочница, используя сюжет кинофильма, создает свой сказочный текст, наполняя его придуманными деталями и образами. В тоже время она активно использует мотивы, характерные как для сказок, так и для других фольклорных жанров.
***
Как видно из приведенных выше примеров, сказка сюжетного типа 562 «Дух в голубом свете» известна в русском сказочном репертуаре. Помимо шести текстов, отмеченных в указателе, нам удалось выявить еще два опубликованных и три архивных текста. Пять текстов: ( Повествователь ), ( Красноярск , № 16), ( Красноярск , № 25), ( Бараг, 1969 ), ( Бараг, 1975 ) — используют данный сюжетный тип как дополнительную линию в повествовании. На текст из «Повествователя…» сказка Андерсена не оказала никакого влияния, поскольку на момент записи русской сказки, она не была написана. Скорее всего, данный русский вариант связан с устной традицией. Остальные тексты, в той или иной степени испытывают влияние Андерсена, но нельзя исключать и влияние сказки братьев Гримм, а также устной традиции.
Тексты И. Ф. Ковалева, Ф. С. Смирнова и три сказки из Архива КарНЦ представляют собой импровизации на сюжет текста Андерсена. Сказочники импровизируют в рамках привычного сказочного канона. Они знакомы с устным или письменным изложением текста Андерсена, но при рассказывании видоизменяют его, удаляют непонятные реалии и добавляют привычные элементы, наполняя текст подробностями, раскрывая психологию персонажей, объясняя мотивировки их действий и т. д.
Наконец, текст Е. Г. Падкиной представляет собой импровизацию, которая создана на основе фильма «Старая, старая сказка», снятого по нескольким сказкам Андерсена. Поскольку Ефимия Григорьевна не включает в свое повествование элементы других сказок, использованных Н. Кошеверовой, можно предположить, что она была знакома и с книжной версией сказки. В любом случае в своей импровизации сказочница выходит далеко за пределы сказочного канона. Ее текст в значительной степени существует по законам литературы, а не фольклора. В нем есть пейзажные и портретные зарисовки, не свойственные фольклорной сказке, показана психология героев и их внутренние переживания, сказочница объясняет мотивировки поступков персонажей, в тексте множество бытовых деталей и т. п.
Несмотря на такую разницу в подходах к сказочному тексту, можно достаточно уверенно говорить о том, что текст Андерсена с течением времени вытеснил из репертуара сказочников некую устную версию сюжетного типа 562. Можно также предположить, что изменилось и функционирование данного типа в сказке. В более ранних записях он бытует как дополнительный эпизод повествования, в то время как в более поздних становится самостоятельным сюжетным типом.
Список сокращений
АТ — The Types of the Folk-Tale. A Classification and Bibliography. Аntti Aarne’s Verzeichnis der Märchentypen (FF Communications №3) / Translated and Enlarger by Stith Thompson. Helsinki. 1981. Pp. 204–205. (FFC, № 184).
АТУ — Uther, Hans-Jörg. The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography. 2004. Parts I–III. Helsinki. 2004. P. 1. 1443 p.
СУС — Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка / сост. Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. Новиков. Л.: Наука, 1979. 437 с.
Архив КарНЦ — Фольклорный Архив Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН.
Список литературы Сюжет «дух в голубом свете» в русской сказочной традиции: между фольклорной сказкой и авторским творчеством
- Астахова А. М. Русский былинный эпос на Севере. Петрозаводск: Госиздат Карело-Финской ССР, 1948. 396 с.
- Бер-Глинка А. И. К типологии сюжетов восточнославянских сказок о змеях № № 672 и 673 по системе Аарне-Томпсона // Этнографическое обозрение. 2014. № 1. С. 125–139.
- [Гофман Э., Минц С.] Введение // Сказки И. Ф. Ковалева / зап. и коммент. Э. Гофман и С. Минц, [под] ред. Ю. М. Соколова. М.: Государственный литературный музей, 1941. С. 7–28. (Летописи Государственного литературного музея; кн. 11.)
- Добровольская В. Е. История фиксации сказки «Жена ужа» (425М) у русских // Традиционная культура. 2015. Т. 16. № 4 (60). С. 90–98.
- Добровольская В. Е. Сюжет «Амур и Психея» (СУС 425А) в русской сказочной традиции // Традиционная культура. 2017. Т. 18. № 3 (67). С. 139–150.
- Добровольская В. Е. Иностранные заимствования в репертуаре русских сказочников // Лингвофольклористика. 2018. № 27. С. 26–37. (a)
- Добровольская В. Е. «Литературные предпочтения» русских сказочников: «авторская сказка» в фольклорном репертуаре // Культура и текст. 2018. № 1 (32). С. 201–203. (b)
- Добровольская В. Е. Мужская сказочная традиция в России: сказочный канон и индивидуальное начало (XIX–XXI вв.) // Традиционная культура. 2018. Т. 19. № 5. С. 175–187. (c)
- Добровольская В. Е. «Ореховая веточка»: редакция сюжетного типа СУС 425С «Аленький цветочек» (сказка староверов Литвы в контексте русской сказочной традиции) // Из истории русской фольклористики. СПб., 2018. Вып. 10: Современные методы и подходы в изучении традиционной народной культуры: к юбилею Ю. А. Новикова. С. 226–238. (d)
- Добровольская В. Е. Сказка «Слепой и безногий» (СУС 519) в репертуаре русских сказочников: фольклорная реализация литературного сюжета // Вопросы русской литературы. 2018. № 4 (46/103). С. 93–113. (e)
- Добровольская В. Е. Сюжет «Хитрая наука» (СУС 325) в русской и абхазской традиции: общие черты сюжетного типа и его национальная специфика // Вестник Академии наук Абхазии. Серия гуманитарных наук. Сухум: Academia, 2018. Вып. 8. С. 25–37. (f)
- Добровольская В. Е. Русские сказочники в XXI веке: репертуарный состав и функции текстов // Казка ў еўрапейскай прасторы: гiсторыя и сучаснасць. Мiнск: Беларуская навука, 2019. С. 22–33. (a)
- Добровольская В. Е. Русские сказочники конца ХХ — начала XXI века: сюжетный состав и отношение к жанру сказки // Kulturas studijas XI. Maskulinais kultura / Cultural studies XI. Masculinity in literature and culture. Daugavpils, 2019. C. 39–47. (b)
- Добровольская В. Е. Сюжет 432 «Финист Ясный Сокол» / «The Prince as Bird»: специфика русской сказочной традиции и реализация сюжета в современной культуре // Савремена Српска фолклористика 7. Београд, 2019. С. 61–86. (c)
- Добровольская В. Е. Сюжетный тип ATU 510В “Peau d’Аsne” / СУС 510В «Свиной чехол» в русской сказочной традиции // Традиционная культура. 2019. Т. 20. № 1. С. 20–30. DOI: 10.26158/TK.2019.20.1.002 (d)
- Добровольская В. Е. Сюжетный тип СУС 706 («Безручка») в русской сказочной традиции // IV Всероссийский конгресс фольклористов. М.: ГРДНТ им. В. Д. Поленова, 2019. Т. 3: Комплексные исследования традиционной культуры. С. 145–155. DOI: 10.24411/9999-022A-2020-00014 (e)
- Добровольская В. Е. Жена-животное: сказки о чудесной / заколдованной супруге в русской фольклорной традиции // «Нарты» и другие устные традиции: сборник в честь 60-летия Зураба Джапуа. Сухум: Абгосиздат, 2020. С. 330–343. (a)
- Добровольская В. Е. Русские сказки Карелии в контексте русской сказочной традиции на примере сюжетного типа 709 «Волшебное зеркальце» («Мертвая царевна») // Словесность и история. 2020. № 2. С. 27–47. DOI: 10.31860/2712-7591-2020-2-27-47 (b)
- Добровольская В. Е. Пермские варианты сказочного сюжета СУС 502 «Медный лоб»: между книгой и фольклорной традицией // Традиционная культура. 2021. Т. 22. № 3. С. 53–65. DOI: 10.26158/TK.2021.22.3.004 (a)
- Добровольская В. Е. Хранитель сказочной традиции Чернушинского района Пермского края: cлучай Нины Андреевны Чечихиной // Славянская традиционная культура и современный мир. Слово. Время. Человек. СПб.: Маматов, 2021. Вып. 19. С. 80–102. DOI: 10.24412/cl-35953-2021-1-80-102 (b)
- Жепниковска И. Сюжетный тип 510B «Ослиная шкура» в польской сказочной традиции // Традиционная культура. 2019. Т. 20. № 1. С. 43–51.
- Корепова К. Е. Русская сказка «Финист ясный сокол» и ее сюжетные параллели // Вопросы сюжета и композиции: межвуз. сб. Горький: ГГУ, 1982. С. 3–12.
- Коровина Н. С. К вопросу о взаимодействии коми и русских волшебных сказок (СУС 706 «Безручка») // Традиционная культура. 2019. Т. 20. № 5. С. 99–110. DOI: 10.26158/TK.2019.20.5.008
- Коровина Н. С. Традиции и современность в творчестве коми сказочников (СУС 502 «Медный лоб») // Традиционная культура. 2021. Т. 22. № 3. С. 66–78. DOI: 10.26158/TK.2021.22.3.005
- Лызлова А. С. К проблеме взаимоотношений русской устной фольклорной традиции и лубочной литературы: сказки о животных-зятьях // IDIL. 2013. Т. 2. № 7. С. 215–225. DOI: 10.7816/idil-02-07-13
- Лызлова А. С. «Сказка о Светлане Прекрасной» из репертуара И. Ф. Ковалева (д. Шадрино Нижегородской области) в контексте общерусской сказочной // Фольклор Большой Волги. М., 2017. С. 189–201.
- Лызлова А. С. Литературные источники сказок вепса Ф. С. Смирнова (1863–1938) // Традиционная культура. 2019. Т. 20. № 5. С. 194–203. DOI: 10.26158/TK.2019.20.5.017
- Новиков Ю. А. Сказитель и былинная традиция. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. 373 с.
- Пилия М. Ф. Абхазские волшебные сказки о предотвращенном инцесте (сюжетные типы ATU 313Е* “The Sister’s Flight”, ATU 510B “Peaud’Asne”) // Традиционная культура. 2019. Т. 20. № 1. С. 52–58. DOI: 10.26158/TK.2019.20.1.005
- Померанцева Э. В. Сказочник-книжник // Писатели и сказочники. М.: Сов. писатель. С. 256–292.
- Пухова Т. Ф. Особенности сюжета русской народной сказки «Безручка» // «Нарты» и другие устные традиции: сборник в честь 60-летия Зураба Джапуа. Сухум: Абгосиздат, 2020. С. 344–366.
- Трошкова А. О. Сюжет «Хитрая наука» (СУС 325) в русской волшебной сказке // Вестник Марийского Государственного университета. 2019. № 1 (33). С. 98–107. DOI: 10.30914/2072-6783-2019-13-1-98-107
- Ashliman D. L. Magic Object // The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales / edited by Donald Haase. Westport; London: Greenwood press, 2008. Рp. 598–599.
- Dobrowolskaja W. Inwencja twórcza w bajce ludowej: przypadek Efimii Grigoriewny Padkiny // Przegląd rusycystyczny. Katowice. 2019. Nr 1 (165). С. 21–32.
- Tucker Е. Geist im blauen Licht // Enzyklopädie des Märchens. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1987. Band 5. S. 928–933.