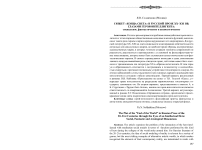Сюжет "конца света" в русской прозе XX-XXI вв. Глазами героя-интеллигента: социальное, фантастическое и аксиологическое
Автор: Солдаткина Янина Викторовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (58), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема взаимодействия героя-интеллигента с тоталитарными общественными моделями в аспекте функций, выполняемых такого рода героем в период краха окружающего его миропорядка. Для русской литературы XX-XXI вв. идея социального моделирования действительности актуальна для самых разных жанров, но наиболее яркие образцы альтернативных художественных миров, в которых читатели узнавали элементы современной им реальности, реализуются в произведениях с установкой на философски-притчевое повествование, которое может быть осложненно антиутопическими или фантастическими чертами. В сюжете справедливого возмездия и даже уничтожения ложного социума важнейшая роль отводится герою, чей типаж может быть соотнесен с традиционным для литературы ХХ в. образом интеллигента. В этом герое ум и образованность сочетаются с состраданием к человечеству и неспособностью смириться с противоестественным устройством тоталитарного социума. По итогам наблюдений в статье выделяются три основных варианта взаимодействия интеллигента в ситуации «гибели цивилизации». Первый вариант, реализуемый в романах В.В. Набокова «Приглашение на казнь» и Т.Н. Толстой «Кысь», утверждает право интеллигента на разрушение марионеточных тоталитарных государств, пленивших его. Во втором варианте, представленном в повести А. и Б. Стругацких «Трудно быть богом», именно на героя-интеллигента возлагается ответственность за совершающийся Апокалипсис. Третий вариант, актуализированный в романе Е.Г. Водолазкина «Оправдание острова», предполагает предотвращение конца света посредством самопожертвования героя-интеллигента.
Герой-интеллигент, философская притча, фантастика и антиутопия, апокалиптические мотивы, социальные модели, открытый финал
Короткий адрес: https://sciup.org/149139237
IDR: 149139237 | DOI: 10.54770/20729316_2021_3_287
Текст научной статьи Сюжет "конца света" в русской прозе XX-XXI вв. Глазами героя-интеллигента: социальное, фантастическое и аксиологическое
Для литературы XX в. апокалипсический по своей семантики сюжет краха привычного социума, маркируемого как ложный, безнравственный, неправедный, но при этом зачастую сопровождающегося насилием, разрушениями и жертвами, становится художественным ответом на реальные социальные потрясения, которые требовали своего эстетического и философского осмысления. Разрабатывая проблематику «конца света», литература принимала активное участие в конструировании вероятного будущего, анализировала те траектории общественного развития, которые представлялись наиболее тревожными с нравственной и эстетической точек зрения. При всей социальной нагруженности, наиболее ярко комплекс «гибели цивилизации» в русской литературе прошлого столетия реализуется в произведениях, близких к антиутопическим, фантастическим и притчевым жанрам, подчас совмещающим в себе полижанровые свойства, важные именно в аспекте изображения этико-эстетической модели «конца света», сочетающей в себе как вымышленные, так и узнаваемые для читателя переклички с современной времени написания трагической реальностью.
В предлагаемой статье исследовательское внимание будет сосредоточено на тех русских романах XX и начала XXI вв., в которых глобальная катастрофа, приводящая к разрушению рассматриваемой авторами общественной формации, рассматривается не в реалистическом, а в притчевофилософском, фантастико-антиутопическом контексте. Эта катастрофа оказывается спровоцированной или находится в прямой зависимости от нравственного выбора и определяемых этим выбором действий персонажа, наделенного чертами героя-интеллигента и по этому признаку очевидно противопоставленного деградирующему миропорядку, во многих своих проявлениях ассоциируемого с тоталитарным социальным строем,
уничтожение которого с этой точки зрения носит характер возмездия, настигающего общество за его безответственные и безнравственные действия (и по отношению к герою-интеллигенту, в том числе) [Кантор 2002].
Мы имеем в виду такого героя, черты которого, при всех внешних различиях сюжетов, обстоятельств написания и культурного контекста, объединяют в общий типаж и Цинцината Ц из «Приглашения на казнь» В. Набокова (1935-1936), и дона Румату Эсторского из «Трудно быть богом» А. и Б. Стругацких (1963), и Никиту Иваныча из «Кыси» Т. Толстой (1986-2000), и даже пару Парфений и Ксения из «Оправдания острова» Е. Водолазкина (2020). В общем мифопоэтическом контексте указанных произведений с их антиутопически-притчевой доминантой можно отметить, что их объединяют более или менее явные христианские отсылки, относящие их как к числу сниженных, пародийных вариаций образа Христа (Цинцинат Ц [Стрельникова 2016], Румата [Борода 2008]), так и к переосмысленным и отчасти травестированным образам «святых в миру», не чуждых и своего рода юродству (Никита Иваныч, Парфений и Ксения), что не исключает близости этих персонажей к типу героя-интеллигента, на протяжении всего XX в. занимающего значимое место в системе персонажей русской прозы [Колпаков 2017].
С одной стороны, все перечисленные герои могут быть с разного рода оговорками отнесены к типажу «интеллигента», поскольку наделены развитым самосознанием и склонностью к саморефлексии; обладают широким кругозором, начитаны в своей области и умеют делать умозаключения на основе прочитанного, сопоставлять его с собственными наблюдениями над окружающей их действительностью; склонны если не к творчеству как таковому, то к творческому, поэтическому восприятию мира, стремятся мир облагородить, сообщить ему не только плотские устремления. Они сострадательны, не чужды эмпатии, что вызывает подозрения со стороны властей предержащих. Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что эти герои принципиально противопоставлены воссозданным в рассматриваемых произведениях сообществам «мещан», «филистеров», «кукол» («Приглашение на казнь»), «средневековых обывателей» («Трудно быть богом»), малограмотных «голубчиков» («Кысь») и просто мелких эгоистов и грешников («Оправдание острова»), а потому вполне могут быть аттестованы в качестве вариации образа интеллигента в русской литературе.
С другой стороны, всем этим героям присущи некие условно «волшебные», «фантастические» свойства, сообщающие им немыслимые как внутри искусственно смоделированных антиутопических или же фантастических миров, так и вне их силы. Так, Цинцинат, забывшись, ходит по воздуху и судим за «непрозрачность», «непознаваемость» («гносеологическую гнусность»), которая делает его не только метафизически, но и физически существом, не равным прочим «марионеткам» «Приглашения на казнь». Дон Румата - инопланетянин в Арканаре, к услугам которого все чудеса техники и фармакологии, для обывателей выглядящих аналогично сказочным артефактам типа мифриловой кольчуги или волшебной палочки, а два меча в его руках порождают не только миф о его неуязвимости, но и демонстрируют его недюжинную мощь. Истопник Никита Иванович из «Кыси» - не просто «прежний», символ интеллигента-почвенника, но и сниженная аллюзия на Прометея, поскольку умеет по собственному желанию извергать огонь и в том огне не сгорать, становясь своего рода аналогом вечно живущего божества. Парфений и Ксения в «Оправдании острова» в силу святости своих девственных натур выключены из привычного механизма взросления и старения, что заставляет читателей воспринимать их как победителей времени. Обобщая, подчеркнем подразумеваемую в текстах близость всех названных персонажей к категории бессмертности, одновременно сказочной, мистической и при этом маркирующей их поистине нечеловеческие возможности и сверхчеловеческий потенциал.
Собственно, в этих образах прослеживаются знаменательные результаты трансформации классического типажа интеллигента, который, будучи вписанным авторами в нереалистический, антиутопический или фантастический контекст, практически не теряя своей интеллигентности, приобретает несвойственные ему в реалистическом повествовании и обычной жизни магические силы. С определенной долей вероятности мы можем утверждать, что в рассматриваемых художественных социальных проекциях образ интеллигента наделяется компенсаторными чертами. Ему доступны функции, невероятные для «рядового интеллигента» XX в.: встать и уйти с собственной казни, разрушив перед этим тюрьму, дать мечом отпор хамам, дыхнуть огнем и т.д. Точкой наиболее яркого раскрытия этих функций, их полноценной реализацией становятся финальные сцены произведений, поскольку на протяжении всего повествования в герое-интеллигенте копится его несогласие с действительностью, все резче обозначается его противопоставленность социуму и, более того, все жестче звучат претензии социума, этому герою предъявляемые.
В рассматриваемых произведениях тщательно и в подробностях воссоздаваемая фикционная социальная конструкция в финале разрушается, причем не без воздействия, а зачастую при прямом участии героя-интеллигента. Нам представляется, что, с одной стороны, писатели, проигрывая различные варианты альтернативного мироустройства, подчеркивают катастрофичность и уязвимость бытия в XX XXI вв., близость атмосферы «последних времен», особенно в тоталитарных условиях. С другой, их интересует вопрос о способности как всего человечества, так и конкретного героя-интеллигента бросить вызов неправедному миропорядку со всеми вытекающими из этого вопроса онтологическими и аксиологическими проблемами: обречен ли смоделированный социум на гибель и кто несет ответственность за эту гибель, виноват ли герой-интеллигент в наступающей для социума катастрофе или же, наоборот, в сложившихся обстоятельствах уничтожение социума представляется единственным выходом, а участие в этом уничтожении интеллигента - добродетелью, подвигом, способствующим устранению ложного устройства, возможным

спасением, очищением мира и даже - его закономерным обновлением или грядущим возрождением (в той степени, в которой Апокалипсис может быть рассмотрен как преддверие Нового Иерусалима - Царства Божия на земле (рая, «праведной земли», победы над смертью и т.д.)). В определенной степени финальная ситуация «конца света» оказывается не только для социума, но в первую очередь для героя-интеллигента самой взыскательной проверкой его духовных принципов и творческих способностей, его готовности к жертвенности, состраданию, к преодолению себя и расширению собственных возможностей, моментом откровения, испытания и наивысшей концентрации воли и метафизических поисков.
В притчевом художественном мире «Приглашения на казнь» [Федуни-на 2013, 198] внутренний сюжет романа строится вокруг осознания Цин-цинатом Ц марионеточности, игрушечности той действительности, которая гонит его за «непрозрачность» и осуждает на смерть как неспособного и не желающего «покаяться» и превратиться в такого же, как они. Набоков всячески подчеркивает «театральность» самого пространства: тюрьма, улицы, даже Луна представляют собой декорации, за которыми Цинцинату необходимо разглядеть контуры другой - оригинальной, а не подражательной - реальности, проснуться от дурного сна в явь, а вовсе не умереть и перестать существовать, как он опасается. В этом контексте сцена казни Цинцината вне зависимости от того, погиб ли герой в ложном, призрачном мире, или же, наоборот, окончательно осознал свою бессмертность, оборачивается полным крахом для социума: падает задник, обнажая кулисы, палач уменьшается на глазах до состояния личинки, а за рухнувшим миражем Цинцинат слышит голоса существ (то ли настоящих людей, то ли -потусторонних сил, например, ангелов, платоновских первосущностей, душ и т.д.). Хотя в финале судьба Цинцината открыта, но в отношении социальной модели авторский приговор однозначен: куклы и их абсурдный мир заслуживают только уничтожения, поведение героя расценивается как нравственная и философская победа над марионетками, как восстановление справедливости, закономерное и в этом смысле нравственно-оправданное. Более того, автор предоставляет герою возможность наконец реализовать свое преимущество, делом доказать собственную правоту - и уничтожить антиутопический фантом, показав его полную несостоятельность. Примечательно, что Цинцинат при этом не воин, не властитель, не герой-практик, а - тот, кого называют слабым и безвольным, рефлексирующим типажом. Очевидно, что способность именно героя такого типа в итоге разрушить оковы ложной реальности (и разрушить именно в силу наличия у него души, творческого склада, духовных запросов), обусловлена в том числе и культом силы, террора, насилия в XX в., которым Набоков противопоставляет «интеллигентность»-«непрозначность» как пропуск в истинное бытие.
Полижанровая повесть братьев Стругацких «Трудно быть богом» содержит в себе не только фантастико-авантюрный, но и мощный философ-ски-притчевый компонент [Козьмина 2017, 203-220], который позволяет рассмотреть характерный для нее конфликт между героем-интеллигентом и тоталитарной государственной моделью в рамках заявленной в статье проблематики. Для дона Руматы Эсторского (он же землянин Антон, сотрудник Института экспериментальной истории) финальный локальный Апокалипсис оборачивается нравственным и философским проигрышем: доведенный до отчаяния действиями монашеского ордена, захватившего власть в Арканаре - средневековом королевстве, во многом представляющем собой политическую аллюзию на современный авторам советский социум, Антон из гуманиста, «высшего существа» с высокими моральными принципами, превращается в убийцу, который, возможно, воображает себя «благородным мстителем», но для землян, читателей и авторов его вина и преступление несомненны. С одной стороны, на протяжении всего повествования Румата стремился спасать и защищать, пользуясь всем своим инопланетным арсеналом, и силовым в том числе. Он пытался предотвратить государственный переворот, который вылился в масштабную смену власти в Арканаре, вполне сопоставимую в безрелигиозном контексте повести с Апокалипсисом, понимаемым как уничтожение прежнего миропорядка. Таким образом, Апокалипсис не вызван напрямую действиями героя-интеллигента, наоборот, для героя он нежелателен, противоестествен. С другой стороны, Апокалипсис высвобождает мощную энергию разрушения, до поры подавляемую героем в себе, провоцирует отказ от нравственных обязательств «землянина», заставляя уподобиться творцам этого Апокалипсиса и в жестокости, и в беспринципности. Провал социокультурной и гуманистической миссии Руматы оборачивается и его человеческим падением, и в этом отношении вывод авторов о роли интеллигента неутешителен: попытка противостоять насилию насилием же, переход интеллигента к образу мыслей и действий героя-революционера и мстителя одинаково плачевны и гибельны и для самого героя, и для социума, за который герой, несмотря на обстоятельства конца света, несет нравственную и историческую ответственность. В этом контексте нельзя не отметить, что Румата с его двумя мечами по сути представляет собой фантастическую самопрезентацию интеллигенции, чьи способности традиционно далеки от сферы боевых искусств, но поскольку свойственная интеллигентскому героя жажда справедливости, наказания неправых не находит своего разрешения в повседневной жизни, то она раскрывается в фантастическом тексте.
На рубеже XX XXI вв. Т.Н. Толстая в своем романе «Кысь» осознанно и с иронией апеллирует и к набоковскому тексту с его конфликтом «непрозрачных» и «кукол», и к повести Стругацких с ее смоделированным средневековым колоритом. В «Кыси», помимо явных антиутопических черт [Ланин 2014], исследователями выделяются элементы философской притчи, важные для нашего контекста [Вайкум 2018, Грешилова 2017]. Оговоримся, что Толстая сдвигает фокус в отношении героя-интеллигента: хотя основной сюжет ее романа связан с взрослением и инициацией «недоросля» Бенедикта, механизм крушения вымышленного тоталитарно-

го миропорядка связывается, как и в предыдущих произведениях, с судьбой и действиями героя-интеллигента. Именно волей «прежнего» старика, интеллигента Никиты Иваныча в «Кыси» мнимосредневековое поселение, возникшее после атомного взрыва на месте старой Москвы, накрывает вал испепеляюще-очищающего огня. Никаких угрызений совести или же сострадания к погибшим мутантам-«голубчикам» Никита Иванович при этом не испытывает. У Толстой сожжение города с одновременным уничтожением всех его условно человекообразных, но в общем безобразных обитателей, спровоцировано казнью беззлобного Никиты Ивановича, в котором, тем не менее, нынешний глава города чувствует потенциальную угрозу своей власти, что позволяет увидеть в финале «Кыси» травестиро-ванную отсылку к финалу «Приглашения на казнь» [Десятов 2003]: тот же сюжетный поворот, когда желание избавиться от интеллигента оборачивается для подавляющего его социума полной катастрофой, сотворенной этим самым интеллигентом, много превосходящим по своим достоинствам и возможностям марионеточное окружение. С одной стороны, перед нами все та же вариация мечты интеллигента о возмездии обывателям и бюрократам, которые сами своими действиями разбудили дракона в милейшем, смешном и заботящемся о просвещении старике, чьих истинных сил они просто не в состоянии были осознать. С другой - Никита Иванович, разрушая ложную модель мира, действует не только в логике «конца времен», но и в рамках московского эсхатологического мифа (А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, М.А. Булгаков и др.), в соответствии с которым огонь, уничтожающий Москву, парадоксально способствует ее восстановлению в обновленном, возможно - улучшенном виде [Селеменева 2009]. Помимо самого Никиты Ивановича и его друга-западника Льва Львовича, в живых после пожара остается и главный герой «Кыси» Бенедикт, который не только становится свидетелем крушения прежнего мира, постмодернистского в своих основах, но и возможным кандидатом на созидание нового. Сложно сказать, насколько на пепелище бывшей Москвы вероятен Новый Иерусалим, но отметим изменившиеся акценты: при всей своей иронии и безоговорочном неприятии дикого смоделированного царства, Толстая не только, в отличии от Стругацких, снимает с интеллигенции всякую вину за силовое решение проблем социума, но и, в отличии от Набокова, оставляет минимальную надежду на возрождение бытия, на новый виток развития бессмертных города и культуры.
На волне пандемии 2020 г. и роста апокалиптических настроений в медиапространстве свою версию философско-притчевой миромодели предложил Е.Г. Водолазкин. В его романе «Оправдание острова» соединяются черты летописного повествования, пародийной антиутопии, близкой одновременно «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина и «Багровому острову» М.А. Булгакова, житийные и апокалипсические элементы. В соответствии с древним пророчеством, главными действующими лицами в предстоящей острову катастрофе должны стать девственные супруги Парфений и Ксения, в прошлом правители острова, а в настоящем - прак- тически бессмертные изгнанники (подобные благоверным князьям Петру и Февронии Муромским), жители коммуналки и будущие герои фильма о самих себе, снимаемого популярным французским режиссером Жан-Мари Леклером. Эти двое сознательно отказались от физической близости в браке, впоследствии - от светской власти, передав ее восставшим островитянам, и прожили несколько веков в ожидании, как выясняется, именно Апокалипсиса, сопровождающегося карами небесными. Их безгрешность противостоит череде бездарных, преступных и развращенных правителей острова и проистекает из жертвенного желания послужить Богу и своему народу В отличии от предыдущих антиутопий, Парфений и Ксения не виновны в разворачивающемся конце света, но только их добровольное самопожертвование способно остров «оправдать»: «И будет лететь пепел с небес, и сердца ваши обратятся в пепел» [Водолазкин 2021, 343].
В данном случае не грешный мир, но именно герои перестают существовать в прежнем качестве, предотвращая извержение вулкана, грозящее острову: «Парфений выступает по радио с обращение к народу. Он призывает жителей Острова изгнать из сердец страх и помогать друг другу, ведь положение сложное, но не безвыходное. Помолчав, говорит: никто не давал нам права идти на Гору и говорить с Ним, так что не можем мы туда идти. Говорит: видя ваши слезы, не можем мы туда не идти, так что, конечно, пойдем» [Водолазкин 2021, 398]. Оставаясь бессмертными в памяти народной и увековеченными в кино, Парфений и Ксения растворяются в облаке Божьего присутствия (возможно, возносятся в небеса), что парадоксальным образом разрешает политические конфликты внутри Острова и примиряет островитян с Богом. Водолазкин таким образом совмещает и мотив перемещения героев в истинный мир («Приглашение на казнь», «Трудно быть богом»), и вознесение («Кысь»), и финальное максимальное раскрытие потенциальных возможностей героев, самым прямым образом влияющие на судьбу социума. В таком сюжетном повороте можно увидеть и реверсивную переработку библейской истории Содома и Гоморры, где как раз нужного числа праведников для спасения не достало, и даже парафраз строк песни Бориса Гребенщикова «Никита Рязанский», представляющей собой поэтико-иронический вариант агиографии вымышленного святого: «А ночью опять был дождь, // И пожар догорел, нам остался лишь дым; // Но город спасется, // Пока трое из нас // Продолжают говорить с Ним» [Гребенщиков 2002,282]. В жизнеутверждающей версии Водолазки-на трое, спасшие город: Парфений, Ксения и Бог, к Которому они поднимаются в гору. Тем самым, через весь XX в. в начале XXI в. русская литература в своем социальном моделировании фантастически-философского «конца времен» пришла к такому художественному решению конфликта, в котором Апокалипсис оказался отменен усилиями героев, по своим функциям близких к образу героев-интеллигентов. Катастрофа сменилась своего рода утопической мечтой о примирении «интеллигенции и революции», о вере в гражданский диалог и в то, что обновление социума возможно без трагического разрушения мира.
А.Ю. Колпаков в своей концепции «интеллигентского дискурса» в русской литературе XX в. утверждал, что «в интеллигентском дискурсе советской эпохи продолжали сосуществовать две модели спасения интеллигенции: перерождения и самостояния» [Колпаков 2015, 53]. Создатели рассмотренных нами альтернативных философско-притчевых художественных миров и фантастико-антиутопических социальных моделей предлагают три принципиальных модели поведения интеллигента в ситуации «конца света». Первая предполагает, что интеллигент как личность творческая, многократно превосходя окружающих обывателей, имеет полное моральное право на освобождение и уничтожение оных, а также всего ложного устройства бытия. Вторая анализирует провал миссии интеллигента по преобразованию мира и меру ответственности героя за происходящее. Третья же обращается к идее жертвенности, которая дает даже неправедному социуму надежду на спасение и возрождение, но требует от героя самоотвержения, подвига не ратного, но духовного - обращения к тому самому нравственному оружию, которое наиболее уместно в руках героя-интеллигента и одно способно противостоять как апокалипсису, так и катастрофическим социальным экспериментам, этико-эстетический анализ которых оказался в сфере внимания русской литературы.
Список литературы Сюжет "конца света" в русской прозе XX-XXI вв. Глазами героя-интеллигента: социальное, фантастическое и аксиологическое
- Борода Е.В. От благодетеля к прогрессору: модификация образа сверхчеловека в отечественной фантастике ХХ века // Филология и человек. 2008. № 4. С. 21-27.
- Вайкум Л.А. Азбучные истины и притчевая стратегия повествования в романе Т. Толстой «Кысь» // Проблемы исторической поэтики, 2018. Т. 16. № 2. С. 214-224.
- Водолазкин Е.Г. Оправдание Острова: роман. М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2021. 405 с.
- Гребенщиков Б. Песни: единственное полное собрание всех текстов песен Бориса Гребенщикова (1973-2002). М.: Нота-Р., 2002. 622 с.
- Грешилова А.В. Антиутопические тенденции в романе Т.Н. Толстой «Кысь» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 8 (74): в 2 ч. Ч. 2. C. 33-36.
- Десятов В.В. Сирин и «Кысь». Татьяна Толстая пародирует Набокова // Сибирский филологический журнал. 2003. № 1. С. 39-50.
- Кантор В.К. Антихрист, или Ожидавшийся конец европейской истории (Соловьев contra Ницше) // Вопросы философии. 2002. № 2. С. 14-27.
- Козьмина Е.Ю. Фантастический авантюрно-исторический роман: поэтика жанра. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2017. 292 с.
- Колпаков А.Ю. «Большой роман» об интеллигентном герое как жанровая разновидность русской романистики: к постановке проблемы // Новый филологический вестник. 2017. № 2. С. 128-138.
- Колпаков А.Ю. Перерождение и самостояние: о двух вариантах спасения интеллигенции в русской литературе // Вестник РГГУ Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2015. № 2. С. 45-54.
- Ланин Б.А. Русская утопия, антиутопия и фантастика в новом социально-культурном контексте // Проблемы современного образования. 2014. № 1. С. 161169.
- Селеменева М.В. «Московский текст» в русской литературе ХХ в. (на материале художественной прозы 1910-1950-х гг.) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение, журналистика. 2009. № 2. С. 20-27.
- Стрельникова Л.Ю. Театрализованная модель мира в романе В. Набокова «Приглашение на казнь» // Вестник Брянского государственного университета. 2016. № 1. С. 203-208.
- Федунина О.В. Поэтика сна (русский роман первой трети ХХ в. в контексте традиции). М.: Intrada, 2013. 196 с.