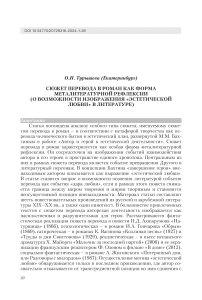Сюжет перевода в роман как форма металитературной рефлексии (о возможности изображения «эстетической любви» в литературе)
Автор: Турышева О.Н.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 1 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу особого типа сюжета, именуемому сюжетом перевода в роман - в соответствии с метафорой творчества как перевода человеческого бытия в эстетический план, развернутой М.М. Бахтиным в работе «Автор и герой в эстетической деятельности». Сюжет перевода в роман характеризуется как особая форма металитературной рефлексии. Он сосредоточен на изображении событий взаимодействия автора и его героев в пространстве единого хронотопа. Центральным из них в рамках сюжета перевода является событие превращения Другого в литературный персонаж. В концепции Бахтина «завершение героя» вненаходимым автором описывается как выражение «эстетической любви». В статье ставится вопрос о возможности освоения литературой события перевода как события «дара любви», если в рамках этого сюжета снимается граница между миром творения и миром творимым и становится неосуществимой позиция вненаходимости. Материал статьи составляют шесть повествовательных произведений из русской и зарубежной литературы XIX-XX вв., а также один кинотекст. В большинстве привлеченных текстов с сюжетом перевода авторская деятельность изображается как насильственная и разрушительная для героя. Рассматриваются фантастическая реализация сюжета перевода в повести Н.Д. Ахшарумова «Натурщица» (1866), психологическая - в романе И.А. Гончарова «Обрыв» (1869), сатирическая - в романах К. Вагинова «Козлиная песнь» (1927) и «Труды и дни Свистонова» (1929), реалистическая - в пьесе испанского драматурга Х. Майорги «Мальчик за последней партой» (2006) и ее экранизации французским режиссером Ф. Озоном в фильме «В доме» (2012), социально-фантастическая - в романе А. Житинского «Потерянный дом, или Разговоры с милордом» (1987). Осуществление мотива «эстетической любви» обнаруживается только в последнем произведении, где автор сознательно отказывается от трансгредиентной позиции во имя единения с героем - в соответствии с идеей всеединства, выработанной в рамках русской религиозной философии. Намечаются перспективы в изучении повествовательных форм рефлексии о взаимодействии автора и героя.
Сюжет перевода в роман, металитературность, концепция вненаходимости, м.м. бахтин, н.д. ахшарумов, и.а. гончаров, к. вагинов, х. майорга, ф. озон, а житинский
Короткий адрес: https://sciup.org/149145254
IDR: 149145254 | DOI: 10.54770/20729316-2024-1-28
Текст научной статьи Сюжет перевода в роман как форма металитературной рефлексии (о возможности изображения «эстетической любви» в литературе)
Статья посвящена описанию особого типа сюжета, название которого мы образовали, оттолкнувшись от известных положений Бахтина. В работе «Автор и герой в эстетической деятельности» Бахтин неоднократно использует метафору «перевода человеческого бытия в эстетический план» [Бахтин 1986, 119]. В концепции Бахтина такой перевод – неотъемлемый элемент выведенной им «формулы основного эстетически продуктивного отношения автора к герою» – отношения вненаходимости, которое, позволим себе напомнить, Бахтин описывал как «любовное устранение [автором] себя из поля жизни героя, <…> участное понимание и завершение события его жизни» [Бахтин 1986, 17–18]. Завершая образ героя, вненахо-димый автор и осуществляет его перевод в эстетическую реальность.
Бахтин описывает этот перевод как выражение «эстетической любви»: «Эта творческая реакция есть эстетическая любовь. Отношение трансгре-диентной эстетической формы к герою и его жизни <…> есть единственное в своем роде отношение любящего к любимому <…> Существенный момент <…> есть принципиально трансгредиентный дар одаряемому <…> отсюда обогащение носит формальный, преобразующий характер, переводит одаряемого в новый план бытия. В новый план переводится не материал (не объект), но субъект – герой, только по отношению к нему возможно эстетическое долженствование, возможна эстетическая любовь и дар любви» [Бахтин 1986, 114–115].
Нас интересует то, как этот перевод изображает сама литература. Мы обратимся к такому типу металитературной рефлексии, в рамках которой авторская деятельность по переводу «человеческого бытия в эстетический план» является сюжетообразующим событием. Такого рода сюжет сосредоточен на изображении опыта завершения человека, а шире – на характере самих взаимоотношений автора и героя, где и тот, и другой осознают свой статус: автор – творца, герой – творения.
Интересно, что сюжет перевода в литературу в самой литературе сложился за полвека до того, как Бахтиным было дано его феноменологическое описание. Причем литература изображает завершение автором героя совсем не как событие «эстетической любви и дара любви».
Первый опыт такого рода предлагает повесть Н.Д. Ахшарумова «Натурщица» (1866). Как пишет исследователь его творчества А.Е. Козлов, повесть представляет собой «своеобразное осмысление концепции автора и героя в добахтинском мире» [Козлов 2018, 114]. Своеобразие изобра- женных отношений автора и героя в «Натурщице» связано с тем, что ее центральным событием является событие бунта против своего создателя «переведенного» им в роман героя. Героиня повести Елена Григорьевна Алищева обращается в суд, обвиняя беллетриста Чуйкина в том, что он «эксплуатирует ее <…> литературным образом». Алищева уверена, что является плодом писательского воображения Чуйкина и находится в его абсолютной власти: «Я вымысел романиста, которому предназначена роль на подмостках литературной сцены <…> я стала его рабой, и он повел меня за собой на веревке, как купленную собаку» [Ахшарумов 1996, 259–260].
Само изображение судебного разбирательства предвосхищает история «порабощения» Алищевой: Чуйкин в беседах с ней настаивает на том, чтобы она совершала поступки, которые он смог бы описать в своем романе о новой женщине, преодолевшей мрак скучной семейной жизни и бросившей вызов общественным условностям. Подчиняясь его увещеваниям и угрозам («Вы вся во власти моей и <…> власть эта беспредельна, <…> я могу уничтожить вас одним словом, могу заставить страдать, как вы никогда не страдали еще» [Ахшарумов 1996, 232]), Алищева теряет мужа, дом, положение в обществе, самоуважение и, наконец, детей, в смерти которых она обвиняет Чуйкина: тот, с ее точки зрения, просто вычеркнул их из повествования.
Очевидно, что изображенный Ахшарумовым автор осуществляет перевод «натурщицы» в текст помимо какой бы то ни было любви, а исключительно из эгоистических соображений, вовсе не «одаряя» ее и не «обогащая» ее жизнь в своей завершающей деятельности, а наоборот, отнимая, унижая и подчиняя.
Отличие между бахтинской концепцией завершения и ахшарумовским опытом его изображения позволяет лишний раз подчеркнуть важнейший аспект философии Бахтина: эстетическая любовь осуществима только в ситуации сохранения позиции вненаходимости, вмешательство автора в жизнь героя разрушительно и является свидетельством «кризиса авторства». По Бахтину, «автор должен находиться на границе создаваемого им мира, как активный творец его, ибо вторжение его в этот мир разрушает его эстетическую устойчивость» [Бахтин 1986, 173].
Исходя из сказанного, не получается ли, что, помещая автора и героя в единый хронотоп, разворачивая сюжет их взаимодействия и так снимая границу между миром творения и миром творимым, литература принципиально не может изобразить то, что Бахтин назвал «эстетической любовью». Осуществим ли сюжет любовного, участного завершения, если в рамках такого сюжета отменяется трансгредиентность автора и героя? В попытке хронологического обзора повествовательных произведений с сюжетом перевода постараемся ответить на этот вопрос.
Следующий пример литературной рефлексии об отношениях автора и героя в литературе XIX в. – роман И.А. Гончарова «Обрыв» (1869). Как и Чуйкин у Ахшарумова, Райский у Гончарова не просто претворяет в художественную форму свои впечатления от живой жизни, а пытается внушить будущим героям своего романа «выгодные» для повествования пережива- ния и поступки, ввергнуть их (как и самого себя) «в самую тучу страсти», т. е. сначала выстроить жизнь по законам романа, а потом перенести ее улучшенный образ на бумагу. Рассматривая людей как персонажей будущего повествования, Райский, как и Чуйкин, пренебрегает вненаходимостью.
В отличие от повести Ахшарумова у Гончарова акцент сделан именно на неудаче автора, который, впрочем, в отличие от Чуйкина, влюблен в тех, кого он рассматривает в качестве персонажей создаваемого романа. Но его любовь к прототипам своего романа очень далека от эстетической любви, описанной Бахтиным: здесь автор действует не «для» героя, а во имя собственной цели претворения жизни других в сюжет романа.
В ХХ в. интересующий нас сюжет получает сатирико-гротескную разработку. Причем первая пародийная версия сюжета перевода в русской литературе начала нового века складывается уже как непосредственная реакция на бахтинскую концепцию, и предпринимает ее К. Вагинов в романах «Козлиная песнь» (1927) и «Труды и дни Свистонова» (1929). И опять, как и в вышеописанных случаях, сюжет перевода у Вагинова сосредоточен на изображении автора, презревшего вненаходимость и вторгающегося в мир своих героев.
В романе «Козлиная песнь» эта тема была обнаружена и описана И. Гулиным: «Бахтинский автор вненаходим миру своего повествования. <…> Вагиновский автор-двойник, напротив, обитает в мире героев, сует нос в их дела. Иначе говоря, в “Козлиной песни” разворачивается то, что Бахтин называет кризисом авторства. <…> Автор эпохи кризиса активно участвует в судьбе героев, включается в их бытие. Вненаходимый автор Бахтина принимает героя как обреченного, “имеющего умереть”. Своим письмом он “завершает” его и тем спасает, “милует” – выносит оправдательный приговор на высшем эстетическом суде. <…> Вагиновский автор-двойник действует противоположным образом. Он вступает в противоборство со своим героем. Готовит ему не спасительное завершение личности в смерти, а ее распад» [Гулин 2020, 263].
Реакция на бахтинскую концепцию вненаходимости была обнаружена и во втором романе Вагинова – «Труды и дни Свистонова» – в более ранней, по сравнению с исследованием И. Гулина, работе И. Сандомирской. Так, по мысли Сандомирской, в образе Свистонова Вагинов разрабатывает сатирический пример осуществления интеллектуальной стратегии доминирования автора над героем: «…воплощая в практику теоретические построения “Автора и героя…”, Свистонов – автор романа в романе Вагинова – как будто цитирует Бахтина <…> Свистонов систематически “завершает” мир, “переводя” своих других в “мир иной” (мир своего романа) и мотивируя свои поступки низменными соображениями пошлого хищнического авторства, которые составляют полную противоположность задачам “ценностного”, “трансгредиентного завершения” героя, как предписывается автору Бахтиным <…> Как будто передразнивая Бахтина, который [задает] автору любовное отношение к герою <…> Вагинов решает эти метафоры иронически буквально. Его Свистонов – умелый любовник, <…> но в то же время большой злодей, мастер разбивать сердца и совратитель невинности» [Сандомирская 2013, 120, 125].
Действительно, «Козлиную песнь» и «Труды и дни…» объединяют мотивы, которые формируют критику авторского доминирования как стратегию насилия. Среди самых выразительных совпадений отметим мотив автора как соглядатая живой жизни и «перевода» ее в роман в «завершенном», т.е. умерщвленном виде (О том, что мир литературы в изображении Вагинова – это мир смерти, распада и ада, писали многие. См., например: [Буренина 2005], [Герасимова 1989], [Липовецкий 2008], [Павлов 2018]). В «Трудах и днях…» литератор – это тот, кто, по слову Свистонова, «ведет живых людей в могилку». Саму литературу он отождествляет с загробным миром: «Литература по-настоящему и есть загробное существование», – внушает он своей очередной жертве, готовясь «перевести» ее в свой роман.
В «Козлиной песни» этот мотив получил свою реализацию в метафоре автора как гробовщика. Во втором предисловии к роману он признается в страстной одержимости изготавливать «гробики»: «Поведет носиком – трупом пахнет; значит, гроб нужен. И любит он своих покойников, и ходит за ними еще при жизни, и ручки им жмет, и заговаривает, и исподволь доски заготовляет, гвоздики закупает, кружев по случаю достает» [Вагинов 1999, 3].
Представляется, что здесь свою гротескную реализацию находит бахтинская мысль об авторе как завершителе жизней своих персонажей, переводящего их живых прототипов в загробный мир романа. Причем такой перевод в вагиновском варианте сопровождается отказом автора от позиции вненаходимости, которая, по Бахтину, является непременным условием эстетической деятельности, и этот отказ у вагиновского сочинителя находит свое выражение в сознательном намерении унижения, осмеяния и умерщвления героя.
При сходстве образности, связанной с проблемой авторской вненахо-димости в первых двух романах Вагинова, обращает на себя внимание серьезное отличие в завершении сюжета сочинителя. В «Козлиной песни» оно выглядит странно противоречивым: с одной стороны, Автор празднует победу над своими героями (он удовлетворенно целует свою руку, завершившую рукопись), с другой стороны, в «Послесловии» читаем, что его печалит итог его героев. При этом Автор выводит своих героев из мира романа на сцену, признавая условность описанного и надеясь на возможность «новой пьесы», в которой он смог бы спасти своих героев от «позора, преступления и духовной смерти». Т.е. Автор при всей своей вульгарности и монструозности готов быть добрым по отношению к своим героям, если они ему помогут и совместными усилиями им удастся построить и разыграть «высокую» пьесу.
Представляется, что здесь звучит прямая отсылка к Бахтину с его идеей милования, оправдания и спасения героя вненаходимым автором. «Послесловие» и открывается фразой о намерении Автора спасти своего героя: «Автор все время пытался спасти Тептелкина». И эта фраза задает совсем другой поворот проблеме отношений автора и героя по сравнению с тем, как она решалась до этого: оказывается, Автор не насмешничал, а пытался спасти! Но «спасти Тептелкина ему не удалось», как констатирует «Послесловие», Автор сам стал нелицеприятным отражением своего героя, но он надеется на новый виток отношений, в рамках которого любовь может быть осуществима, но при одном условии – если Тептелкин признает свою вину. Спасение Тептелкина Автором оказалось невозможно именно по той причине, что того «никогда не охватывало сомнение в самом себе, никогда [он] не думал, что он не принадлежит к высокой культуре» [Вагинов 1999, 205]. О другом условии, гарантом которого должен быть он сам, – авторской вненаходимости – Автор забывает.
Второй роман завершается принципиально иначе: здесь сам сочинитель переходит в свой роман, окончательно порывая с живой жизнью. Жизнь, которую он обесценил, похитив из нее души своих героев, теряет для него свою содержательность, становится «пустой» и выталкивает его во внутренний мир его собственного произведения. Каких-либо надежд такой финал лишен. Здесь Вагинов подтверждает бахтинскую мысль о губительности отказа от вненаходимости.
Итак, Вагинов моделирует два варианта «кризиса авторства». В рамках первого варианта («Козлиная песнь») Автор нарушает бахтинский принцип и вмешивается в жизнь своих героев: то ли для того, чтобы «поместить их в гробики», т.е., в бахтинской терминологии, обеспечить им эстетическое завершение, то ли для того, чтобы их спасти (зримое противоречие между началом и завершением романа, возможно, противоречие самой концепции Бахтина). Но если умерщвление одного героя Автору вполне удается, спасти неудавшиеся жизни других он оказывается не в состоянии: под воздействием деградации своих героев Автор и сам превращается в урода. Таким образом, здесь Автор очевидно предполагает, что его герои обладают свободой воли и ответственностью (за свои судьбы, за характер и результат его творчества и его – Автора – облик!).
Во втором варианте нарушение автором принципа вненаходимости оборачивается откровенным насилием над жизнью героев, использованием их умерщвленных душ в эстетических целях и, наконец, собственным переходом в загробный мир.
Можно ли сказать, что Вагинов от противного утверждает «единственную продуктивность» принципа вненаходимости? Думается, что да: в «Козлиной песни» (в «Послесловии») это происходит через демонстрацию условности всего вышесказанного, достигнутое согласие с актерами, разыгравшими его героев и выражение надежды на новую пьесу.
В «Трудах и днях…» это утверждение осуществляется через завершение романа символической смертью сочинителя, презревшего вненаходимость.
В этом плане возразим И. Сандомирской, в работе которой «Труды и дни…» рассматриваются как критика бахтинской концепции вненахо-димости, а «Автор и герой…» именуется «козлиной песнью» Бахтина – в связи с тем, что постулированная Бахтиным в «Авторе и герое…» стратегия создания героя – это стратегия символического насилия. По мысли исследовательницы, «ранний Бахтин, отказывается уважать своего героя как принципиально ему равного … и помещает в координаты “вненаходи-мости – простертости”» [Сандомирская 2013, 145]. Принося своего героя в жертву целостности романа, вненаходимый автор у Бахтина, продол- жим цитату, «“формирует” [его] методами, вызывающими ассоциации с методами политического контроля, репрессии и цензуры. Основная часть бахтинского текста читается как апология [насилия] ввиду высших “эстетических” целей создания цельности литературного произведения» [Сан-домирская 2013, 156].
На наш взгляд, Вагинов от противного моделирует не столько насильственность позиции вненаходимости, сколько «кризис авторства» в ситуации отказа от нее. Деятельность Свистонова вряд ли является гротескной метафорой вненаходимости, его насилие над другими – результат убийственной прагматики творчества. Поэтому, по Вагинову, насилие производит не позиция вненаходимости, а отказ от нее. Вненаходимость же производит «эстетическую любовь», образ которой намечается в «Послесловии» «Козлиной песни».
«Кризис авторства» – редкий предмет в литературе, очевидно, потому что вступает в конфликт с романтизацией творчества и идеализацией автора – тенденциями, характерными для европейской культуры. Но коррелируя с проблематикой авторской этики, эта тема получает свое воплощение в новейшей литературе и новейшем кинематографе. Выразительный пример – пьеса испанского драматурга Хуана Майорги «Мальчик за последней партой» (2006) и ее экранизация французским режиссером Ф. Озоном в фильме «В доме» (2012). Пьеса, как и фильм, обнажает изнанку творчества. Семнадцатилетний школьник пишет роман, хитростью проникая в дом своего одноклассника, жизнь семьи которого он выбирает материалом своего писательства. Юный романист практикует предельно утилитарное отношение к живым людям, превратив их в персонажей своего романа. Он жестоко манипулирует их чувствами и провоцирует на разрушительные поступки. Однако мать семейства, превращенная молодым писателем в свою любовницу, отказывается подчиниться его воле и следовать придуманному для нее финалу. Вместе с тем поражение перед лицом персонажа не останавливает автора, и он переключается на семью учителя литературы, с которым на протяжении всего действия обсуждал повороты сюжета и который поддержал его писательский эгоизм. Однако учитель на намерение юного автора сделать его жену жертвой своего писательского любопытства отвечает пощечиной, под страхом смерти запрещая ему приближаться к своему дому и тем самым признавая преступность поддержки его писательского поведения.
Франсуа Озон, скрупулезно следуя букве испанской пьесы, тем не менее переписывает ее финал. В фильме Озона юный писатель, потерпев поражение в отношениях с семьей своего одноклассника, разрушает жизнь своего соавтора (он обманом вторгается в его дом, добивается близости с его женой, толкает его на должностное преступление, обернувшееся для учителя увольнением). Однако в финальной сцене торжествующий над своим униженным учителем автор предлагает ему дальнейшее сотрудничество на литературной ниве, а именно вторгаться в дома, втираться в доверие, обольщать людей – чтобы использовать их в качестве персонажей. Озон оставляет своих героев в предвкушении совместных литературных развлечений.
Испанская пьеса и французский фильм – олицетворение такого типа писательства, которое грубо нарушает вненаходимость. Герои-писатели исповедуют творчество вторжения, насилия и манипуляции свистонов-ского типа. Причем они подобно Свистонову стремятся жить в своем романе как «в доме»: жизнь, не подвергнутая эстетическому преображению, представляется им не интересной. Но если у Майорги этот тип писательства получает однозначный отпор, то у Озона он выписан в своей демонической перспективности.
Все разобранные варианты, действительно, акцентируют один общий мотив в воплощении сюжета перевода в литературу. Кажется, что и сам Бахтин сомневался в возможности преодоления репрессивности в акте завершения образа героя, хотя в отношении творчества Достоевского и обосновал идею диалога, обеспечиваемого авторским признанием уникальности личностной позиции Другого. Очевидно, такой поворот в творчестве Бахтина (от идеи вненаходимости к идее диалога) был связан с тем, что в концепции вненаходимости он опознал мощную репрессивную семантику. Эту версию предлагает И. Сандомирская, так объясняя отказ раннего Бахтина от завершения рукописи «Автора и героя…»: «письмо, проникнутое духом насилия, и попытки мысли черпать в насилии энергию вдохновения привели к саморазрушению труда, оставленного без <…> завершения» [Сандомирская 2013, 160].
Однако в поздней записи, именуемой по начальной фразе «Риторика в меру своей лживости...» (1943), Бахтин возвращается к этой теме: «Творческий процесс есть всегда процесс насилия» [Бахтин 1997, 67]. Но ответственность за насилие здесь уже распространяется не на автора, а на само слово: «Слово-насилие предполагает отсутствующий и безмолвствующий предмет, не слышащий и не отвечающий, оно не обращается к нему и не требует его согласия, оно заочно. Содержание слова о предмете никогда не совпадает с содержанием его для себя самого. <…> Слово хочет оказывать влияние извне, определять извне. В самом убеждении заключается элемент внешнего давления <…> До сих пор сказанное человеческое слово исключительно наивно; а говорящие – дети – тщеславные, самоуверенные, надеющиеся. Слово не знает, кому оно служит, оно приходит из мрака и не знает своих корней. Его серьезность связана со страхом и с насилием. Подлинно добрый, бескорыстный и любящий человек еще не говорил, он реализовал себя в сферах бытовой жизни, он не прикасался к организованному слову, зараженному насилием и ложью, он не становился писателем. Доброта и любовь, поскольку они есть у писателя, посылают слову ироничность, неуверенность, стыдливость (стыд серьезности). Слово было сильнее человека, он не мог быть ответственным, находясь во власти слова; он чувствовал себя глашатаем чужой правды, в высшей власти которой он находился» [Бахтин 1997, 66–67].
Вместе с тем в истории русской литературы есть роман, в котором автор изображен «добрым» «завершителем и искупителем неудавшейся жизни» своего героя – при полном отказе от доминантной позиции. Это роман Александра Житинского «Потерянный дом, или Разговоры с милордом» (1987). В его сюжетной структуре отношения между изображенными автором и героем определяет не принцип насилия и осмеяния, а принцип эстетической любви и доброй иронии, с которой поздний Бахтин связывал разрешение конфликта.
Если у раннего Бахтина и Вагинова (в первой редакции «Козлиной песни» и романе «Труды и дни Свистонова») автор относится к своему герою как объекту (завершения, жертвоприношения, обольщения, умерщвления и т. д.), то у Житинского происходит, наоборот, постепенная субъективизация героя и нейтрализация противостояния творца и его творения. И происходит это в пространстве метатекстовой рефлексии Житинского о продуктивности позиции вненаходимости, хотя бахтинский термин отсутствует в его тексте.
Пролог открывается рассказом изображенного автора о том, как ему, наконец, после ряда безуспешных попыток удалось заставить роман тронуться с места. Первоначальную неудачу автор объясняет неправильно выбранной позицией. И это, очевидно, позиция, которую Бахтин называл вненаходимостью автора. Сначала изображенный у Житинского автор уговаривает себя устраниться и оставаться в тени, однако после неудачных попыток начать роман, решает «выскочить на сцену», стать персонажем внутреннего мира собственного произведения, преодолев вненахо-димость. Более того, среди персонажей романа автор помещает и своего соавтора – Льюиса Стерна, с которым обсуждает процесс творчества.
В разговорах со Стерном автор и формулирует свое отношение к герою Евгению Демилле, архитектору, мечтающему о создании здания, выразившего бы идею всеобщего братства: от отношения вненаходимого демиурга («Пишешь, да вдруг и почувствуешь себя господом Богом, творцом, так сказать…» [Житинский 2019, 33]) до отказа от нее. В сюжетном пространстве романа отказ от вненаходимости воплощается в метафоре соседства автора и героя: они проживают в одном доме, который пережил фантастическое перемещение по воздуху и приземлился на другой улице. При этом герой перелет дома пропускает, а автор, проспав сей необъяснимый факт, спешно сбегает из своей квартиры, так как понимает, что для описания потрясающего события совершенно необходимо занять позицию вненаходи-мости: «Я намеревался дать самые полные и достоверные показания о нашем доме, его жильцах и феномене перелета», – объясняет он свое бегство из дома [Житинский 2019, 88].
Далее параллельно разворачиваются две сюжетные линии – самореф-лексивная (автор в беседах со Стерном рассказывает о том, как продвигается роман) и событийная (автор рассказывает о том, как герой скитается по городу и стране в поисках потерянного дома и утраченной семьи).
Металитературная линия, на протяжении трех частей уступая романное пространство линии событийной, получает новую акцентуацию в заключительной части романа. Здесь сочинитель вновь меняет свое отношение к позиции вненаходимости. Он обнаруживает, что дистанция, отделяющая его от героя, в конце концов привела к утрате какого-либо знания о нем. Выход из ситуации автор находит в новом отказе от внена- ходимости: он решает вернуться в мир романа, стать его «полноправным персонажем». В сюжетном плане смена позиции сочинителя выражается в его возвращении в свою квартиру в переместившемся доме и обдумывании встречи со своим героем.
Встречу автора и героя в «Потерянном доме» предвосхищают главы, в которых слово впервые предоставляется герою. Демилле от собственного лица рассказывает о том, что с ним происходит в минуты отчаяния и тоски. Более того, текст романа включает в себя записи Демилле, в которых он размышляет о возможной судьбе идеи братства, осуществимость которой осознает как утопический проект. Так в персонажной системе романа формируется два самостоятельных и равноправных героя: сочинитель и его герой Демилле, оба – носители самостоятельной субъектности и автономного сознания. И у каждого – своя событийная сфера, свой сюжет: сочинитель размышляет о романе, ищет своего героя, контактирует с жителями переместившегося дома и пишет; Демилле ищет семью, тоскует о потере, в приступе разочарования в воплотимости мечты сжигает макет дома братства. И при этом сюжет стремительно разворачивается в сторону сближения сочинителя и героя.
Это сближение роман готовит тщательно и постепенно: мир, в котором живет сочинитель, постепенно отождествляется с миром им созданным, миром, в котором живут его герои. Последняя глава романа, написанная от первого лица, не оставляет сомнений в том, что сочинитель полностью переливается в своего героя Демилле, отождествляется с ним в согласии, благодарности, общей тревоге и общем сомнении. Недаром эта часть романа называется «Превращение»: автор превратился в своего героя, а название ее финальной главы – «Исцеление» – символизирует преодоление болезни превосходства автора, достигаемое в слиянии с ним.
Эпилог романа в безличной повествовательной манере утверждает субъектный статус всех участников сюжетного действа: и героев, и их автора: «Они стали персонажами его романа, а персонажу хоть кол на голове теши – он сделает по-своему» [Житинский 2019, 575], «Роман продолжался помимо его воли, дописывал себя сам <…> продолжался в жизни» [Житинский 2019, 578]. Но при этом и сочинитель не теряет статуса творца: в финале он собирает своих героев на празднование Нового года и сам присоединяется к ним: «Он чувствовал себя отцом этого многочисленного семейства, хотя на самом деле был его блудным сыном» [Житинский 2019, 580]. Здесь одновременно говорится и о сочинителе, и о Демилле. Осознанная взаимозависимость творца и героев находит свое выражение в метафоре всеобщей любви, согласия и гармонии. Конфликт творца и его творения здесь снят – в позиции сочувственной причастности его к жизни своих героев как самостоятельных и полноправных с ним людей и отказе от вненаходимости.
Скорее всего, основу финального слияния сочинителя и героя составила идея всеединства, выработанная в рамках русской религиозной философии, где «Я» и «Другой» сливаются нераздельно, и у Житинского явно противопоставленная идее вненаходимости.
В финале герои делают из страниц рукописи бумажных голубей, а сочинитель с восторгом наблюдает за их полетом. Отказ от статуса отца-демиурга и позиции вненаходимости в пользу всеединства оборачивается уничтожением романа.
Таким образом, сюжет перевода в литературу имеет благополучное для автора и героя завершение только в одном случае: когда автор сознательно и во имя любви к герою отказывается от «взгляда извне». Во всех иных случаях литература описывает взаимоотношения презревшего вненаходимость автора к герою как губительные для них обоих: у Ахша-румова героиня раздавлена, а автор приговорен судом к изъятию из реальной жизни; у Гончарова автор бросает роман, обрекая свою героиню на жестокие страдания; у Вагинова в «Козлиной песни» Автор превращается в урода, а его герой совершает самоубийство; в «Трудах и днях…» автор похищает души героев и сам «переходит» из мира живых в литературу; у Майорги автор разрушает жизнь героев, но и сам терпит поражение; у Озона, отменившего мотив поражения автора, тот тем не менее становится объектом морального разоблачения. И в каждом случае «козлиная песнь» автора всегда обусловлена его отказом от вненаходимости во имя жестокой прагматики творчества, «замутняющей чистоту его – жаждой успеха, влияния, признания» [Бахтин, 1997, 66].
Только у Житинского мы встретили осуществление мотива эстетической любви. Здесь отказ от вненаходимости продиктован не личными мотивами, связанными с авторским самоутверждением, а мечтой о единении с Другим. Но в этом случае в жертву приносится сам роман: автор радостно приветствует его уничтожение. Оказывается, что эстетическая любовь, снимая оппозицию между творцом и творением, делает невозможным сам творческий акт.
В литературе, обращающейся к бахтинской теме эстетической деятельности, помимо сюжета перевода обнаруживается и другой сюжет – сюжет противостояния автора и героя, в котором сюжетообразующим фактором становится не авторское намерение использовать другого в качестве героя романа (как в сюжете перевода), а намерение героя опротестовать авторскую концепцию его судьбы. Однако этот тип саморефлексивного сюжета, в русскую литературу введенный также Ахшарумовым, требует отдельного исследования.
Список литературы Сюжет перевода в роман как форма металитературной рефлексии (о возможности изображения «эстетической любви» в литературе)
- Ахшарумов Н.Д. Натурщица // Ахшарумов Н.Д. Концы в воду. М.: Современник, 1996. С. 209–301.
- Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. C. 9–191.
- Бахтин М.М. Риторика в силу своей лживости... // Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 5: Работы 1940-х – начала 1960-х годов. М.: Русские словари, 1997. С. 63–70.
- Бонецкая Н.К. М.М. Бахтин и традиции русской философии // Вопросы философии. 1993. № 1. С. 83–93.
- Буренина О.Д. Литература – «остров мертвых» (Николай Бердяев, Константин Вагинов, Владимир Набоков) // Буренина О.Д. Символистский абсурд и его традиции в русской литературе и культуре первой половины ХХ века. СПб.: Алетейя, 2005. С. 249–362.
- Вагинов К. Полное собрание сочинений в прозе / подгот. текста, коммент. Т.Л. Никольской, В.И. Эрля. СПб.: Академический проект, 1999. 589 с.
- Герасимова А.Г. Труды и дни Константина Вагинова // Вопросы литературы. 1989. № 2. С. 131–166.
- Гулин И. Поэт и его автор: трагедия «Козлиной песни» // Новое литературное обозрение. 2020. № 4(164). С. 260–275.
- Житинский А. Потерянный дом. СПб.: Геликон Плюс, 2019. 744 c.
- Козлов А.Е. Автор и герой в эстетической действительности повести Н.Д. Ахшарумова «Натурщица» // Сибирский филологический журнал. 2018. № 1. С. 107–118.
- Липовецкий М.Н. Паралогии. Трансформация (пост)модернистского дискурса в русской культуре 1920–2000-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 848 с.
- Павлов Е. Умерщвляющее письмо: Ленинградское барокко Константина Вагинова // Новое литературное обозрение. 2018. № 1(149). С. 74–91.
- Сандомирская И. Свист, стон, тон: слово-террор и его пересмешники // Сандомирская И. Блокада в слове. Очерки критической теории и биополитики языка. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 111–172.