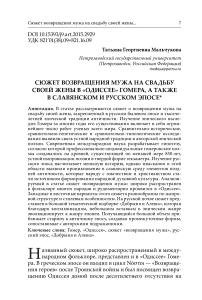Сюжет возвращения мужа на свадьбу своей жены в «Одиссее» Гомера, а также в славянском и русском эпосе
Автор: Мальчукова Татьяна Георгиевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.13, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается сюжет о возвращении мужа на свадьбу своей жены, закрепленный в русском былевом эпосе и тысячелетней эпической традиции античности. Изучение эпического наследия Гомера за многие годы его существования включает в себя огромнейшее число работ ученых всего мира. Сравнительно-исторические, сравнительно-генетические и сравнительно-типологические исследования выявили связь устной народной традиции и авторской эпической поэзии. Современная международная наука разрабатывает гипотезу, согласно которой профессионально-индивидуальные гомеровские поэмы создавались на древней, существующей по меньшей мере 850 лет, устной импровизации поэзии в твердой форме гекзаметра. Изучение русского эпоса насчитывает меньшую историю, однако изыскания в этой области выявили проникновение в славянскую среду элементов поздней античности, которые наряду с язычеством и христианством стали источником формирования народной духовной культуры. Анализируемый в статье сюжет «возвращения мужа» широко распространен в фольклоре многих народов и рудиментарно проявился в «Одиссее». Западные и восточные варианты этого сюжета разнообразны по жанровой структуре и стилевым особенностям. На русской почве сюжет представлен в большой тематической подборке «Добрыня и Алеша», которая благодаря контаминациям, небольшим вставкам в эпическом жанре эволюционирует к жанру эпопеи. Получающийся большой объем приближает старину к античному эпосу, создавая промежуточные формы, сопоставимые с авторскими подражаниями.
Короткий адрес: https://sciup.org/14748955
IDR: 14748955 | DOI: 10.15393/j9.art.2015.2929
Текст научной статьи Сюжет возвращения мужа на свадьбу своей жены в «Одиссее» Гомера, а также в славянском и русском эпосе
Названный сюжет, широко распространенный в международном фольклоре, представлен и в «Одиссее» Гомера. В греческом эпосе он входил в цикл Νόστοι — «Возвращения героев» после Троянской войны и был посвящен возвращению Одиссея домой после десятилетнего отсутствия на войне и десятилетних скитаний по морям. Сочинение «Одиссеи» приписывалось Гомеру, за исключением так называемых «хоридзонтов» (от греческого χορίζω — «разделять»), в древности и в новое время. Считается, что в поэме автор следовал поэтике эпопеи, как она сложилась в первой поэме Гомера — «Илиаде». Отсюда многофигурность эпоса, подробности в описании быта и психологии героев, стремление автора сократить время повествования и вместить 10 лет в 40 дней, в которые действие разворачивается с беспримерным драматизмом. В сюжете удается совместить две линии повествования о путешествии Телемака и о путешествии Одиссея, рассказ о приключениях моряка изложить как ἀπόλογοι Одиссея на пиру у Алкиноя в предварении возвращения на Итаку и обретения власти над домом и семьей. Чередование разных техник поэта — рассказ от первого лица в ἀπόλογοι Одиссея и повествование о страданиях героя, изменившего свой облик по воле Афины, наконец, благодаря узнаваниям1 (по запаху собакой Аргусом, по рубцу — кормилицей, по натянутому луку — женихами, по тайне кровати — Пенелопой, по перечню подаренных Одиссею деревьев сада — Лаэртом), придают единство действию эпопеи, наподобие единства «Илиады». «Илиада» — обширная патетическая поэма о гневе Ахилла в 15798 гекзаметрических стихов — была записана в середине VIII века до н. э. «Одиссея» в 11002 гекзаметрических стиха была создана в конце VIII века. Таким образом, гомеровский эпос с его сюжетами, темами, героями, открытиями в области поэтики жанров, развернутыми эпитетами и сравнениями существует уже 2800 лет. Закрепление содержания поэм в продуманной литературной форме эпопеи в произведениях высокого художественного мастерства не столько мешает, сколько способствует активному влиянию этих произведений на устную и письменную мировую литературу и позднее. Существует огромная научная литература по этому вопросу. Так, русский филолог-классик И. И. Толстой посвятил исследованию сюжета «Одиссеи» интересную статью «Возвращение мужа в “Одиссее” и в русской сказке» [25]2. Нашей задачей будет проследить сюжет о возвращении мужа в русском былевом эпосе, где он имеет закрепленную форму в былине «Добрыня и Алеша».
ХХ век вошел в историю филологической науки расцветом изучения устной архаической поэзии, песен и сказок, появлением новых и повторных записей живой традиции, рассмотрением техники устного формульного творчества, что привело к переоценке истории создания и знаменитых памятников книжного эпоса. Инициатива тут принадлежала американскому ученому М. Пэрри, который заявил о себе штудиями формульного эпитета у Гомера и готовился перенести свой опыт и свои идеи на изучение действующей эпической традиции в Югославии [40], [41]. С июня 1934 по сентябрь 1935 года М. Пэрри в сопровождении своего ученика по Гарвардскому университету А. В. Лорда был в Югославии, записывая на фонограф или с помощью своего ассистента, переводчика с сербского и хорватского языков Николы Вуйновича, под диктовку песни устного сербохорватского эпоса. В результате составился большой архив — 13000 разнообразных текстов и более 3500 механических записей. Во время экспедиции удалось найти сказителя с хорошей памятью. Это был Авдо Меджедович. От него удалось записать две песни большого объема «Свадьба Смаилагича Мехо» и «Осман Делибегович и Павичевич Лука», сопоставимые с эпопеями Гомера «Илиада» и «Одиссея». Эти находки укрепили собирателей в мысли, что письменному эпосу, гомеровским эпопеям, как и средневековому аллитерационному германскому, предшествовал устный эпос, типа сербских и хорватских песен. После безвременной кончины М. Пэрри в декабре 1935 года его работу продолжил и замысел осуществил А. В. Лорд, который подготовил архивные материалы к печати и, главное, книгу о технике записи и сочинения устной формульной поэзии. Книга была выпущена Гарвардским университетом в 1960 году, называлась «Сказитель» (Lord A. B. The Singer of Tales. Harvard University Press Cambridge (Mass.), 1960) и имела два посвящения:
Эта книга — о Гомере. Он — наш Сказитель <…> Среди сказителей современности нет никого, кто был бы равен Гомеру; но один из известных нам сказителей более других сопоставим с Гомером по уровню мастерства. Это Авдо Меджедович из Биела Поля в Югославии. Он — наш сегодняшний балканский Сказитель [15, 10].
Со времени опубликования книга вошла в научный обиход и широко используется исследователями англо-саксонского, французского, испанского, сербского, хорватского фольклора, древнеиндийских поэм «Махабхарата» и «Рамаяна». Что касается гомеровского эпоса, то среди его исследователей книга встретила сильную оппозицию. Исследователи не сомневались, что за формульным стилем гомеровской поэзии стоят века устной формульной поэзии, но были убеждены, что между формой устного эпоса и гомеровскими эпопеями с их продуманной композицией и единым героем, единым действием по Аристотелю3, разнообразием и гибкостью формы гекзаметра лежит великая творческая индивидуальность Гомера и, главное, по мнению большинства гомерове-дов, в основе гомеровских композиций лежит и письменность. Утверждение письменной основы композиции гомеровского эпоса началось с критической статьи А. Лески [36], продолжалось в русской традиции [27, 53], [7, 243—269] и получило эффектное завершение в итоговой статье А. И. Зайцева по поводу выхода в России перевода книги А. Лорда [13].
Однако наиболее развернутым анализом новой концепции Пэрри-Лорда в соотнесении с традиционным пониманием гомеровского эпоса как результата устной традиции и вместе с тем использующего открытое и усовершенствованное греками с VIII века буквенное (финикийское) письмо стала книга швейцарского гомероведа Иоахима Латача (Ioachim Latacz. Homer. Der erste Dichter des Abendlandes. Artemis und Winkler, 1997). Мы пользовались ее переводом на новогреческий язык (Ioachim Latacz. Όμηρος . Ο θεμελιοτής της ευροπαϊκής λογοτεχνίας. Μετάφραση Έβινα Σιστάκου. Επιμέλεια Αντώνης Ρεγκάκος. Αθήνα, 2000).
Наиболее подробная и многосторонняя оценка новой концепции дается Латачем в обзорной статье «Гомеровский вопрос», помещенной в энциклопедическом словаре «Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Rezeptions- und Wissenschafts-geschichte» (Stuttgart; Weimar: Metzler, 2000. Bd. 14. S. 502—511). Автор начинает с формулировки «гомеровского вопроса»
в книге Fr. A. Wolf «Prolegomena ad Homerum sive de operum Homericorum prisca et gemina forma variisque mutationibus et probabile ratione emendandi» (Halis Saxonum, 1795), указывает ложное основание его теории — тезис об отсутствии письменности в гомеровское время и заключение об устном характере гомеровской традиции, положившей начало более чем столетнему спору аналитиков и унитариев, пока нахождение гекзаметрической дипилонской надписи на сосуде примерно 740 года в 1871 году (опубликована в 1880) окончательно не разрушило фундамент вольфовской теории.
Одновременно в XIX веке, кроме главной борьбы аналитиков и унитариев, разворачивается игнорируемое главными направлениями методически и содержательно уместное направление в исследовании языковых и метрических особенностей эпоса: так G. Hermann обосновал устность эпоса из структуры текста, а именно, из связанности ее стиха; признал следующее отсюда изобилие эпитетов (epitheta ornantia) и открыл в этих внутренних качествах признаки техники импровизации, которая навязывала певцам эту форму слога с типическими повторениями, прочными связями слов, целых стихов и целых сцен (формульность, типичность). Исследование эпического слога, начатое этой первой законченной теорией устности [33], было продолжено в методически ясных и изобилующих материалом работах [30], [38], [51], которые прямо предшествуют работам М. Пэрри. Американец М. Пэрри, который в 20-е годы ХХ века в Париже под руководством лингвиста-классика и специалиста по метрике А. Meillet работал над исследованием Гомера, примкнул в своей диссертации «L’epithète traditionnele dans Homère» (Paris, 1928) к Эллендту, Дюнтцеру, Витте и другим исследователям формы. Как в свое время Г. Герман (которого он, кажется, не рецепировал как своего прямого предшественника), А. Meillet исходит из обусловленности эпической дикции законами метрики, но ограничивается, в противоположность Герману и его продолжателям, только одним-един-ственным феноменом, вызванным метрическими особенностями, — изобилие украшающих эпитетов (epitheta ornantia). Эта концентрация обеспечила ему значительное увеличение материала, как и количества исследуемых аспектов. Из точной статистики отношений двух формул имени с эпитетом он вывел тогда закон «эпической экономии»: для одного и того же характера или вещи (Ахилл, Агамемнон, меч, корабль) в эпической дикции имеются несколько метрически и семантически различных формул связи эпитетов с именами, однако для каждого отдельного места употребляется только один и не более чем один вариант. Из этой традиционности эпической техники проистекала и традициональность эпической дикции, а из традициональности заключенное в ней давление к характеру устной импровизации перед жаждущей публикой. К внешнему доказательству своих внутренних достижений певец привлекал также живую устную импровизацию: наиболее известной из нее с начала ХIХ века была сербохорватская эпическая традиция4.
После Второй мировой войны последовало время рецепции и завершения теории, отчасти модификации основанной Пэрри и развитой далее А. В. Лордом теории устной поэзии. При этом образовалось два поля исследований, первое из которых — исследование формул. Возник вопрос, какое количество повторений имени с эпитетом ornantia считать формулой. Выражение κλέος ἄφθιτον — «неувядаемая слава» — встречается в гомеровской поэзии всего один раз (G 413). Но на основании ссылок Р. Шмитта и М. Л. Веста в Ригведе А. И. Зайцев считает его древнейшей поэтической формулой праиндоевропейского происхождения [43, 6], [49]. Была поставлена проблема «формульной густоты», насыщенности формулами устного и возникшего с помощью письменности книжного эпоса, в зависимости от этой насыщенности решался вопрос о принадлежности эпоса к устной традиции. Что касается гомеровских формул, то тут важное уточнение в концепцию Пэрри-Лорда внес филолог-классик Дж. Гейнсфорт. Он написал работу «Изменяемость Гомеровских формул» (Oxford, 1968), где показал гибкость Гомера в употреблении формул в сочетании имен с косвенными падежами (тут автор выбирает выражения, подходящие к контексту). Приведем разнообразные примеры из первой песни «Илиады»:
А 26 — μή σε, γέρον, κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω — «чтобы тебя я, старик, не встретил возле выдолбленных кораблей»; Α 34 — παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης — «вдоль берега многошумного моря»; Α 89 — κοίλῃς παρὰ νηυσὶ βαρείας χεῖρας ἐποίσει — «чтобы (никто) на тебя (не) наложил тяжелых рук возле выдолбленных кораблей»; Α 141 — νῆα μέλαιναν ἐρύσομεν εἰς ἅλα δῖαν — «А теперь давайте спустим черный корабль в священное море»; А 170 — (σὺν νηυσὶ κορωνίσιν) — «с изогнутыми кораблями».
А 316 — παρὰ θῖν’ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο — «вблизи берега бесплодного моря»; А 327 — τὼ δ’ ἀέκοντε βάτην παρὰ θῖν’ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο — «а они неохотно шли возле берега бесплодного моря»; А 350 — θῖν’ ἐφ’ ἁλὸς πολιῆς, ὁρόων ἐπ’ ἀπείρονα πόντον — «на берегу седого моря, смотря в беспредельную пучину»; I 182 — τὼ δὲ βάτην παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης — «а они шли вдоль берега многошумного моря».
Приходится признать, что в древности, в отличие от нового времени, «певец» и «писатель» не противопоставлялись друг другу по наличию формул, так что формула не является единственным доказательством устного создания эпоса [8], [22, 206].
Второй областью исследований, открытой для широкого изучения в связи с объединением в единую группу Пэрри-Лордом народной и авторской эпической поэзии, стали сравнительно-исторические, сравнительно-генетические и сравнительно-типологические исследования все еще живой устной традиции во всем мире.
Сопоставительное исследование Пэрри-Лорда гомеровской и устной сербохорватской традиций было продолжено в 80— 90-е годы XX века лингвистами-классиками, которые обнаружили бóльшую древность формальной гекзаметрической поэзии, чем она представлялась самим инициаторам сопоставления. В результате исследования было открыто двукратное употребление в гомеровском стихе медного меча с серебряными гвоздями на ручке: в языке Гомера — φάσγανον ἀργυρόηλον. Археологические данные показывают, что такое оружие употреблялось только в XV веке до н. э. и потом в первый раз только в VII веке до н. э. Слово φάσγανον встречается как обычное название оружия в табличках слогового письма В из Кносса. В греческой послегомеровской литературе встречается только как поэтическое слово, естественно, под влиянием Гомера (обычно употреблялось слово ξίφος), что может означать только, что после XV века это оружие больше не использовалось и что исчезло соответствующее определение. Такое сочетание, как φάσγανον ἀργυ-ρόηλον составляет метрическое единство, которое подходит к концу гекзаметра, и действительно в двух гомеровских местах это сочетание появляется именно в этой метрической позиции:
Ξ 405 У него два ремня на груди простирались,
Один от щита, другой от меча с ручкой с серебряными гвоздями — ἤτοι ὁ μὲν σάκεος , ὁ δὲ φασγάνου ἀργυροήλου,
Ψ 807 ему же я дам этот меч с серебряной ручкой — τῷ μὲν ἐγὼ δώσω τόδε φάσγανον ἀ ργυρόηλον.
Разумное заключение по интерпретации примера заимствуется из довольно старой работы Т. В. Л. Вебстера: «Речь здесь идет о микроскопическом кусочке микенского письма» [48, 128], которое сохранилось по крайней мере от XV века как повторяющийся конец гекзаметра в греческой героической поэзии и так достигло эпохи Гомера, несмотря на то, что так называемый предмет не употреблялся в течение времени и следовательно о нем не идет речь в обиходном языке, но только в языке поэтическом.
Открытия Вебстера подтвердились в 90-е годы ХХ века. Языкознание с помощью точного анализа гомеровской гекзаметрической лексики (захватывающего и микенскую фазу греческого языка в текстах слогового письма В) может показать несомненно, что греческая гекзаметрическая поэзия того же морфологического и тематологического типа с эпосом Гомера существовала в Элладе после XVI века. Этот вывод был сделан новыми комментаторами «Илиады» в 1990-е годы [35], [34], [50]. Определенные языковые явления в греческом языке (так называемый тмесис — отделение или отдельное употребление предлога от глагола в сложных глаголах), которые встречаются в гомеровском гекзаметре, есть, с точки зрения истории языка, весьма древние явления (принадлежат к индоевропейскому наследию греческого языка), однако в греческих текстах слогового письма В они не действуют. Это может означать, что греческий гекзаметрический словарь сформировался много прежде микенского периода греческой истории, другими словами, уже в микенскую эпоху он был ступенью искусственного (поэтического, литературного) языка и сохранил от микенской эпохи до середины VIII века свои основные признаки. Свидетельства этой убежденности могут быть соответственно оценены только филологами с лингвистической подготовкой. Словосочетание (которое трижды с различными добавлениями употребляется в гомеровском тексте для обозначения Мэриона, возницы Идоменея) построено ошибочно во втором полустишии: Μηριόνης ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντη: — ῳ ἀνδρει (имеет метр: — — — (молосс), а требуется дактиль: —UU). Если же мы дополним стих словом из слогового письма В, которое может быть синтезировано на основе данных языка, то тогда гекзаметр будет правильный: Mariónas hatá-lantos Enuwalíoi anrgwhóntai. В этом случае мы находимся самое позднее в XV веке, после того, как краткий гласный (r — ларингал) не отвечает больше греческому языку грамматики слогового письма В (примерно 1450—1200), но уже превратился в -ορ или -ρο. Это засвидетельствованное в истории языка датирование подтверждается исторически, поскольку имя Marionas не может быть понято отдельно от хуритского maryonna ἔξοχος ἀρματόδρομος — «превосходный возничий» — определение, распространенное в Ближней Анатолии в XVI—XV веках до н. э. в век военной колесницы. Стих, очевидно, сформировался за 700 лет до Гомера и потом передавался из поколения в поколение; в этом процессе случились некоторые неизбежные обновления, которые привели к маленьким неточностям, которые, однако, певец и общество могли еще потерпеть. Приведем эти примеры в новой гомеровской орфографии:
Η 166 Μηριόνης, ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ — вождь Мэрион, человеков губителю равный Арею,
Θ 264 Μηριόνης, ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ — вождь Мэрион, человеков губителю равный Арею,
Ρ 259 Μηριόνης, ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ — вождь Мэрион, человеков губителю равный Арею.
Сегодня мы имеем в нашем распоряжении многочисленные сильные доказательства не только из области фактов истории языка, но и из области тематики.
Существование греческой героической поэзии уже в эпоху первого расцвета за много веков до катастрофы XII века до н. э. доказывается и многими другими данными. Одним из самых главных является языковое сходство выражений и смыслов с теми, которые соответствуют им в поэзии других индоевропейских языков (древнеиндийский — санскрит, древнеперсидский, славянский, хеттский, италийский), что, безусловно, предполагается наличием «индоевропейского поэтического языка» до разделения этих языков [43], [44], [49].
Итак, ясно, что поэзия с темой «великие подвиги» (κλέα ἀνδρῶν), о которых поет Ахилл в сопровождении лиры в «Илиаде» (I, 185—189), принадлежит к тем маленьким сокровищам, которые эллинская аристократия спасла от катастрофы XII века до н. э. и которым именно поэтому предалась с особенной любовью.
Последние шаги, на которых останавливается Латач в интерпретации Гомера в связи с теорией устной формульной поэзии Пэрри-Лорда, есть реферат двух работ Эдуарда Виссера [46], [47]. Благодаря работе Э. Виссера об эпической технике версификации теория Пэрри формульных соединений имен с эпитетами и процесс импровизации гекзаметрических стихов стали более прозрачными. Поэт формирует гекзаметрическую импровизацию, как предполагал Пэрри, соединением частей формул, но в стихе за стихом, создавая новую игру.
Результат современного изучения гомеровского вопроса стоит теперь в форме следующей широко принятой рабочей гипотезы: использование древних и новых имен, как древних, так и новых лингвистически-стилистических элементов древней традиции, существующей к этому времени уже по меньшей мере 850 лет устной импровизации поэзии в твердой форме гекзаметра создает один далеко превосходящий всех профессионально индивидуальный певец Гомер одну (так или иначе при идентичности авторов) — две эпопеи, тематически и структурно единых, оригинальной композиции и чеканных образов картины из любимых старых саг истории Трои: 1. Ретардация завоевания Трои в рассказе о 51 дне о «Гневе Ахилла» («Илиада»). 2. Несмотря на все препятствия через 20 лет счастливое «Возвращение домой» Одиссея («Одиссея»). Обе эпопеи — продукты единственного в европейской истории культуры краткого переходного времени между устностью и письменностью: из этого объясняется также их формальная и количественная единичность внутри европейской литературы. Оба произведения конципированы благодаря письменности и сохранялись письменно, но до окончательной текстуализации греческой культуры V века до н. э. распространялись также через рапсодов. Благодаря письменному параллелизму рапсодические изменения текста в произношении слов и в целом текста минимальны и сохраняют главную структуру. Над этой гипотезой будет работать теперь современная международная наука.
Гомеровский вопрос представляет собой единство всех связанных с обеими эпопеями европейской литературы литературно-эстетических, научных и научно-исторических проблем. В своей первой фазе нового времени, когда гомеровский вопрос функционировал как начальный исток и обновляющая сила, исходящая от XVIII века от спора Древних и Новых, литературную жизнь времени определяли европейские дискуссии о Гомере. В созданной Вольфом сжатой форме они образовали три независимых направления: 1) Одно освободило литературно-эстетическое восхищенно-восторженное восприятие Гомера и античной литературы вообще через историческую перспективу; 2) Второе обосновало филологию как критическое знание с пафосом просвещения — освобождения от национальных традиций — и учредила этим всерьез принимаемую силу сопротивления религии и церкви; 3) Как доказательство истинности филологических методов, в-третьих, оно предоставило новогуманистическому образованию XIX века и специально проводимой Вильгельмом фон Гумбольдтом общей реформе прусского образования существенную помощь для фундирования нового национального образования в грекоримской античности; таким образом оно приняло участие в утверждении преподавания древних языков в классическом образовании в немецких гимназиях, как и классической филологии в немецких университетах XIX века, которое внесло свой вклад в их дальнейшее распространение и определило отчасти их образ действия.
В обновленной М. Пэрри форме теории устной формульной поэзии гомеровский вопрос приобрел в XX веке импульсы для расширяющихся международных исследований противоположных систем устности и письменности, так же, как и связанных с Marshall’ом Mc Luhan’ом современных средств международной (межкультурной) коммуникации и науки. Гомеровский вопрос, таким образом, обнаруживает себя как (теперь уже в течение 250 лет действующая) влиятельная духовно-научная побуждающая сила внутри европейской и отмеченной европейским влиянием новой науки и истории культуры.
До последних открытий в области гомеровского эпоса, до дешифровки микенского слогового письма В М. Вентри-сом, до дешифровки хеттского письма Б. Грозным, до прояснения истории индоевропейских языков и народов II тыс. до н. э., в самом начале развития индоевропейского языкознания и культуры индоевропейцев в России произошло открытие неизвестной до тех пор русской эпической поэзии. В 1804 году в Москве было опубликовано собрание «Древних российских стихотворений», известное ныне как «Сборник Кирши Данилова», содержащий первые подлинные записи русских былин и исторических песен. В первом издании, подготовленном А. Ф. Якубовичем, было 26 былин и исторических песен. Вторая публикация — «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым и вторично изданные с прибавлением 35 песен и сказок, доселе неизвестных, и нот для напева» (М., 1818). Это издание, почти полное (из 71 текста было пропущено только 10 нескромных скоморошин), подготовил К. Ф. Калайдович, снабдил его предисловием, где попытался выяснить исторические основы русского эпоса, связал эпические сюжеты с событиями русской истории XVI—XVIII веков, прокомментировал художественную природу помещаемых песен, связь эпоса со сказкой, отметил характерные особенности поэтического слога, языка, стихосложения. Здесь же он пишет и об инициаторе сборника, замечательном русском урало-сибирском заводчике П. А. Демидове:
…«За открытие и сохранение сих старых памятников русской словесности мы обязаны покойному г. действительному статскому советнику Прокофию Акинфиевичу Демидову, для коего они… были списаны » 5 .
С заводами П. А. Демидова связывается и место записи, причем К. Данилов квалифицируется как импровизатор и собиратель фольклора. Рукопись сборника собрала не первые копии. Текстологи различают пять исполнителей — пять разных почерков на бумаге XVIII века. Запись песен датируется 60-ми годами XVIII века, причем в ней наблюдается новое явление, характерное для «массового фольклоризма» XVIII века — присутствие пересказов и перепечаток рядом с явлением живой фольклорной традиции.
Сборник Кирши Данилова имел большой успех у русского читателя. Экземпляр второго издания 1818 года был в библиотеке А. С. Пушкина. Чтение текстов отразилось в поэме «Руслан и Людмила», в «Сказках», в «Песнях западных славян»; на «Древние российские стихотворения» он ссылался, употребляя такие слова, как «хлоп», «молва», «топ». «Народная поэзия вырастает из песней Кирши Данилова, — замечал А. И. Герцен, — в Пушкина»6. Белинский «в основу своих знаменитых четырех статей о русской народной поэзии <…> положил подробный анализ материалов Сборника»7. За границей особое внимание проявили деятели славянской культуры. Со сборником был знаком сербский ученый, крупнейший деятель сербского Возрождения Вук Караджич, первый сербский собиратель фольклора, автор и издатель множества книг, первый историк грядущих сербских восстаний, публицист, увенчанный званием доктора философии, и почетный член множества научных обществ Европы, с первых шагов своей авторской жизни верный друг России и ее культуры. В начале декабря 1818 года он выехал в Россию и в Москве общался с К. Ф. Калайдовичем, который тогда готовил сборник Кирши Данилова ко второму изданию. Один из ведущих деятелей иллиризма, знаток старинной славянской иллирийской поэзии, поэт и критик Станко Враз называл Киршу Данилова выдающимся собирателем славянской народной поэ-зии8. Большое внимание уделяли сборнику Кирши Данилова представители чешского Возрождения и их последователи: И. Юнгман, Ф. Палацкий, В. Ганка, Я. Коллар, П. Шафа-рик, Ф. Челаковский, Л. Штур и К. Эрбен. Наиболее горячим пропагандистом русской народной поэзии был Ф. Челаков-ский. Он в 1822—1827 годах опубликовал трехтомную славянскую антологию9, в которой поместил свыше 50 русских песен и 15 украинских, высказав при этом упрек русским поэтам, что они мало подражают народным песням, предпочитая следовать французским образцам. За этим стояло восхищение подражателем В. Ганкой в Краледворской и Зеленогорской рукописей и план будущих «Отголосов русских песен» — свободных поэтических переложений русских былин и русских народных песен, которые Челаковский осуществил в 1829 году10.
К середине XIX века в европейской науке утверждается сравнительно-историческое языкознание, опирающееся на реконструкции древнеевропейских мифологий, посредством этимологических сопоставлений в рамках индоевропейских языков. Внутри мифологической школы возникают и развиваются разнообразные концепции мифа (солярные, лунар-ные, метеорологические, тотемистические, аниматические, анимистические, ритуалистские, социологические), а рядом с ними и общеисторические, и школы заимствования — поиски «бродячих сюжетов». Рядом с европейскими работами появляются и русские [5], [2], [14].
С шестидесятых годов XIX века вновь начинается масштабная работа по изданию русского эпоса. В 1861 году выходит первая часть издания П. Н. Рыбникова, открывшего в Зао-нежье новое гнездо русских былин (М., 1861), далее вторая часть (М., 1862), третья часть выходит в Петрозаводске в 1864 году, четвертая часть — в Санкт-Петербурге в 1867 году. В семидесятых годах вышло собрание 318 былин А. Ф. Гиль-фердинга11. С начала ХХ века появилось еще несколько масштабных сборников12.
К концу ХХ века оказалось всего около 3000 записей былин и примерно 80 сюжетов. Один сюжет — «муж на свадьбе своей жены», которому как раз мы собираемся посвятить это исследование былины «Добрыня и Алеша», — оказался наиболее популярным: ему было посвящено 312 записей.
Вместе с огромным корпусом русского эпоса исследуется и славянский эпос. В этой области оказалось много непроясненного. В конце XIX века появляются монографии профессора Варшавского университета И. П. Созоновича, где русский и славянский эпос изучается и в западноевропейском контексте: «Песни о девушке-воине и былины о Ставре Годиновиче. Исследования по истории развития славянорусского эпоса» (Варшава, 1886) и «К вопросу о западном влиянии на славянскую и русскую поэзию» (Варшава, 1898). Усилилось изучение славянского эпоса в ХХ веке. Особенно расцветает славяноведение после Второй мировой войны в Советском Союзе. В России был образован Институт славяноведения при Академии наук СССР с обширной научной и издательской программой. Были изданы программы специальных конференций, сборники и коллективные монографии [4], [17], [19], [21]. Одновременно началась работа над пятитомным энциклопедическим изданием «Славянские древности» (М., 1995. Т. 1), над двухтомной славянской энциклопедией, над энциклопедическим изданием А. В. Гуры «Брак и свадьба в славянской народной культуре. Семантика и символика» (М., 2012); над энциклопедическим словарем «Славянская мифология» (М., 2002). В энциклопедическом словаре «Славянская мифология» помещена статья Н. И. Толстого «Славянские верования», которая может нам дать основы для интерпретации и частных тем:
Славянское язычество не было обособлено от верований родственных и соседствующих со славянами народов, оно является самостоятельно развившимся в первое тысячелетие нашей эры фрагментом древней европейской религии. Почти полное отсутствие свидетельств о славянской религии до
VI века и малое их число, относящееся к периоду с VI века по XI век, вынуждает ученых восстанавливать древнейшую славянскую религию, используя современный материал (записи XIX—XX вв.) и применяя сравнительно-исторический метод, подобный тому, который применяется в лингвистике. Сравнительно-исторический метод вкупе с ареально-типологическим и культурно-географическим (отчасти и лингвогеографическим) дают возможность выделить архаические явления из массы инновационных и с относительной долей вероятности представить их как православные, то есть древнеязыческие <…> Видимо, к VI веку славяне имели не только нечто, напоминающее пантеон богов, или ряд местных «племенных» пантеонов, но и были близки к монотеизму, к верованиям верховного, еще не христианского, единого бога. Если же посмотреть на генезис, на происхождение народных воззрений о божественной силе и воззрений о силе нечистой, то первые восходят к христианству, а вторые — во многом к славянскому язычеству. Это давало основание говорить о распространенном у славян, в первом случае у русских, двоеверия <…> Однако если рассматривать этот вопрос с генетической точки зрения, с точки зрения истоков или источников народной, духовной культуры, придется признать, что таких истоков или источников было более двух — христианского или языческого, существовал еще третий источник, во многом принятый славянами совместно или почти одновременно с христианским. Это народная и городская культура, которая развивалась и в Византии, и отчасти на Западе. Так проникали в славянскую среду элементы поздней античности — эллинства, мотивы ближневосточных апокрифов, восточного мистицизма и западной средневековой книжности, которые придавали всей славянской культуре эпохи первого тысячелетия определенный облик, лицо, полноту и разносторонность ее внешних — формальных — и внутренних — идеологических и смысловых — проявлений и сущностей [26].
С этой третьей традицией античной и средневековой литературы и фольклора, включающей и народную сказку, связано и сравнительно-историческое исследование памятников античности и средневековья в сопоставлении с более новой русской былиной XIV—XVII веков и новым фольклором, эпико-лирическими польскими и чешскими песнями XVIII—XIX веков.
Открыл исследование этой традиции в конце XIX века профессор И. П. Созонович в книге «К вопросу о западном влиянии на славянскую и русскую поэзию» (Варшава, 1898). Начал он с анализа произведения автора XIII века Цезария Гейстербахского «О чудесах» (Caesarius Geisterbacensis. Dialo-gus miraculorum. VIII. № 59. De Gerardo milite). Этот сборник рассказов послужил источником сюжета девятой новеллы десятого дня «Декамерона» Д. Боккаччо о мессере Торелло, его жене Адалиэте и султане Саладине13. Новелла рассказывает о состязании в любезности и щедрости мессера Торелло ди Стра из Павии и султана Саладина. Сюда вплетен и рассказ о возвращении Торелло на свадьбу своей жены. Он решил принять участие в крестовом походе «не только ради славы, но и для спасения души»14. И перед отъездом просит ее: …если ты не будешь получать обо мне достоверных сведений, то все-таки жди меня и не выходи вторично замуж в течение одного года, одного месяца и одного дня, считая со дня моего отъезда15.
Торелло попал в плен к султану Саладину, тот вспомнил его, богато наградил и отправил его с помощью некроманта на корабле в сарацинской одежде на родину так, чтобы тот явился туда в день свадьбы.
Наконец мессер Торелло решил, что пора удостовериться, помнит ли жена его, и того ради снял с руки кольцо, которое она подарила ему перед разлукой, и, позвав прислуживающего ей мальчика, сказал: «Передай от меня молодой, что на моей родине существует обычай: когда какой-нибудь чужестранец пирует у новобрачной, как вот я у нее, она в знак того, что его присутствие на брачном пиру доставляет ей удовольствие, посылает ему полный кубок вина — тот, из которого пьет сама; когда же чужестранец отопьет, сколько захочет, и прикроет кубок, то остатки выпивает молодая» 16 .
Мальчик выполнил его поручение; донна Адалиэта, женщина благовоспитанная и рассудительная, думая, что чужестранец — особа важная, и желая показать, что его присутствие на свадьбе ей приятно, велела налить вином доверху стоявший перед нею большой золоченый кубок и поднести почетному гостю, что и было исполнено. Мессер Торелло положил кольцо к себе в рот, а когда пил вино, то незаметно опустил его к себе в кубок, вина оставил на донышке, кубок же прикрыл и послал молодой. Желая до конца соблюсти иноземный обычай, она открыла крышку и, поднеся кубок ко рту и обнаружив кольцо, молча принялась рассматривать его и вскоре убедилась, что это то самое кольцо, которое она подарила мессеру Торелло перед его отъездом; вынув кольцо, она устремила пристальный взор на человека, которого принимала доселе за чужеземца, и, наконец, узнав его, как бы в припадке умоисступления, опрокинула стол и с криком: «Вот мой господин! Это же мессер Торелло!» — бросилась к тому столу, за которым сидел он, и, не боясь помять или же испачкать платье, перегнулась через стол и обвила руками шею мессера Торелло так крепко, что уже ничьи уговоры и попытки оторвать ее от мессера Торелло не оказывали на нее ни малейшего действия, пока мессер Торелло не сказал ей, чтобы она не безумствовала — у нее, мол, будет еще время обнять его, — только после этого донна Адалиэта отпустила своего мужа17.
Столь яркий, запоминающийся эпизод не мог не повлиять на европейскую литературу. Следы его мы встречаем и в России: в переводной народной книге о Бове из Антоны. Книга сложилась во Франции, была переведена сначала в Италии, а в конце XVI века — с сербской рукописи на белорусский язык («Познанская рукопись»). Далее в начале XVII века была переложена на русский язык и получила распространение в лубочной литературе XVIII, XIX и ХХ веков. Этот сюжет избрал А. Пушкин для незаконченной лицейской поэмы «Бова», датируемой сентябрем—октябрем 1814 года, состязаясь с шутливой одноименной поэмой А. Н. Радищева. Потом Пушкин при встрече с К. Н. Батюшковым уступил разработку этого сюжета ему, о чем писал П. Вяземскому 27 марта 1816 года: «Обнимите Батюшкова за того больного, у которого, год тому назад, завоевал он Бову королевича»18. Когда Батюшков заболел в 1822 году, Пушкин надумал вернуться к сюжету «Buovo d’Antona» как предшественнику итальянского романтизма, о чем писал Вяземскому 25 мая 1825 года, сделав обширную выписку из «Истории итальянской литературы» П. Л. Женгене19 и добавив к ней: «Остальное, как в русской сказке»20 — послал в письме к Вяземскому. В академическом собрании сочинений Пушкина конспект Женгене не был опубликован. Опубликовал его Б. В. Томашевский в малом академическом издании21. Второй раз выписки из «Истории итальянской литературы» П. Л. Жен-гене опубликованы в Полном собрании сочинений А. С. Пушкина в издательстве «Воскресенье»22. Третий раз «возвращение к теме Бовы» было у Пушкина в 1834 году, когда он замышлял написать сказку о Бове, след чего в виде плана и двух стихов опубликован в пятом томе издательства «Вос-кресенье»23. По сокращенному пересказу Женгене Пушкин должен был упомянуть о бегстве Бовы с Дружневной и рождении ею двух близнецов. При новой встрече с Дружневной, подросшими сыновьями и предлагающей себя в невесты царевной Минчитрией Бова выбирает жену и детей и уезжает с ними.
Разбирая средневековые варианты сюжета «возвращения мужа на свадьбу своей жены», И. П. Созонович высказывает предположение, что в его основе лежит «Одиссея» Гомера, «первая по времени зафиксированная в письменной форме версия сказания» [24, 537]. Между тем, по мнению В. М. Жирмунского, изучавшего этот сюжет в связи с узбекским эпосом «Алпамыш», в основе «Одиссеи» Гомера лежит не средневековый «романический мотив разлуки героя с молодой женой и последующего узнавания по кольцу или песне, а героическая борьба <…> царя против насильников, захвативших в его отсутствие его дом, жену и власть в его родной стране» [11, 106]24. Больше правды усматривал исследователь в точке зрения академика И. И. Толстого, который «видел в “Одиссее” обработку древнего, широко распространенного сказочного сюжета “возвращения мужа”, совпадающего в основных чертах с гораздо более поздними по времени записи, но в некоторых подробностях более архаическими европейскими вариантами» [11, 109]. Сопоставление «Одиссеи» с этими вариантами «богатырской сказки» «должно служить, с точки зрения И. И. Толстого, доказательством того, что “Одиссея” в ряде случаев утратила или сохранила в виде рудиментов целый ряд признаков, засвидетельствованных в “западной” версии» [11, 109]:
Таким образом, близость сюжета «Одиссеи» и сказания об Алпамыше, часто даже в подробностях, не может пониматься в смысле литературного «влияния» эпоса Гомера на среднеазиатскую поэму «Алпамыш», хотя бы на самых ранних этапах ее сложения. Подобное влияние исторически непредставимо. Оба произведения устного эпического творчества имели, вероятно, общим источником древнейший сказочный сюжет, широко распространенный в фольклоре многих народов и в другом, более позднем варианте, отложившийся в средневековых западных сказаниях о «муже на свадьбе своей жены» [11, 109].
Излагая историю сказания об Алпамыше в связи с вопросом о восточных влияниях на «Одиссею» Гомера, В. М. Жирмунский отмечает основные его этапы. В основе сюжета лежит богатырская алтайская сказка «Алып-Манаш», «сказание это существовало в предгорьях Алтая в VI—VIII вв. н. э. (эпоха тюркского каганата). Отсюда оно было занесено огузами в низовье Сыр-Дарьи, где засвидетельствовано в IX—X вв. по показаниям позднейших исторических источников» [11, 103]25. «У огузов сказание получило самостоятельное развитие, войдя в цикл богатырских песен о богатыре Салор-Ка-зане. Отсюда при Сельджуках (в XI в.) оно было занесено в Закавказье и Малую Азию» [11, 103]. Поздним литературным отражением этой версии являлся рассказ о «Бамси-Бей-реке» в «Китаби Коркуд». Предание об огузах, Коркуде и Ка-зан-беке, с точки зрения академика В. В. Бартольда, в эпоху Сельджукской империи было перемещено на запад, а современные анатолийские сказки сохранили народную форму огузской версии26:
С передвижением на запад кипчакских племен сказание это в XII—XIII вв. проникло в другой версии в Казахстан, Башкирию и на Волгу <…>. С кочевыми узбеками <…> оно было перенесено в южный Узбекистан (Байсунское бекство — кунг-ратская версия) [11, 104].
Здесь «на основе древней богатырской песни или сказки, принесенной кунгратцами с их кочевий на берегу Аральского моря, сложился героический эпос “Алпамыш”, получивший в дальнейшем распространение среди узбеков, каракалпаков и казахов.
На этом пути древняя богатырская сказка, рассказывавшая о поездке героя за невестой в “страну, откуда нет возврата”, в процессе развития самих народов от патриархальнородового до ранне-феодального строя, превратилась в героический эпос, наполненный конкретным историческим содержанием: врагами Алпамыша в среднеазиатском эпосе сделались “язычники”-калмыки, исторические враги среднеазиатских тюркских народов, а на Кавказе — “гяуры” (христиане) Гурджистана (т. е. Грузии) — бек крепости Байбурд, коварно захвативший в плен Бейрека и его 40 джигитов и бросивший их в подземелье своего замка» [11, 104]. «Можно предположить, — пишет далее В. М. Жирмунский, — что скитания сказочного героя в подземном царстве (по типу сказки № 301 (“Три царства”. — Т. М.) и некоторых других) лежат и в основе рассказа о двадцатилетних (надо — десятилетних, ведь другие 10 лет он воевал. — Т. М.) странствиях Одиссея в поэме Гомера и связаны с мифологическими представлениями о посещении героем загробного мира» [11, 110]:
Путешествие Одиссея в загробный мир, его любовный плен на острове Калипсо, его приезд в царство злой волшебницы Кирки и, наконец, последнее местопребывание Одиссея перед его возвращением, лежащий далеко в море, счастливый остров феаков, все это, как справедливо утверждает исследователь «Одиссеи» академик И. И. Толстой, — реплики одного мифологического образа, тесно связанного с представлением о стране смерти [11, 110] 27 .
К наблюдению филолога-классика В. М. Жирмунский добавляет:
К тем же сказочным <…> представлениям восходит <…> и рассказ о семилетнем пленении Алпамыша в глубокой яме или в подземной темнице (зиндане) калмыцкого шаха или бека гяуров, а также все другие <…> случаи пленения или скитания героя в заморских странах, которые встречаются в западных вариантах о «возвращении мужа» как различные формы его позднейшей исторической конкретизации. Не случайно поэтому все версии этого сказания сохранили (как и сказка № 301) характерный сказочный мотив чудесного возвращения из чужой страны с помощью волшебного помощника-демона, святого, волшебного коня. В «Одиссее» чудесный характер имеет ночной переезд героя во время сна на волшебном корабле феа-кийцев [11, 110].
Предлагая выводы из предпринятого анализа, В. М. Жирмунский замечает следующее:
В международном репертуаре волшебной сказки нет сюжета, который можно было бы считать прямым сказочным источником эпического сказания об Алпамыше, рассказа о возвращении Одиссея и родственных ему сказаниях (имеются в виду позднейшие средневековые версии сюжета. — Т. М.). Сказка № 301 и другие <…> дают лишь общее представление о типе сказочного сюжета, который послужил основой для сюжета эпического (курсив В. М. Жирмунского. — Т. М.) [11, 111].
В этом типе сюжета изначальна связь между сюжетами «героического сватовства» и «возвращения мужа», соединенными в сказании об Алпамыше. Следовательно, «возвращение мужа» — только второй круг повествования, по своему содержанию теснейшим образом связанный с первым, второе сюжетное звено, оторвавшееся в дальнейшем развитии от первоначального единства:
Значение «второго круга» сказочного или эпического сюжета заключается в том, что сказитель или рассказчик еще раз выводит популярного героя в серии новых приключений, аналогичных тем, которые хорошо известны слушателю, и снова ставит его перед препятствиями и испытаниями, которые он преодолевает еще раз и теперь уже окончательно. Поэтому основные эпизоды такого второго круга обычно повторяют первый: встреча с пастухами (или с пастухом), изменение внешнего облика (переодевание), состязание с соперником (стрельба из лука) в сюжете возвращения мужа в сущности являются вариантом аналогичных эпизодов богатырского сватовства [11, 112].
Во втором круге сюжета авторы уделяют внимание узнаванию своих хозяев животными. Одиссей, войдя во двор своего дома, видит лежащего на куче навоза своего старого пса Аргуса. Одиссей сам выкормил его, но на охоту с ним не успел сходить: он тогда собирался ехать воевать под стены Илиона. Но, по воспоминаниям Евмея, эта собака была удивительной резвости, отважности и чутья:
…в лесу ни в каком захолустье укрыться
Дичь от нее не могла; в ней чутье несказанное было 28 .
Теперь же двадцатилетний Аргус неподвижно лежит. Но близость своего хозяина он почувствовал:
Но Одиссееву близость почувствовал он, шевельнулся, Тронул хвостом и поджал в изъявление радости уши;
Близко ж подползть к господину и даже подняться он не был
В силах. И, вкось на него поглядевши, слезу от Эвмея Скрытно, обтер Одиссей <…>
В это мгновение Аргус, увидевший вдруг через двадцать Лет Одиссея, был схвачен рукой смертоносною Мойры 29 .
Подобные сцены В. М. Жирмунский указывает и в «Алпа-мыше». В стаде верблюдов, которое заставляют пасти сестру героя Калдырчаг, старший верблюд, «семь лет, не вставая, пролежавший без движения на пастбище, в отсутствие своего хозяина, почуяв его близость, внезапно подымается, приветствуя его возвращение на родину. Эпизод с верблюдом засвидетельствован не только в ряде кунгратских вариантов “Алпамыша”, но и в одной из анатолийских сказок о Бейреке, и может быть отнесен тем самым к древнейшему составу этого сказания. Его вариантом является аналогичная сцена со старой кобылой, матерью Байчибара (конь Алпамыша. — Т. М. ), которая узнает своего сына и начинает радостно кружиться вокруг него: сцена <…> засвидетельствованная в ряде анатолийских сказок. В одной из них Бейрека узнают собака (как в “Одиссее”) и жеребец, брат коня» [11, 107].
Сопоставляя сказание об Алпамыше и «Одиссею» Гомера, Жирмунский привлекает всю традицию исследований об Одиссее, в частности, «предание о героическом сватовстве» (кроме стрельбы из лука. — Т. М .) — состязание в беге с женихами Пенелопы30:
Можно думать, что приурочение сказочных странствий Одиссея к историческим событиям Троянской войны и к циклу рассказов о «возвращениях» (νόστοι) ее героев нарушило эту исконную связь и сделало ненужной «предысторию» Одиссея и Пенелопы [11, 112].
Как известно, в сложении гомеровского эпоса, в частности, «Одиссеи» существенная, если не решающая роль принадлежала ионийским колониям в Малой Азии. Отсюда следует вести и сюжет возвращения Одиссея и связи этого сюжета со среднеазиатским сказанием об Алпамыше. При этом близость «Одиссеи» и «Алпамыша», в особенности в его кунгратской редакции, настолько значительна, что вряд ли можно говорить о случайном совпадении мотивов: «Алпамыш» и «Одиссея» восходят, по-видимому, к общему, «восточному» (героическому) варианту древнего сказочного сюжета. Свидетельство «Одиссеи» позволяет отнести существование этой восточной версии сказания о возвращении мужа по крайней мере уже к VII в. до н. э. (если считать, что «Одиссея» около 600 лет до н. э. была уже зафиксирована в своей окончательной редакции (Finsler Georg. Homer. Leipzig, 1924. Teil I, 1 Hälfte. S. 37—39, 61, 66). Пути распространения сказания в эту древнюю эпоху истории передней и Средней Азии пока еще остаются неясными, однако в свете других аналогичных фактов это сходство «Одиссеи» и «Алпамыша» позволяет поставить вопрос о древнейших связях между античной и среднеазиатской культурой, точнее — о восточных влияниях на греческую культуру.
Западные варианты «возвращения мужа» представляют, по-видимому, самостоятельную и значительно более позднюю фиксацию того же сказочного сюжета. <…> Героическое сватовство как предыстория «возвращения» наличествует в отдельных случаях и здесь (Добрыня и Настасья, Карл Великий, средневековый роман о Бове, английская поэма «Король Горн» XIII в. и немн. др.) <…>. В качестве второго тура повествования — рассказ о похищении жены <…> неоднократно встречается, начиная со второй половины XII в., в немецких эпических поэмах с сюжетом богатырского сватовства («Король Ротер», «Орендель», «Вольф Дитрих») [11, 112—113].
Теодор Фрингс, изучавший эти поэмы, специально говорит о восточном происхождении этого сюжета. Ссылкой на его работы исследователь заканчивает свою статью31. Приведем еще одну последнюю цитату из статьи В. М. Жирмунского, где он характеризует сцену последнего узнавания в новоевропейских версиях сюжета «муж на свадьбе своей жены»:
На родине от первого встречного (пастуха, крестьянина, нищего певца, свадебного гостя) герой узнает о происходящей свадьбе. В некоторых случаях он возвращается изменившимся и неузнаваемым из-за пережитых лишений и голода; чаще он сам меняет облик (переодевается нищим, паломником, певцом), чтобы проникнуть неузнанным на свадебный пир. В некоторых вариантах этому предшествует встреча с родными (старухой-матерью, отцом или сестрой), которые также сперва не узнают пропавшего. В чужой одежде герой стучится в ворота дома, где празднуется свадьба; иногда при этом происходит столкновение между ним и привратником или слугами нового хозяина; неузнанный, он получает место среди челяди или нищих, на скамье музыкантов; или реже, он просит молодую выйти к воротам и подать ему милостыню ради ее покойного супруга. Признание происходит по-разному: чаще всего по кольцу, которое он опускает в кубок с вином, поднесенный ему невестой по его просьбе (иногда по половинке кольца, разломанного им на две части при расставании), или по песне, которую он поет на пиру как певец, или, наконец, по какой-нибудь физической примете (родинке, рубцу от старой раны и т. п.). Жена с восторгом возвращается к своему старому мужу (прыгает к нему через пиршественный стол — в славянских версиях). Неудачный соперник, если он виноват, несет заслуженную кару; в других случаях дело кончается примирением (он получает денежный подарок или женится на дочери или сестре вернувшегося мужа) [11, 105].
Мы привели эту последнюю цитату из статьи В. М. Жирмунского, потому что она кратко и, тем не менее, исчерпывающе характеризует новоевропейские версии сюжета, вплоть до такого откровенно яркого жеста жены, которая «прыгает к мужу через широкий стол». Можно предполагать, что эта деталь обеспечивается свадебной обрядностью. После церкви, где молодые меняются обручальными кольцами, им еще предстоит много движения — вокруг стола, на столе и т. д. Показательным примером этого может служить новелла Боккаччо, упомянутая выше. Хотя мессер Торелло и носит здесь сарацинский костюм и бороду, но, говоря об известном ему местном обряде узнавания по кольцу, он имеет в виду христианский обычай, а жена, «узнав его, опрокинула стол и с криком: “Вот мой господин! Это же мессер Торелло!” — бросилась к тому столу <…> и обвила руками шею мессера Торелло»32. Затем в польском, чешском и словацком фольклоре следуют и другие варианты. И. П. Созонович, исследуя их, дает им такую общую характеристику:
а) немедленно после свадьбы муж идет на войну; б) свою молодую жену он оставляет заботам матери на семь лет; в) по прошествии этого срока он возвращается прямо в дом матери, от которой узнает, что жена справляет свадьбу с другим мужем; г) он берет скрипку (или другой музыкальный инструмент) и играет на свадьбе сперва у печки, а потом приближается к свадебному столу; д) тут жена узнает своего мужа и прыгает к нему через три-четыре стола; е) возвратившийся муж берет себе свою жену, иной раз увозит ее, и его соперник остается пристыженным [24].
Не забывается здесь и узнавание по кольцу. Примеры приводит в антологии «Эпоса славянских народов» П. Г. Богатырев (М., 1959). В ее разделе «Народные эпические и лиро-эпические песни западных славян» читаем:
«Возвращение мужа с войны»
Строит дом вдовица, солдат стоит, дивится. Что дивного, солдатик, что дивного, касатик, ведь вдова я, горемыка, вот уж скоро семь годочков муж с войны не пишет, уж может и не дышит.
Разреши мне, вдовушка, во дворе твоем побыть, моих коней покормить.
Не разрешу, солдатик, не разрешу, касатик, ведь вдова я, горемыка, вот уж скоро семь годочков муж с войны не пишет, уж может и не дышит.
Разреши мне, вдовушка, во дворе твоем побыть, ночь одну заночевать.
Не разрешу, солдатик, не разрешу, касатик, ведь вдова я, горемыка, вот уж скоро семь годочков муж с войны не пишет, уж может и не дышит. Сел за стол он в уголок, молча бросил перстенек. Перстенек взяла вдова, оглядела раз и два.
Мой боже, почему же ты носишь перстень мужа? Три свечи сгорело пока все разузналось:
Ой, свечка восковая, уж больше не вдова я! 33 «Возвращение милого с войны»
На Подоле в чистом поле стоит кузница на камне, там кузнец кует ретивый, горн горит неугасимый.
Вот, кузнец, твоя награда, подковать коней мне надо, позаботься ты об этом, на войну иду с рассветом.
Мою женку, вашу дочку, вы храните пять годочков, ждите, матушка, а там уж отдавайте снова замуж.
Год седьмой к концу подходит, замуж Касенька выходит.
Лает пес, ревет скотина: Глянь-ка, хлопец, в чем причина?
Подъезжает всадник к дому, конь под хлопцем неспокойный.
Как здоровьице, мамаша, где, скажите, дочка ваша?
Отдала ее другому, пану писарю седому.
Дайте скрипку дорогую, к ним на свадьбу поспешу я.
Не ходи, тоски не скроешь, только свадьбу им расстроишь.
А я встану у калитки, буду им играть на скрипке.
Кася Ясю различила, три стола перескочила, а четвертый ножкой сбила.
Муж вернулся, я ликую, ну, а ты ищи другую! 34
Моравские (чешские) песни:
«Первый милее»
Оженился Викторинек, оженился Викторинек, паренек красивый, на девчонке молодой, бедной, не спесивой.
Одну ночь с женой поспал — король на войну забрал.
«Вот, мамаша, твоя дочка, люби ее, как сыночка.
Шесть годочков охраняй, после — замуж отдавай».
Вот и шесть годов проходит, а Викторинек не приходит.
И выходит его женка замуж за соседа Фойта.
А тем часом с войны Викторинек идет, четырех коней за собой ведет.
А пятый конь — тот еле плетется: под мешками, полными денег, гнется.
Встречает Викторинек в поле пастушку: «Увижу ль, скажи мне, свою подружку?»
«Жива твоя женка, да свадьба у женки».
Пришел он на свадьбу, сел тихо на угол: «Узнает ли женушка милого друга?»
Та глянула — сразу признала мила, через четыре стола перескочила.
У пятого крепко солдата обняла и громко — на всю светлицу — сказала:
«Люблю одного — своего Викторинка, сердечка девичьего он половинка!»
Солдатик женку к груди прижал, а Янек Фойт по ней зарыдал 35 .
П. Г. Богатырев поручил подготовить тексты для хрестоматии болгарских и югославских народных песен И. М. Шеп-тунову. По его словам, словенская песня «Оженился Янко» «заключает в себе чрезвычайно много общего с песнями других славянских народов на подобную же тему — муж на свадьбе своей жены»36.
«Оженился Янко»
Оженился Янко, взял свою он любу, взял свою он любу за правую ручку, привел свою любу к матери-старухе. «Поглядите, мамо, это ваша дочка. Дорогая люба, должен я уехать к королю на службу. Коль меня не будет один, два, три года, будешь ты свободна с другим сговориться, за другого выйти».
Ночью темной Янку вещий сон приснился <…> «…моя мила люба с другим сговорена, с другим сговорена, за другого вышла».
«Ой, ты, храбрый Янко, садись на коня ты, что в моей конюшне изо всех резвейший!» Приезжает Янко к матери-старухе:
«Бог вам в помощь будет, моя стара мати!» «И тебе бог в помощь, незнакомый путник!» «Прошу у вас, мамо, путнику ночлега, путнику ночлега, у огня согреться».
«Нет, нельзя, не можем, незнакомый путник, полон дом сегодня, собралися гости».
«Одно слово молвить вы позвольте, мамо, моя стара мамо, молодой невесте, вы ее пошлите, пускай сюда выйдет, я скажу: бог в помощь, молода невеста!» «И тебе бог в помощь, незнакомый путник! Войди, войди в избу, незнакомый путник. Дайте человеку почетную чару!» «Благодать почиет пусть на этом доме.
Можно ль незнакомцу выпить эту чару?» «Можно, пей во здравье, незнакомый путник!» «Будь благословенным дом ты мой родимый, дом ты мой родимый, мать моя родная, моя верна люба с другим сговорена, с другим сговорена, за другого вышла».
Взяла люба чару, чару пригубила, чару пригубила, от стола вскочила, от стола вскочила, Янко усадила. «Ой ты, милый Янко, суженый мой первый, суженый мой первый, сердечно любимый!» Гости тут вскочили и все разбежались 37 .
Для лироэпических и эпических славянских форм рецепции сюжета «муж на свадьбе своей жены» польских, чешских и славенских песен характерен однозначно оптимистический финал: муж возвращается с войны и супруги вновь начинают жить вместе, как говорится в русской былине, «лучше старого стали жить, лучше прежнего».
А вот для южнославянского эпоса даже в таком, казалось бы, едином и благополучном сюжете, как «муж, вернувшийся на свадьбу своей жены», прослеживается разнообразие концовок и внутренний трагизм. В подготовленный Ю. Смирновым юбилейный сборник «Сербские народные песни и сказки из собрания Вука Стефановича Караджича» (М., 1987) составитель включил запись Т. Подруговича песни «Плен Стояна Янковича» на общеславянскую тему «муж на свадьбе своей жены». Песня посвящена предводителю ускоков на службе у венецианцев, от которых он получил титул кавалера и поместье в Котарах. Вся жизнь его прошла в битвах с турками. В 1666 году он попал в плен, был увезен в Царь-град и провел 14 месяцев в темнице. Погиб в 1687 году. Второй герой песни — Илья Смилянич, соратник отца Стояна Янковича. Погиб в 1654 году. Дело не только в драматической жизни и трагической смерти героев. Песня полна внутреннего трагизма. Внешне песня вполне благополучна. Во время турецкого праздника герои убегут из плена и прибудут в родной дом: «неплененных родичей увидим, нецелованных жен поцелуем»38. Дома они находят «нарядных сватов», которые приехали сватать жену Стояна, дожидавшуюся мужа «девять лет и семь месяцев на год десятый». Вернувшись к жене, Стоян:
Стал одаривать нарядных сватов — Тем платок, тем тонкую рубашку, Жениху родную дал сестрицу.
С тем и отбыли из дома сваты 39 .
Еще раньше, только переступив порог родного дома, он бросился в свой виноградник посмотреть, как он растет и кто за ним ухаживает, там он с болью видит свою старую мать:
Косы режет матушка-старуха, Косы режет, виноградник вяжет И слезами лозы поливает.
А как время вечерять настало, Матушка идет домой, рыдая, Стонет горько серою кукушкой, Своего Стояна поминает:
«Ой, Стоян мой, яблочко златое,
Матушка твоя тебя забыла, А невестку позабыть не может, Нашу Елу, перстень ненадетый! Кто-то ждать теперь старуху будет? Кто-то выйдет матери навстречу? Кто-то у меня сегодня спросит: — Матушка, не слишком ли устала?»
Услыхала то жена Стояна,
Встала перед белыми дворами, Матушку в объятья принимала, Слово доброе ей говорила: «Не горюй ты, матушка, напрасно!
Солнце наконец тебя пригрело, Вот он, сын Стоян, перед тобою!» Как увидела старуха сына, Как увидела она Стояна, Так и наземь замертво упала. И Стоян похоронил старуху, Как положено по царской чести 40 .
Годом ранее Ю. Смирнов выпустил другую хрестоматию «Песни южных славян», процитированный текст Т. Подру-говича вошел и в нее41. Но кроме того, здесь имеются еще два примера песен на общеславянскую тему «муж на свадьбе своей жены». Среди гайдуцких песен есть песня «Ела, жена Радула», которая начинается с мотива «прощания супругов». Жена просится с ним в поход:
Говорил жене на это Радул:
«Жен с собою не берут в походы, Во дворах их белых оставляют. Береги ты белый двор мой, Ела, Честь мою и честь свою храни ты». Спрашивала у Радула Ела: «Ты когда вернешься из похода?» Говорил на это Еле Радул: «Только черный ворон побелеет, Расцветет на мраморе куст розы, И к тебе вернусь я из похода». Речи мужа выслушала Ела, Яблоко дала ему златое
И платок, служанкою расшитый. И тогда свой двор оставил Радул. Только заперла за ним ворота, Ела черна ворона поймала, Розу алую она достала, На холодный мрамор посадила. Не белеют вороновы перья, Не цветет на мраморе куст розы. Уж ее и мылом моет Ела, Молоком из грудей поливает,
Поливает вечером и утром, И во время зноя в жаркий полдень. Вот уж целых девять лет минуло. Но Радула нет, ни доброй вести.
Ела, чтобы услышать добрую весть о Радуле, нарядно одевается и идет плясать в поле. «Не прошло тут времени и часа», как к хороводу подъехал незнакомый юнак и пригласил Елу на танец, но ведет себя с ней вольно.
Говорила Ела незнакомцу:
«Не держи, юнак, меня за пояс, Не твоя ведь мать меня вскормила, Жемчуг мой не рассыпай на плечи, Не твоя ведь мать его низала, А моя, пускай почиет в мире, И не жми ты руки мои в перстнях, Ведь не ты дарил мне эти перстни, А мой муж, дай бог ему здоровья». И на этом кончился их танец.
Ела бежит домой, за нею затворяют ворота, к ее двору едет на коне юнак.
Яблоко ей бросил золотое, Что дала ему когда-то Ела, Как его в дорогу провожала, И платок, служанкою расшитый. Тут ворота отворила Ела, Господина Радула узнала.
И сказал он: «Верь мне, моя люба, Верь мне, верная моя супруга, Если б ты мне раньше отворила, Чем я бросил яблоко златое, Тут же снял бы голову тебе я, А служанке выколол бы очи!» 42 .
Страшная угроза в конце песни не сбывается, но она обнаруживает скрытый трагизм песен южных славян «о возвращении мужа».
Система многолетнего гнета турок в Сербии приводила к полному осиротению семьи. В гайдуцкой песне «Стойна Енынёвка и янычар Склаф» рассказывается о приезде янычара для «налога крови» — набора детей в янычары. Вызывают одну женщину, которая в рыданиях говорит, что турки посещают ее семью уже в третий раз. Первый раз забрали брата, второй раз — мужа, а теперь дошла очередь до сыновей. Вопрос к женщине такой: могла бы она узнать брата или мужа по какой-нибудь примете? Женщина отвечает, что брата она не помнит, а у мужа был шрам на голове от попавшей щепки. На поверку оказывается, что ни у одного из мужчин деревни нет заметного шрама. Женщина со страхом просит янычара снять шапку:
На него взглянула Стойна И узнала Стойна мужа, По примете опознала, По отметине знакомой На челе его высоком.
О сюжете «муж на свадьбе своей жены» и близких к нему на русском материале (былина «Добрыня и Алеша») и в традициях славянского эпоса Ю. Смирнов пишет и в своей научной монографии [23, 132—133]. А вот что говорит Б. Н. Путилов «о южнославянских песнях, о муже, возвращающемся домой и попадающем на свадьбу своей жены»: они «разнообразятся по жанровой структуре, по определяющим стилевым особенностям. Жанрово-стилевой диапазон здесь велик — от больших поэм до типичных баллад и песен, приуроченных к обрядовым моментам. В новейшей антологии сербско-хорватской этики приводятся три образца, характеризующие этот диапазон. Автор комментария специально отмечает характерные для песен различия: “С одной стороны, настоящий роман об Илии Приморце, чудесным и единственным образом сходный с античной историей Одиссея и в то же время весь наполненный нашей собственной историей <…>”; с другой — песня с мифологическими мотивами “своим сгущенным обликом может быть ближе балла- де, чем настоящей эпической песне”; наконец, песня, выделяющаяся своим “элегическим тоном”» [19, 192]43.
В русском былевом эпосе сюжету «возвращения мужа на свадьбу своей жены» посвящена большая тематическая подборка «Добрыня и Алеша» (№№ 58—83) в изданной в серии «Литературные памятники» монографии Ю. И. Смирнова и В. Г. Смолицкого «Добрыня Никитич и Алеша Попович»44. К сюжету былины о Добрыне и Алеше близко подходят два «специфических варианта былины “Соловей Будимирович”, где имеется продолжение в виде сюжета “Жених на свадьбе своей обручницы”. Он очень близок, местами совсем совпадает текстуально с былиной “Добрыня и Алеша”, однако в нем в роли Алеши Поповича выступает “молодой щап” Давыд Попов» (416)45. В этом неудачном добавлении (оно не было усвоено былевой традицией) составители видят приспособление сюжета «к иному эпическому контексту, а Алеша Попович заменяется иным персонажем» (416). Можно заметить в связи с этим, что на русской почве, в отличие от южнославянской, «один извод — былина “Добрыня и Алеша” — полностью вытеснил из бытования все другие эпические изводы» (417).
Мы уже упоминали о том, что всего записей былины 312. Они очень разнятся по объему (от 70 до 1112 строк), что обусловлено степенью разработанности сюжета и наличием различных вставок. Былина датируется поздним временем (XVI—XVII веками) и содержит все разработанные части биографии обоих героев и, кроме этого, различные вставки:
Известно свыше двадцати осложнений былины различными вставками — как индивидуальными, так и ставшими традиционными, т. е. передававшимися от поколения к поколению. Наиболее ранними из них, по-видимому, можно считать мотив поиска названого брата Ильи Муромца как причину отъезда Добрыни в чистое поле и образ загадочного Невежи, на бой с которым Добрыня отправляется из Киева. В районе Кижей (Заонежье) и на Купецком озере (Пудога) былина «Добрыня и Алеша» прочно слилась с былиной «Добрыня и Василий Казимирович», сюжет которой певцы расценивали как причину отъезда и долгой отлучки Добрыни. Возможно, специально для былины «Добрыня и Алеша» были созданы олонецкими сказителями сюжеты «Добрыня и Настасья»
(Женитьба Добрыни) и «Бой Добрыни и Алеши». <…> Сказители постоянно связывали их с былиной «Добрыня и Алеша» исполняли либо непосредственно перед нею, либо в контаминации с ней (416—417).
По-видимому, в былинной традиции о Добрыне и Алеше прослеживается тяготение к форме эпопеи — развернутого эпического сказания.
Былина «Добрыня и Алеша» имеет древний сказочный сюжет. Здесь действуют и говорят животные и птицы. О «не-взгодушке» в Добрыниной семье «возгуркивают» «голубь с голубкою» (Н. С. Богданова) или его «добрый конь испове-щится ему голосом человеческим» (А. Е. Чуков):
Ты ей, хозяин мой любимый!
Ты над собой невзгодушки не ведаешь:
Твоя молода Настасья, дочь Микулична, замуж пошла
За смелого Алешу за Поповича;
Пир идет у них на третий день;
Сегодня им идти по божьей церкви,
Принимать с Алешей по злату венцу (А. Е. Чуков).
Эти архаические детали сохраняются в былине вплоть до конца XIX века. И добавляются другие, связанные с сюжетом. Настасья Микулична опознает Добрыню по его игре на гуслях: он играет, «как надо быть удалому доброму молодцу»:
Он скочил скоро на место на показано.
На тую печку на муравлену;
Натягивал тетивочки шелковыя
На тыя струночки золоченыя, Учал по стрункам похаживать, Учал он голосом поваживать, Играет-то в Цари-гради, А на выигрыш берет все в Киеве, Он от старого всех до малого.
Тут все на пиру призамолкнули, Сами говорят таково слово: «Что не быть это удалой скоморошины, А кому ни надо быть русскому, Быть удалому добру молодцу!» (А. Е. Чуков).
Настасья Микулична узнает мужа по игре и пенью:
Ай стоит Настасья за столом да белодубовым
У ей сьлезы-то скацют, из ясных оцей, Не в один скоцилили руцей, ровно в три руцья: «Я была как за любимой-то державушкой,
У его были ведь эти же гуселышки» (А. В. Марков).
Далее следует классическое в сюжете узнавание по кольцу. Добрыня Никитич просит разрешения у князя Владимира поднести чару «зелена вина» «княжны поручение» и говорит таково слово:
«Молода Настасья, дочь Никулична!
Прими сию чару единой рукой.
Да выпей-ко чару единым духом: Буде пьешь до дна, так видаешь добра, А не пьешь до дна, не видаешь добра».
Она приняла чару единой рукой, Да и выпила чару единым духом, Да и посмотрит в чары свой злачен перстень, Которым с Добрыней обручалася;
Сама говорит таково слово:
— Солнышко Владимир стольно-киевский, Не тот мой муж, который подле меня, А тот мой муж, который супротив меня, Сидит мой муж на скамеечке, Подносит мне чару зелена вина.
Сама выскочит из-за стола из-за дубового,
Упала Добрыне в резвы ноги:
— Прости, прости, Добрынюшка Никитич,
В той вины прости меня, в глупости, Что не по твоему наказу-де я сделала, Я за смелого Алешеньку замуж пошла (А. Е. Чуков).
Добрыня Никитич прощает «свою любиму семью» без долгих разговоров, и дальше укоряет до ощущения вины и стыда княгиню Апраксию и князя Владимира:
«Солнышко Владимир тот тут сватом был, А княгиня Апраксия свахою,
Они у живого мужа жену просватали!» (А. Е. Чуков).
Алеше Поповичу, главному легкомысленному инициатору нового брака Настасьи Никуличны, Добрыня не прощает не одно это легкомыслие. «Прости, прости, братец мой названный, Что я посидел подле твоей любимой семьи, Подле молодой Настасьи Никуличной!» «В той вины, братец, бог тебя простит», — отвечает ему Добрыня Никитич. Не прощает он ему злостный обман. Алеша принес в Киев обманную весть о смерти Добрыни и опечалил его родную мать. Добрыня поучил его еще и побоями. Кроме этого обманного сватовства и неудачной женитьбы, сожаление об этой ситуации, надо думать, разделяет и сам Алеша Попович:
«Всяк-то, братцы, на веку женится, А не дай бог женитьбы той Алешиной: Только-то Алешенька женат бывал, Женат бывал, с женой сыпал» (А. Е. Чуков).
Слова Настасьи Никуличны: «Не тот мой муж, который подле меня, А тот мой муж, который супротив меня», яркий выразительный ее жест: «Сама выскочила из-за стола из-за дубового, Упала Добрыне в резвы ноги», а также заключительная сентенция: «Всяк-то, братцы, на веку женится, А не дай бог женитьбы той Алешиной» — составляют итог былины «Добрыня и Алеша» и повторяются с небольшими вариациями во всех вариантах.
Благополучный итог разрешения конфликта в былине «Добрыня и Алеша», несмотря на поучающие побои, показывает, что ядро конфликта Добрыни и Алеши — известный из Библии левират (архаическая брачная норма, согласно которой брат наследует от брата вместе с имуществом и жену) — забывается и требует разъяснения или добавления. Так, Доб-рыня, прощаясь с женой, предостерегает ее от выхода замуж за Алешу Поповича: «Алеша мне крестовый брат, А крестовый брат паче родного».
В записи А. В. Маркова от А. М. Крюковой этот запрет разъясняется:
«Не ходи же за Алешеньку Поповиця, За того ли братёлка крестового;
У нас заповедь с им-то была положена:
Шьто не делать-то нам шьтобы на зло-то нам, Ни ему шьтобы на зло-то, ни мне ёму».
В тематической подборке текстов в издании «Литературные памятники» помещена былина «Добрыня и Алеша», записанная А. Ф. Гильфердингом в 1871 году от Никифора Прохорова. Там рассказывается о бое Добрыни Никитича и Алеши Поповича, где герои после боя, по предложению Ильи Муромца, побраталися. Причина боя была в том, что Илья хвалит Алешу: «Спасибо ти, Олеша, за своё стоишь». Добрыню возмутила фальшивая надпись на замке шатра: «Как кто в шатёр сюды не зáходит, тот из шатра да жив тут не в ´ ыходит»; «А я хочу-то жив да повытти есть». Илья одобрил Добрыню: «Спасибо ти, Добрыня, на чужом дому смело пóступашь». И добавил:
А назовитесь вы да братьями крестовыма,
А лучше вы крестамы побрáтайтесь.
А ён их улест´ил тут, угóворил,
Да тут оны не нáчали больше биться, ратиться, Укротили сердцё богатырское.
Как тут оны крестамы побрáтались, Назвалися братьямы крестовыма: Добрынюшка назвался да бóльшой брат, Алёшенька назвался меньшóй ёму (Н. Прохоров).
В тексте, записанном А. Ф. Гильфердингом в 1871 году от уроженца Выгозера Батова Алексея Виссарионовича, Добры-ня, услыхав от жены заключительную формулу: «А й не тот мне муж, который стоит подл ´и меня, А й тот мне муж, который стоит супротив меня» — говорит обманувшему его семью известием о его смерти:
— А й же ты, Олёшенька Поповинец!
Кабы не братец ты был мне крестовыя,
А й тропнул бы я тя ведь о печнóй столоб,
А й только бы ты жив бывал.
А й так сделаю я тебе увяжечку
Ради братца крестового (от А. В. Батова).
Финальная тенденция к примирению конфликтных сторон прослеживается и в записи А. В. Маркова от А. М. Крюковой. Добрыня подает своей жене «цяру меду сладкого», кладет туда свой золотой перстень и говорит ей:
«Уж ты пей-ко, Настасьюшка, цяру всю до дна, Ты найдешь в этой цяроцьки, бывать, добра». Выпивает Настасьюшка меду сладкого;
Прикатился к Настасьюшки золотой перстень. Как брала-то она перстень-от во праву руку — Ишше перстень Добрынюшки все Никитиця. Ишше тут ведь Настасьюшка обрадела же Как скакала она церез дубовый стол, Обняла она Добрынюшку за белу шею, Цёловала его в уста сахарныя:
«Как не той мой жених-от — за столом сидит, Ише тот-от мой муж-от, где у стола стоит». Говорит тут Добрынюшка таковы реци:
«Не дивлю-ту, Настасьюшка, твоей глупости».
Она пала Добрынюшки во резвы ноги:
«Ты прости меня в вины, прости виноватую!»
«Я дивлю-ту тольки князю-ту со княгинею:
Ишше князь от Владимир-от у меня сватом был, Да княгиня-та Опраксея-то была свахою, Не прощщу тебя, брателка крестового:
Ты хотел же у жива мужа жену отнять, Ты пецелил мою-ту да родну матушку; Проливала она-то горюци слезы».
Он ведь взял-то Настасьюшку за белу руку.
Ишше обнял Илья-то Олешеньку Поповиця: «Помиритесь-ко, братьици крестовыя, Вы крестовы, вы братьици названыя!
Ты поди домой, Добрынюшка, с молодой женой,
Ты поди-ко к своей матушке родимой, К цесной вдовы Омельфы Тимофеевны».
Первоначально Добрыня покидает мать и жену на 12 лет. За это время проходит два срока: один (6 лет) назначен самим Добрыней, а второй срок (6 лет) — взят добровольно Настасьей:
Отвечала Настасья Никулична:
«Я исполнила заповедь мужнюю, Я ждала Добрыню цело шесть годов, Не бывал Добрыня из чиста поля: Я исполню заповедь свою женскую, Я прожду Добрынюшку другую шесть годов Да успею я и в ту пору замуж пойти».
В это время выходит со своими лживыми известиями Алеша Попович, и Настасья Никулична, склонясь на уговоры княжеской семьи, нехотя идет за Алешу. А мать Добрыни плачет о смерти сына и не верит добрым вестям. Поэтому, когда он возвращается домой, она его не узнает: уезжал он в «платьице цветном», а вернулся в платье «лосином, зверином», платьице его поистратилось, белое лицо «зарудилось», волосы отросли, шапка порвалась, сапоги выносились. Трижды не узнает мать свое дитя, но почувствовав, что посланный от Добрыни человек, видно, неспроста так хорошо знает о его платье, она отдает скоморошью одежду, «лапотки шелковые» и «гусли яровчатые» самому просителю. В том случае, если Добрыня приходит открыто и не скрывает, кто он, она узнает его по «знадебке», знаку на его теле. Знак на теле — это характерное условие узнавания в сюжете возвращения мужа после долгого отсутствия. В «Одиссее» Гомера такую роль играет рубец на ноге Одиссея — след от раны, полученной юным Одиссеем во время охоты на вепря: этот рубец узнает его няня Эвриклея, когда омывает ему ноги (τ 375— 507), и этот же рубец показывает Одиссей Эвмею и Филой-тию (φ 199—235). Мать Добрыни, стремясь узнать своего сына, указывает на примету:
«А у моего милого у дитятка
Была-то ведь знадёбка родимная».
В былине, записанной от И. П. Сивцева Гильфердингом повторно после Рыбникова (№ 178), происходит между Доб-рыней и его матерью такой разговор:
Говорит Добрыня матери, ответ держит: — Государыня ты моя, родна матушка! Попомнишь ли, вспомянуешь ли:
У Добрыни на правом лице три знамени было? (И. П. Сивцев, 64, 139—142).
В былине 65 упоминается Добрынино «знамечко»:
Ай же Добрынина матушка!
Како у Добрыни было знамечко? — Знамечко было на головушке, Кружок-от был да с копеечку. — Погляди-ко у меня на головушке. Поглядела у калики на головушке, Кружок-от был да с копеечку.
Говорила она таково слово:
— Роспекло-то севодни красно солнышко, Осветит-то севодни млад светёл месяц
(Гусев Харлам Андреевич, запись Гильфердинга III, 292, 127—136).
В старине 67 говорится:
Не узнала тут Добрыни родна матушка. — Еще помнишь ли, мать, помнишь ли — У Добрыни на правом плече три знаменны были. Тут признала Добрыню родна матушка
(67, запись С. Никитиной от Александры Васильевны Кожевниковой, 94—97).
В старине 70 идет разговор о «приметоцьке» у Добрыни:
Он пал ведь как матери во резвы ноги: «Ты кормилиця да моя матушка!
Каки жа были у твоёго-то серьдецнёго дитятка, У Микиты-то да у Добрыниця, Каки были его приметоцьки?»
— У моёго-то Микитушки Добрынюшки
Была у его да всё приметоцька:
Що на право-то руки да на лопатоцьки Было цёрно-то да всё питёнышко. — Показал он ей да всё приметоцьку
(87—96, записано от В. Чащиной А. Д. Григорьевым, I, № 73 (109)).
Для полноты содержания и богатства эпизодов важно также введение дополнительных персонажей: врагов Добрыни (Невежи, Бабы Яги, черногрудого короля) и его друзей (За-олешанина — посла Добрыни к его матери), встречи его с каликой Раньжей и др. Благодаря контаминациям и небольшим вставкам старина «Добрыня и Алеша» в эпической традиции эволюционирует к жанру эпопеи. Мы не разделяем мнения большинства эпосоведов о предпочтении короткой былины. Напротив, большой объем, приближающий старину к античному эпосу, создает здесь промежуточные формы, сопоставимые с авторскими подражаниями, типа «Песен Оссиана» Макферсона или «Краледворской рукописи» В. Ганки.
Иную трактовку сюжета старины в плане ее приближения к деловому пересказу видим в тексте «Добрыня чудь покорил» из сборника Кирши Данилова, который датируется поздним временем (XVIII век) и звучит очень современно. Хотя в последнем издании («Литературные памятники») запись сопровождается нотировкой, в примечаниях Ю. И. Смирнова и В. С. Смолицкого к былине указывается, что «судя по сбитому стиху, текст не пелся, а сказывался» (425). Этой сухой прозаической манере воспроизведения текста отвечает краткий, как бы стяженный пересказ былинного сюжета об исполнении Добрыней поручения князя, в котором уже есть Сибирь, черкасы пятигорские, калмыки и другие языки. Начинается старина традиционным зачином:
В стольном городе в Киеве, Что у ласкова сударь-князя Владимера Было пирование-почестной пир, Было столование-почестной стол На многие князи и бояра
И на русския могучия богатыри.
А и будет день в половине дня,
И будет стол во полустоле, Владимер-князь распотешился, По светлой гридне похаживает, Черны кудри расчесывает, Таковы слова поговаривает: «Есть ли в Киеве тако(й) человек
Из сильных-могучих богатырей, А кто бы сослужил службу дальную, А и дальну службу заочную, Кто бы съездил в орды немирныя И очистил дороги прямоезжия До моего тестя любимова,
До грозна короля Этмануила Этмануиловича; Вырубил чудь белоглазую, Прекротил сорочину долгополую, А и тех черкас петигорскиех
И тех калмыков с татарами, Чукши все бы и алюторы 46 ?»
Втапоры большой за меньшего хоронится, А от меньшева ему, князю, ответу нет. Из того было стола княженецкова, Из той скамьи богатырские Выступается удал добрый молодец, Молоды Добрыня Никитич млад: «Гой еси, сударь ты мой дядюшка, Ласково со(л)нцо Владимер-князь!
Нет у тебя в Киеве охотников, Быть перед князем невольником. Я сослужу службу дальную, Службу дальную заочную, Съезжу я в орды немирныя, Очищу дороги прямоезжия До твоего тестя любимого, До грозна короля Этмануила Этмануиловича, А и вырублю чудь белоглазую, Прекрочу сорочину долгополую, А и тех черкас петигорскиех И тех калмыков с татарами, Чукши все и алюторы?» (289 — 290).
Добрыня идет домой и просит благословения у матери:
«…Ехать в дальны орды немирныя, Дай мне благословение на шесть лет, Еще в запас на двенадцать лет!»
Говорила ему матушка:
«На кого покидаешь молоду жену, Молоду Настасью Никулишну? Зачем же ты дитетка, и брал за себе? Что не прошли твои дни свадебные, Не успел ты отпраз(д)новати радости своей, Да перед князем расхвастался в поход итить?» (290).
Но Добрыня понимает миссию князя как службу государственную. Государственным служением он считает и свою службу богатыря:
«А ты гой еси, моя сударыня-матушка, Честна вдова Афимья Александровна! Что же мне делать и как же быть?
Из чево же нас, богатырей, князю и жаловати?» (290).
Чувство долга распространяется у Добрыни и на семью, он заботится о том, чтобы жена не осталась сирой в его доме:
«Жди мене, Настасья, шесть лет,
А естли бо не дождешься в шесть лет, То жди мене в двенадцать лет. Коли пройдет двенадцать лет, Хоть за князя поди, хоть за боярина, Не ходи только за брата названова, За молода Алешу Поповича!»
И поехал Добрыня Никитич млад
В славныя орды немирныя.
А и ездит Добрыня неделю в них,
В тех ордах немирныех, А и ездит уже другую, Рубит чудь белоглазую И тое сорочину долгополую, А и тех черкас петигорскиех А и тех калмык с татарами, И чукши все и алюторы, — Всяким языком спуску нет. Очистил дорогу прямоезжую До ево-та тестя любимова, До грознова короля Этмануила Этмануиловича (290 — 291).
Исполнив свой богатырский подвиг, Добрыня едет в Киев. Старые люди переговаривают:
«Знать-де полетка соколиная,
Видеть и пое(з)дка молодецкая — Что быть Добрыне Никитичу!» (291).
Настасья ждет Добрыню уже двенадцать лет.
Посватался Владимер-князь стольной киевской А за молода Алешуньку Поповича.
А скоро эта свадьба учинилася,
И скоро ту свадьбу ко венцу повезли (291).
При встрече с Добрыней мать плачет и говорит:
«Гой еси, мое чадо милая,
А твоя ли жена замуж пошла За молода Алешу Поповича, Ныне оне у венца стоят» (292).
Добрыня идет к князю отчитаться о поручении, о двенадцатилетнем подвиге. Князь со всей свадьбой вернулся из церкви и похвалил Добрыню:
«Исполать тебе, добрый молодец,
Что служишь князю верою и правдою!» (292).
Но Добрыня все-таки обращает к Владимиру укорительное слово:
«Гой еси, сударь мой дядюшка, Ласково со(л)нцо Владимер-князь! Не диво Алеши Поповичу, Диво князю Владимеру — Хочет у жива мужа жену отнять!» Втапоры Настасья засавалася, Хочет прямо скочить, избесчестить столы. Говорил Добрыня Никитич млад:
«А и ты душка Настасья Никулишна!
Прямо не скачи, не бесчести столы, —
Будет пора, кругом обойдешь!»
Взял за руку ее и вывел из-за убраных столов, Поклонился князю Владимеру,
Да и молоду Алеши Поповичу
Говорил таково слово:
«Гой еси, мой названой брат Алеша Попович млад!
Здравствуй женивши, да не с ким спать!» (292 — 293).
Добрыня Никитич проявляет еще раз свое «вежество» и остроумие, и этим заканчивается старина.
О художественном характере исполнения былин и русского сказительства в целом можно лучше судить по старинам среднего объема. Такие старины исполняла Настасья Степановна Богданова (1860—1937), «одна из выдающихся носительниц фольклора в ХХ в., настоящая большая артистка, с широким и разнообразным репертуаром», — так писала о ней Анна Михайловна Астахова в биографической статье в сборнике «Былины Севера»47. Начинается характеристика сказительницы и вопленицы цитатой из С. А. Лосева в «Олонецких губернских ведомостях» (№ 81):
Тяжелая крестьянская жизнь наложила на ее лицо свою печать, тем не менее голос вопленицы и в настоящее время блестит остатками того, что называется колоратурным сопрано, регистр голоса ее, можно сказать, очень коротенький, но и эти остатки голоса заставили нас предположить, что в годы молодости Степановна обладала сильным и богатым колоратурным сопрано… Мелодия, исполненная Степановной, полна неподдельного чувства, глубокой думы, думы исторической, а когда две первые строки соединяются в одну сложную, получается такая художественная композиция, что положительно заполняет сердце 48 .
В 1906—1908 годах Н. С. Богданова была уже известной сказительницей и вопленицей, ездила по приглашению на свадьбы и праздники специально для сказывания былин и исполнения причитаний. Ее тексты были записаны в книгах Н. Шайжина об олонецком фольклоре и в сборнике Вс. Миллера «Былины новой и недавней записи» (М., 1908). Выступала она в Петрозаводске, в школах и в других учреждениях. В 1911 году ездила по вызову в Петербург. В 1927— 1929 годах была в Москве и в Ленинграде, где от нее записывали разные тексты. В 1931—1932 годах Н. С. Богданову записывала в секторе фольклора в Институте антропологии, археологии и этнографии АН СССР А. М. Астахова:
Это была очень живая, быстрая в движеньях и разговоре, маленького роста старушка с живыми молодыми глазами, пересыпающая свою речь пословицами и поговорками. Она держалась с чувством собственного достоинства, в начале знакомства даже несколько сурово. «Степановна — баба гордая», так отзывались о ней в деревне. Она была очень самолюбива и знала себе цену. Критически относилась к другим сказителям, например к П. И. Рябинину <…>
Из всех видов фольклора, которыми Н. С. владела, она больше всего любила былины, к содержанию которых относилась с глубокой верой. Тексты былин, так же как и песен, знала твердо <…>. Владела несколькими напевами и исполняла былины артистически. Пела она всегда в определенной позе, подперев щеку правой рукой, а правый локоть — левой рукой и слегка покачиваясь. Отдельные места комментировала <…> Настасья Степановна, несомненно, принадлежит к лучшим хранителям эпической традиции и к классическому типу исполнителя, овладевшего приемами высокого эпического мастерства и творчески развивающего усвоенное им наследие 49 .
Попробуем показать творческое мастерство Н. С. Богдановой на примере разбора ее былины «Добрыня и Алеша». «Эту былину на всех концертах пела, самая она любимая была»50. Былина о Добрыне Никитиче и о Настасье Нику-личне в ее исполнении составила 593 стиха.
Начинается старина с характеристики пира князя Владимира. Подробно описывается поведение пирующих, их бахвальство (Ст. 1—27). Один Добрыня Никитич ничем не хвастает. На вопрос Владимира, почему богатырь не нашел, чем похвалиться, Добрыня отвечает, что ему нечем хвастать, «только есть одна по ндраву молодá жена» (Ст. 28—44). Реакция пирующих завистников на его ответ такая: послать До-брыню на «зáставо». Они подговаривают Владимира, при этом не забыв и о своей корысти: «Щобы смело нам везди выезжать будéт» (Ст. 45—67). Владимир отправляет Добры-ню на двенадцать лет.
Добрыня расстроен, руки у него дрожат, ноги подгибаются, тем не менее, он соблюдает свое «вежество»: кланяется князю Владимиру «в осóбину». Только покинув княжеский терем, он плачет, крестится и, не подходя «ко своей палаты белокаменной», идет прямо в «стойла лошадиная» (Ст. 68—90).
Мать сидит под «косищатым окошечком» и смотрит «сквозь хрустальное стекóлушко». Видит, что Добрыня идет с пира не весел, не радостен, уронил свою голову, «утопивши очи ясныя во матушку сырý земл´ю. Изменивши у ево личко белое». Мать советуется с Настасьей Никуличной: «К нам што-то во терéм не является», и та просит мать бежать, «на широкий двор», чтобы все узнать. На дворе мать видит сына, который седлает коня. Заметим, что Добрыня, лишь только дали ему поручение, сразу бросается его выполнять. Мать спрашивает его, что не понравилось ему на пиру, и просит его зайти в терем: «Там скучаёт-ждёт Настасья свет Нику-лична» (Ст. 91—132).
Добрыня жалуется матери на свою несчастную судьбу. По мнению некоторых исследователей, жалоба богатыря матери здесь не на своем месте и заимствована из былины «До-брыня со Змеищем Горынычем». Но если иметь в виду психологическое содержание описанной выше сцены: завистливую реакцию пирующих и отправку Добрыни на заставу на 12 лет, против чего будет возражать и матушка, — то эпизод сетования на судьбу в разговоре богатыря с матерью оказывается здесь абсолютно оправданным (Ст. 133—172).
Добрыня просит мать сказать Настасье Никуличне, что если она хочет увидеть его перед отъездом, пусть «сейчас идёт»:
Скорёшенько бежала на широкий двор, Увидала там Добрыню Никитьича, Он сидит на добрóм коне.
Подбегала она к нему скорёшенько, Забегала с лица да бóку правого, От той ли от правóй стремяночки, Смотрела на него прямёшенько, Говорила она ему милёшенько (Ст. 173—194).
Добрыня наказывает жене: «Уж ты год не жди, да и другой не жди, На третьей год в окошечко не взглядывай». Он предвидит приезды «немилых гостей», которые «привозить будут вести нехорошие»:
Частёшенько будут к вам поéзживать, Близёшенько будут к вам подхаживать, В очах будут обманывать, Замýж тебя будут подсватывать.
Ты не верь, Настасья Никулична, Ни князям, ни бояринам, Ни могучиим богáтырям.
А как не приеду если я из чистá пол´я, На исходе бýде времени двенадцать лет, Ты частёшенько в зелёный сад похаживай <…> Как прилéтит голуб со голубкою, С куста нá куст будут перелётывать, Промеж собой будут возгуркивать, Що нет живá Добрыни Никитьича, Отрублена буйная головушка, Он головушкой лежит под ракитов куст, Резвыма ногама ко Пущай-рек´и, Сквозь жёлтыя кудёрышки трава растёт, Ты потом, моя Настасья свет Никулична Хоть вдовой живи, хоть замýж поди, Хоть за князей поди, хоть за бояринов, Хоть за могучиих богáтырей, Столько не ходи за смелого Олёшу Поповича, За женьского надсмешника (Ст. 211—240).
Тут Настасья Никулична падает «о матушку сырý зем-л´ю». «Приклонился тут Добрыня свет Никитьевич, Тут про-щалися они да с молодой женой» (Ст. 241—250).
Добрыня уезжает на заставу. Жена «видела Добрынюшка сядучи, Ни видала с широкá двора поедучи». Далее следует поэтическое описание времени: «А неделя за неделю, быдто дожь дожжит, Месечи идут, как ручей бежит, А годики идут, как река шумит, Прошло тому времячки три года, Не видно Добрыни из чиста пол ´ я» (Ст. 251—265).
Матушка Добрыни приходит к Владимиру князю и просит возвратить ее сына из заставы (Ст. 266—280).
Отвечал князь стольне-кеевской: «Приказанное им исполнять надо».
И пошла от князя, горько-тошно заплакала.
Уж прошло тому времячки шесть годов, Не видно Добрыни из чистá пол´я» (Ст. 281—285).
Князь Владимир дает поручение богатырям:
«Хто желает съездить в чистó полё, Хто желает о Добрыне Никитьиче узнать, Есть ли, жив ли Добрыня Никитьич или нет?» Пожелал-то да Олёша свет Попович Съездить в чистó полё.
Видел не видел Добрынюшку, Говорит князю Владимиру: «Що нет живá Добрыни Никитьича» (Ст. 288—295).
Владимир велит передать эту весть семье Добрыни Никитича: «Пусть нé ждут и в окошечко не погл´ядают». Алеша приезжает, Настасьи Никуличны дома нет, он подробно рисует картину, как лежит на поле боя Добрыня Никитич: «Тут ево родитель матушка Горько-тошно порастýжилась» (324—325). Дальше идет изображение времени, как образ продолжающихся слез матери Добрыни:
Неделю за неделю, как дожь дожжит, Месяцы идут, как ручей бежит, А год за год, как река шумит, Прошло уж тому времячки девять лет, — Не видно Добрыни из чистá пол´я (Ст. 326—330).
Сватовство Алеши Поповича. «Как прошло тому времяч-ки девять лет», «тут стал частёшенько Олёша поезживать, Стал близёшенько к Настасье подхаживать, Стал милёшень-ко с ей разговаривать И в очах да стал омманывать, Замýж стал éю посватывать. <…> Тут приехали князь со княгинею <…> Приехали сватать Настасью свет Никуличну». Мать Добрыни вежливо встретила князя с княгиней: «Княгиню подарила косыначкай, Князя подарила полотенчиком». А Алеше сказала: «Уходи прочь, кабацкая подпóрина, Отходи от меня, табашная замóрина». И гости уехали (Ст. 301—359).
Второе сватовство Алеши Поповича. Приближается конец двенадцатилетнего срока:
Не видно Добрыни из чистá пол´я.
Опять приехал князь,
Опять снова со княгинею
И с Олёшей опять Поповичем,
Опять сватать Настасью Никуличну.
Не жалает Настасья Никулична Итти совсем за ево во замужество, Не идёт охотою, берут теперь неволею» (Ст. 361—369).
Добрыня, услышав предвещание голубя с голубкою, садится на коня, причем не говорится, что он седлал его: «значит как на зáставы он был, так у границы это, ну и не распрягал ево, было по-форменну. А то пелось бы, что седлал коня» (комментарий сказительницы. — Т. М .), — и едет к Киеву (Ст. 375—398).
В это время его матушка сидит и смотрит «сквозь хрустальное стеколышко» «далёко во чистó полё», роняет слезы, вспоминает «своего сына рóдного». Видит из чиста поля на-ездничка: «Бела одёженька на ём грязнёшенька, Бело личень-ко чернёшенько, На лошадушке сидит, будто лесóвой зверь». Входит Добрыня в палату, здоровается с матушкой и просит одежду Добрынину и его гусли. Мать сначала не дает одежду и гусли: «Пусть хоть мне гусёлышки на погляденьице, Пусть одёжа хоть сына на посмотреньице. Туды не пропустят тебя незваного, Везде там каравул стоит». Добрыня отвечает так, как обычно отвечают богатыри, когда следуют своей воле: «Дашь одёжу — возьму, и не дашь — возьму», — и собирается на свадебный пир (Ст. 400—460).
Добрыня прошел все «каравулы», сел за печку за муравую. Он скромен: «Куды посадитя, я и там сижу, Что достанется, я и ем и пью». Он просит позволения сыграть в «яровчата гусёлышка». На пиру игра всем понравилась: «Стоят ества сахарнии неéдяные, Стоят чары зеленá вина налитыя, непи-тыя». Говорит княгиня обрученная:
А во едаки во гусельки прежней муж мой играл. Пригласите-ка незнаемого мóлодца Ко столу его ко чéсному.
Пусть садится, гди ему место ндравится.
Угощати его как и всих гостей (Ст. 493—508).
Приглашает его за стол и князь Владимир: «Садись к столу ко чéсному, Где тиби место ндравится». Добрыня отвечает: «Я желаю сесть насýпротив Княгини обручёнаей» (Ст. 460— 515).
Добрыня берет «чару зеленá вина», опускает туда со своей руки «золочён перстéнь» и говорит:
«Я желаю не пить эту чару зеленá вина,
А поднести княгини обручёныей.
Ну вот пей же, княгиня обручёная,
Пей же чару зеленá вина.
Если пьёшь до дна, так жалаешь добра,
А не пьёшь до дна — не видать тебе стáра добра» (Ст. 516—529).
Заметим этот акцент на словах: «стáра добра». В них все воспоминание Добрыни о прошлой счастливой жизни с женой и вся тоска по ней.
Узнавание Добрыни женой. Жена пьет до дна и видит на дне чаши «злачён перстéнь», которым они с Добрыней обручались, и говорит: «Не тот мой муж, котор со мной сидит, А тот мой муж, котор на меня глядит». Тут Настасья Никулич-на вспоминает тяжелые годы в конце уже безнадежного ожидания:
А которы буйны ветрушки завеяли, Откуль красно солнышко зась´яяло На мою на млáдую головушку. Чево совсим я теперь не надеялась, Што мой-то муж на сём свети объявится. Вскочила через столики дубовыя, Через есвушки сахарния, И через питья скочила медвяныя, И через чарочки налитыя, непитыя, Брала Добрыню за белý рукý, Целовала во уста ево сахáрния, Горько-тошно тут она заплакала: «Ай же ты, Добрынюшка Никитинич, Уж ты в этоей вины не прощай меня».
Добрыня ей отвечает: «Я в этой-то вины прощу тебя, Що не охотою идёшь, берут неволею» (Ст. 530—556).
Наказание — поучение Алеши Поповича:
Как хватал Олёшу за желт´ы кудры, Выдергал со стола ево со чéсного, Как стал по терему Олёшеньку потаскивать, Стал гусёлкамы Олёшу поколачивать (Ст. 558—561).
Князь Владимир просит за Алешу: «Оставь ещё хоть ево во живности». Любопытно, что Алеша не теряет своей смелости и напора:
Хоть и битай Олёша, только смелой был,
Садился ко столу ко чéсному,
Приклонил свою буйну голову,
Говорит: «Всякóй-то на свити поженется,
Да не всякóму женитьба удавается,
А хуже нету Олёши Поповичу,
Верно столько-то Олёшенька женат бывал,
Верно столько-то Олёшенька и с женой живал» (Ст. 566—573).
Добрыня Никитич обращает к нему и социально-обличительную речь: «Я двенадцать лет выстоял на зáставы, А [он] што поднял только с омману? У жива мужа жену отнял!» (Ст. 557—577).
Добрыня никого не благодарит и никому не кланяется. «Нарушился ихний тут славный пир. Выходил он тут со палаты белокаменной Со своей-то женою с Настасьей Нику-личной. Увидала родитель ево матушка, Що идёт уж он со своёй прежней молодой женой (ударение на прежней. — Т. М. ), Бежала скорее навстрету на широк двор Встречать своих дорогих гостей». Добрыня берет свою матушку на руки и несет ее «во высóк терем».
Стали жить да быть с Настасьей Никуличной, Лучше старого стали жить, лучше прежняго, Стали жить да быть, да век корóтати (Ст. 578—593).
В заключение приведем характеристику «Былины о Доб-рыне и неудачной женитьбе Алеши Поповица», которую дал в своей книге о русском героическом эпосе В. Я. Пропп:
Песня пронизана жизнерадостностью и моральным здоровьем. Занимательность основного повествования и его быстрое развитие, разнообразие характеров и их столкновений, соединение моментов суровых и величественных с трогательными и комическими, благополучный конец, при котором правда торжествует, а зло носит не настолько резкий характер, чтобы затрагивать основные нравственные устои и требовать сурового наказания, и может быть наказано сравнительно легко путем насмешки, — все это объясняет, почему эта былина так широко распространена и так любима народом, хотя другие былины и превосходят ее глубиной и значительностью замысла» [18, 286].
Примечания
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Античные жанры в развитии русской литературы XIII—XIX вв.» (проект № 13-04-00250а).
-
1 По Аристотелю, «вся поэма полна узнаваний» (Poet. 1459 в).
-
2 В первый раз статья была опубликована в научном сборнике, посвященном Сергею Федоровичу Ольденбургу к пятидесятилетию научно-общественной деятельности 1882—1932. Л., 1934. С. 509—522. В немецком переводе статья была напечатана в журнале: Philologus. Zeits-chrift für das klassische Altertum. 1934. B. 2. 89. H. 3. S. 261—274. «Einige märchen Parallelen zur Heimkehr des Odysseus» (Некоторые сказочные параллели к возвращению на родину Одиссея).
-
3 Poet. XXIII, 1459 a 30—38, 1459 в 1—9.
-
4 См.: Karadžić V. S. Srpske narodne pjesme. 4 vol. Leipzig, 1823—1833. См. также: [45], [39].
-
5 Цит. по: [20, 375].
-
6 Герцен А. И. Собрание сочинений: в 30 т. Т. V. М.; Л., 1955. С. 24.
-
7 Цит. по: [20, 369]. См. работы В. Г. Белинского: Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. Т. V. М., 1954. С. 289—450; Т. IV. C. 381, 88.
-
8 Narodne pĕsni ilirske, koje se pĕvaju po Štajerskoj, Kranjskoj, Koruškoj i zapadnoj strani Ugarske. Skupi i na svet izdao Stanko Vraz. Zagreb, 1839. S. XVII—XVIII. Большая часть его записей и этнографических наблюдений осталась в рукописи.
-
9 Čelakovský F. L. Slovanské národní písnĕ. D. I—III. Praha, 1822—1827.
-
10 См. разбор «Отголосков» в работе [37]. Впечатления славян Европы об опубликованных памятниках русского фольклора анализирует М. К. Азадовский [1, 293—328]. Автор указывает также некоторые монографии на данную тему: [16], [6], [28].
-
11 Онежские былины, записанные Александром Федоровичем Гиль-фердингом летом 1871 года. СПб., 1873.
-
12 Беломорские былины, записанные А. В. Марковым. М., 1901; Ончу-ков Н. Е. Печорские былины. СПб., 1904; Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899—1901 гг. Т. I. М., 1904; Т. II. Прага, 1939; Т. III. СПб., 1910; Сказки и песни Белозерского края. Сборник Б. М. и Ю. М. Соколовых. СПб., 1915; Былины Пудожского края / подгот. текстов, статья и коммент. Г. Н. Париловой и А. Д. Соймонова. Петрозаводск, 1941; Былины Севера / записи, вступ. ст. и коммент. А. М. Астаховой. М.; Л., 1938—1951. Т. 1—2; Былины Печоры и Зимнего берега: новые записи / изд. подгот. А. М. Астахова и др. М.; Л., 1961; Беломорские старины и духовные стихи. Собрание А. В. Маркова / изд. подгот. С. Н. Азбелев, Ю. И. Марченко. СПб., 2002.
-
13 См.: [42, 359 и след.], [32, 59 и след.].
-
14 Боккаччо Дж. Декамерон. М., 1970. С. 637.
-
15 Там же.
-
16 Там же. С. 644.
-
17 Там же. С. 645.
-
18 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 19 т. Т. 13. М., 1996. С. 3.
-
19 См.: [31].
-
20 Выписка из Женгене впервые была опубликована в кн.: Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935. С. 489. Продублировано издательством «Воскресенье» (Т. 17. С. 458—462). Опубликовано в письме к Вяземскому (Там же. Т. 13. С. 184).
-
21 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 4: поэмы. Сказки. Л., 1977. С. 444. Здесь же на стр. 231—233 опубликованы отрывки из черновика поэмы.
-
22 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 19 т. Т. 17. М., 1997. С. 458—462.
-
23 Там же. Т. 5. С. 155—156.
-
24 См. также: [9, 84—96], [12, 117—148].
-
25 Подробнее см.: [10].
-
26 Подробнее см.: [3].
-
27 Подробнее см.: [25, 67].
-
28 «Одиссея» Гомера в переводе В. Жуковского. Песнь 17. Ст. 316—317.
-
29 Там же. Ст. 301—305, 326—327.
-
30 См., например: Аполлодор. Мифологическая библиотека. III, 10, 9. Эпитома. VII, 1—38. Павсаний. III, 12, 2.
-
31 Frings Theodor. Die Entstehung der deutschen Spielmannsepen. Leipzig, 1951; Frings Theodor, Braun Max. Brautwerbung. T. I. Leipzig, 1947. См.: [11, 113].
-
32 Боккаччо Дж. Декамерон. С. 645.
-
33 Богатырев П. Г. Эпос славянских народов. М., 1959. С. 388—389.
-
34 Там же. С. 389.
-
35 Там же. С. 427—429.
-
36 Там же. С. 192.
-
37 Там же. С. 344—345.
-
38 Сербские народные песни и сказки из собрания Вука Стефановича Караджича. М., 1987. С. 285.
-
39 Там же. С. 288.
-
40 Там же. С. 286—287.
-
41 Смирнов Ю. Песни южных славян. М., 1986. С. 282.
-
42 Там же. С. 388.
-
43 О гомеровских мотивах из «Одиссеи» см.: [29].
-
44 Добрыня Никитич и Алеша Попович / изд. подгот. Ю. И. Смирнов и В. Г. Смолицкий. М., 1974. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием страницы в круглых скобках.
-
45 См. сноску 6: Кирша Данилов , стр. 9—16; Григорьев , I, № 88 (124) — запись от М. Д. Кривополеновой.
-
46 Алюторы (алюторцы) — наименование одной из групп коряков, населявших обширную территорию Камчатского перешейка.
-
47 Былины Севера. Т. 2: Прионежье, Пинега и Поморье / подгот. текста и коммент. А. М. Астаховой. М.; Л., 1951. С. 45.
-
48 Там же.
-
49 Там же. С. 46—47.
-
50 Там же. С. 75. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с сокращением «Ст.» и указанием страницы в круглых скобках.
Список литературы Сюжет возвращения мужа на свадьбу своей жены в «Одиссее» Гомера, а также в славянском и русском эпосе
- Азадовский М. К. История русской фольклористики: в 2 т. -М.: Учпедгиз, 1958. -Т. 1. -479 с.
- Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований, в связи с мифическими сказаниями других родственных народов: в 3 т. -М.: К. Солдатенков, 1865-1869. -Т. 1. -1865. -808 с. -Т. 2. -1868. -800 с. -Т. 3. -1869. -816, VII с.
- Бартольд В. В. Турецкий эпос и Кавказ//Книга моего деда Коркута: Огузский героический эпос. -М.; Л.: Изд-во Академии Наук СССР, 1962. -С. 109-120.
- Богатырев П. Г. Некоторые задачи сравнительного изучения эпоса славянских народов. (Доклад на IV Международном съезде славистов). -М.: Изд-во Академии Наук СССР, 1958. -50 с.
- Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства: в 2 т. -СПб.: Д. Е. Кожанчиков, 1861. -Т. 1. -643 с. -Т. 2. -429 с.
- Горак Ю. Чешская этнография и ее европейское значение. -Прага: Орбис, 1946. -15 с.
- Гордезиани Р. В. Проблемы гомеровского эпоса. -Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1978. -395 с.
- Гринцер П. А. Древнеиндийский эпос. Генезис и типология. -М.: Наука, 1974. -424 с.
- Жирмунский В. М., Зарифов Х. Т. Узбекский народный героический эпос. -М.: Гослитиздат, 1947. -522 с.
- Жирмунский В. М. Следы огузов в низовьях Сыр-Дарьи//Тюркологический сборник/АН СССР, Ин-т востоковедения. -М.: Наука, 1951. -С. 93-102.
- Жирмунский В. М. Эпическое сказание об Алпамыше и «Одиссея» Гомера//Известия Академии Наук СССР. Отделение литературы и языка. -1957. -Т. 16. -Вып. 2. Март-апрель. -С. 97-113.
- Жирмунский В. М. Тюркский героический эпос. -Л.: Наука, 1974. -728 с.
- Зайцев А. И. Книга А. Б. Лорда «Сказитель» и гомеровский эпос//Лорд А. Б. Сказитель. -М.: Восточная литература РАН, 1994. -С. 343-349.
- Кирпичников А. И. Опыт сравнительного изучения западного и русского эпоса. Поэмы ломбардского цикла. -М.: Унив. тип. (Катков и Ко), 1873. -XII, 208 с.
- Лорд А. Б. Сказитель. -М.: Восточная литература РАН, 1994. -370 с.
- Неедлы З. Национальное движение славян в XIX веке//Вековая борьба западных и южных славян против германской агрессии. -, 1944. -С. 94-107.
- Основные проблемы эпоса восточных славян: сб. ст. -М.: Изд-во Академии Наук СССР, 1958. -348 с.
- Пропп В. Я. Русский героический эпос. -М.: Гослитиздат, 1958. -603 с.
- Путилов Б. Н. Русский и южнославянский героический эпос. Сравнительно-типологическое исследование. -М.: Наука, 1971. -315 с.
- Путилов Б. Н. «Сборник Кирши Данилова» и его место в русской фольклористике//Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. -М.: Наука, 1977. -С. 361-404.
- Славянский фольклор: сб. ст. -М.: Наука, 1972. -328 с.
- Смирницкая О. А. Поэтическое искусство англосаксов//Древнеанглийская поэзия. -М.: Наука, 1982. -С. 171-232.
- Смирнов Ю. И. Славянские эпические традиции. Проблемы эволюции. -М.: Наука, 1974. -264 с.
- Созонович И. П. К вопросу о западном влиянии на славянскую и русскую поэзию. -Варшава: Тип. Варш. учеб. окр., 1898. -XX, 568 с.
- Толстой И. И. Возвращение мужа в «Одиссее» и в русской сказке//Толстой И. И. Статьи о фольклоре. -М.; Л.: Наука, 1966. -С. 59-72.
- Толстой Н. И. Славянские верования//Славянская мифология. Энциклопедический словарь. -М.: Международные отношения, 2002. -С. 8-9.
- Тронский И. М. К вопросу о «формульном стиле» гомеровского эпоса//Philologica. Исследования по языку и литературе. Памяти академика Виктора Максимовича Жирмунского. -Л.: Наука, 1973. -С. 48-56.
- Францев В. А. Очерки по истории чешского Возрождения. -Варшава: Тип. Варш. учеб. окр., 1902. -473 с. (разд. пагин.).
- Banovič St. Motivi iz Odiseje u hrvatskoj narodnoi pjesni iz Makarskog primorja//Zbornik za narodni život i običaje južnih slavena. -K. XXXV. -Zagreb, 1951. -Pp. 191-198.
- Ellendt J. H. Drei homerische Abhandlungen. -Leipzig: B. G. Teubner, 1864. -113 p.
- Ginguené P. L. Histoire littéraire d’Italie. 14 vol. -Paris: Michaud frères, 1811-1835. -Vol. IV. -1812. -Pp. 167-183.
- Giornale storico della letteratura italiana. -Vol. II. -Torino: Ermanno Loescher, 1883. -483 p.
- Hermann G. De iteratis apud Homerum. -Leipzig, 1840. -45 p.
- Horrocks G. «Homer’s Dialect», in: A New Companion to Homer. -Leiden; New York; Köln: I. Morris & B. Powell, 1997. -Pp. 193-217.
- Janko R. The Iliad. A Commentary. -Vol. IV. Books 13-16. -Cambridge: Cambridge University Press, 1992. -XXV. -459 p.
- Lesky A. Mündlichkeit und Schriftlichkeit im homerischen Epos, Ges. Schrift. -München, 1966.
- Machal J. F. L. Čelakovskego. Ohlas písní ruských. Kritický rozbor vzhledem k národní poesii ruské//Listy Filologické. 1899. Ročnik 26, 200-212; 341-347; 432-437.
- Meylan-Faure H. Les Épithètes dans Homère. -Lausanne: impr. de G. Bridel, 1899. -133 p.
- Murko М. La poésie populaire épique en Yougoslavie au début du XX siècle. -Paris: Champion, 1929. -74 p.
- Parry M. L'épithète traditionnelle dans Homère. Essai sur un problème de style homérique. -Paris: Les Belles Lettres, 1928. -242 p.
- Parry M. Studies in the Epic Technique of Oral Vers-Making. I: Homer and Homeric Style. -Vol. 41. -Harvard Studies in Classical Philology, 1930. -Pp. 73-143; II: The Homeric Language as the Language of Oral Poetry. -Vol. 43. -Harvard Studies in Classical Philology, 1932. -Pp. 1-50.
- Rajna Pio. Romania. -VI, 1877.
- Schmitt R. Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit. -Wiesbaden: Otto Harassowitz, 1967. -375 p.
- Schmitt R. (ekd.) Indogermanische Dichtersprache. -Darmstadt: WBG, 1968 (Wege der Forschung). -Bd. 165.
- Talvj. Volkslieder der Serben metrisch übersetzt und historisch eingeleitet von Talvj. -Leipzig, 1824.
- Visser E. Homerische Versificationstechnik. Versuch einer Rekonstruktion. -Frankfurt a. M.; Bern; New York: Peter Lang, 1987. -367 p.
- Visser E. Formulae or single Words? Towards a new theory on Homeric versemaking//Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft. -14, 1988. -Ss. 21-37.
- Webster T. B. L. Von Mykene bis Homer. Anfänge griechischer Literatur und Kunst im Lichte von Linear B. -München, 1960. -403 p.
- West M. L. The Rise of the Greek Epic//Journal of Hellenic Studies, 108, 1988. -Pp. 151-172.
- West M. L. Homer’s Meter in: A New Companion to Homer. -Leiden; New York; Köln, 1997. -Pp. 218-237.
- Witte K. Zur homerischen Sprache. -Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1972. -187 s.