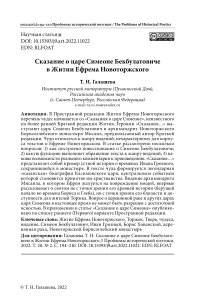Сказание о царе Симеоне Бекбулатовиче в житии Ефрема Новоторжского
Автор: Галашева Татьяна Николаевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
В Пространной редакции Жития Ефрема Новоторжского перечень чудес начинается со «Сказания о царе Симеоне», неизвестного по более ранней Краткой редакции Жития. Героями «Сказания…» выступают царь Симеон Бекбулатович и архимандрит Новоторжского Борисоглебского монастыря Мисаил, предполагаемый автор Краткой редакции. Чудо относится к жанру видений, нехарактерному для корпуса текстов о Ефреме Новоторжском. В статье рассмотрено несколько вопросов: 1) как построено повествование о Симеоне Бекбулатовиче; 2) какую функцию выполняет обращение текста к жанру видений; 3) каковы возможности реального комментария к произведению. «Сказание…» представляет собой пример устной истории о временах Ивана Грозного, сохранившейся в монастыре. В тексте чуда формируется легендарная «казанская» биография Касимовского царя, центральным событием которой становится принятие им христианства. Видение архимандрита Мисаила, в котором Ефрем жалуется на повреждение мощей, впервые рассказывает о святом не с точки зрения его древней истории (берущей начало во времена Бориса и Глеба), но с точки зрения его близости и доступности для жителей Торжка. Вопрос о деревянной раке и других дарах царя Симеона в настоящее время не может быть разрешен с достаточной ясностью. В приложении к статье «Сказание о царе Симеоне» опубликовано по списку раннего (Первого) варианта Пространной редакции.
Житие ефрема новоторжского, торжок, тверь, чудеса, видение, симеон бекбулатович, иван грозный, борис хованский, деревянная рака, новоторжский борисоглебский монастырь
Короткий адрес: https://sciup.org/147237934
IDR: 147237934 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.11022
Текст научной статьи Сказание о царе Симеоне Бекбулатовиче в житии Ефрема Новоторжского
«Сказание о царе Симеоне», посвященное пребыванию царя Симеона Бекбулатовича в Торжке, — одно из наиболее интересных чудес Ефрема Новоторжского. Это единственное чудо, которое можно отнести к жанру видений: за исключением чуда «о бездождии», все чудеса Ефрема рассказывают о внезапных болезнях и исцелениях. «Сказание о царе Симеоне» занимает важное место в истории Жития: оно отсутствует в первоначальной Краткой редакции, которая сопровождалась несколькими чудесами, и появляется только в Пространной, предшествуя всем остальным чудесам. Краткая редакция была написана от первого лица, ее автором вероятнее всего был архимандрит Новоторжского Борисоглебского монастыря Мисаил (1572–1588). В «Сказании…» описывается, как Ефрем явился в тонком сне архимандриту Мисаилу, — автор первоначального Жития, таким образом, предстает как один из героев чуда.
Риторическое вступление к тексту («Послушаите, братие и отцы…»)1 появилось, очевидно, при включении его в Пространную редакцию. Чудо традиционно начинается с обозначения исторической эпохи: во времена Ивана Грозного «казанский царь Симеон» принял крещение и был отпущен в Торжок и Тверь. В Торжке Симеон проникся любовью к Ефрему и задумал устроить ему деревянную раку. Нанятый им древоделец Гавриил Сопленок был небрежен и задел мощи преподобного. В полдень Ефрем явился архимандриту Миса-илу, назвал древодельца «невежей», передал «царю Симеону» просьбу нанять другого мастера. Симеон, услышав о явлении преподобного, не только сменил мастера, но и сделал крупные пожертвования в монастырь.
Биография крещеного Чингисида, царя Касимовского, посаженного царем Иваном Грозным на «великое княжение» в 1575–1576 гг. [Зимин], наиболее полно исследована в трудах А. В. Белякова [Беляков, 2011, 2022]. Чудо Ефрема Новоторж-ского, впрочем, рассказывает не об историческом Симеоне Бекбулатовиче, но о некоем «царе Симеоне», отчество которого оказалось утраченным. В «Сказании…» зафиксировано устное предание, о чем в конце произведения сообщает его автор: «Мнѣ же сия чюдеса многогрѣшному слышахъ тоя же Борисоглѣбския обители от священноинока именемъ Герасима». Композиция «Сказания о царе Симеоне» трехчастна: в первой и последней частях действует царь Симеон и повествуется об исторических событиях, и только в кульминационном фрагменте с явлением Ефрема действующим лицом является архимандрит Мисаил.
«Казанский царь» Симеон
Симеон именуется в тексте царем «казанским», — известно, что уже в источниках начала XVII в. возникло смешение двух крещеных Симеонов: последнего царя Казанского Симеона Касаевича (Едигер-Махмета) с его младшим современником царем Касимовским Симеоном Бекбулатовичем (Саин-Булатом) [Лилеев: 1–2, 22–25]. В «Сказании…», таким образом, создается легендарная «казанская» биография последнего. По отобранным во вступлении к чуду фактам о Симеоне Бекбула-товиче мы можем заключить, что в устной истории о нем имеет значение, а что остается опущенным или забытым. В «Сказании…» нет речи о московском княжении царя Симеона. Этот факт вытеснен другим: Симеон — инородец, мусульманин, веровавший в « вѣру проклятаго Бахмета », добровольно принявший крещение. Биография Симеона в «Сказании…» строится вокруг этого события, которое выглядит как победа Ивана Грозного не только над Казанью, но и над «царем Казанским». Торжок при таком построении выступает как награда за христианский выбор татарского царя. Повествование в целом нестройно, его отправной точкой является Борисоглебский монастырь: сначала сообщается, что Симеон прислан в Торжок, потом указывается, что по взятии Казани Симеон был приведен в Москву, затем снова отпущен в « Торжек и во Тверь ».
Обращает на себя внимание неизменное именование героя чуда «царем»: даже явившийся архимандриту Мисаилу святой называет его так: « Ты же скоро повѣждь се царю Симеону ». Хотя в писцовых документах использовалось официальное именование Симеона «великим князем Семионом Бекбулатовичем
Тверским» [Писцовые материалы Тверского уезда], именование «царем», по-видимому, сохранялось повсеместно: в «Отдельной книге» 1588 г. встречается указание на крестьян, «что косили на царя Симеона » [Писцовые материалы Тверского уезда: 611], то же именование царем сохраняется на надгробной плите Симеона Бекбулатовича [Беляков, 2011: 185]. В торжокских документах позднейшего времени (1686 г.) уже отражается «казанское происхождение» царя: «А данье те сосуды и покровца царя Симеона бывшаго казанского» [Писцовые и переписные книги Торжка: 164]. В более ранних описях Торжка 1624–1625 гг. именования царя Симеона «казанским» еще нет.
Во второй половине XVII в. было составлено Житие Мар-тирия Зеленецкого, в котором также есть чудо о царе Симеоне. Оно относится к 1595 г., в нем говорится о «царе Симеоне Бегбулатовиче бывшем казанском», действие происходит в Твери, проходя через которую Мартирий Зеленецкий исцелил сына царя Симеона. Однако это текст совсем иного рода, чем чудо Ефрема Новоторжского. Царь Симеон наделен психологическими характеристиками, представлен не только как христианин, но и как тревожащийся отец умирающего сына: «печален же быв царь»; «сам изыде во стрѣтение и прия <…> благословение»; «в толико отчаяние себе вверже, яко и жития своего ненавидѣти ему»; «усердно моляше, яко да возмет у него сребра доволно на создание каменнаго храма» [Крушельницкая: 100–105]. Сравнение текстов показывает еще отчетливее, что в чуде из Жития Ефрема Новоторжского Симеон является персонажем скорее действующим, чем чувствующим. В «Сказании…» прослеживаются некоторые особенности преданий об исторических лицах, отмеченные Н. А. Криничной, однако чертами «культурного героя» наделяется именно царь Иван Грозный, совершивший крещение Симеона [Криничная: 207], царская же сущность Симеона проявляется в мотиве «одаривания им своих подданных» [Криничная: 211]. Кроме того, царские черты обоих героев выражены в многократном повторении глагола «повелеть» при описании этих событий.
По заключению А. В. Белякова, в Торжке существовал двор тверского князя: не позднее 1593 г. «оттуда у Симеона украли посредством поджога значительное количество серебряной посуды, одежды и денег. Интересно, что среди похищенного значатся серебряные с позолотой часы» [Беляков, 2011: 177, 187–188]. В тверской двор Симеона Бекбулатовича входил боярин князь Борис Петрович Хованский [Беляков, 2011: 175], герой двух других чудес Ефрема Новоторжского. Любопытно, что речь в этих чудесах идет о двух противоположных намерениях князя. Первое «Чюдо преподобнаго отца нашего Ефрема о князѣ Борисе Хованскомъ» рассказывает о болезни князя, его желании принять иноческий образ и разделить имение: «… случися ему нѣкоторая болѣзнь <…> тогда начатъ упра-шатися в монастырь <…> и желаше во иноческий чинъ, абие же разочтетъ имѣние свое »2. Духовный отец князя, иерей Климентовской церкви Иоанн, отговаривает Бориса Хованского отдавать часть имения в Борисоглебский монастырь (« всуе отдаеши ») и за эти слова впадает в безумие. Во втором тексте, «Чюде преподобнаго отца нашего Ефрема о том же князѣ Борисе Хованском», вновь говорится о болезни князя, но на этот раз о его нежелании умирать и принимать иноческий образ: «… лежаше на одрѣ своемъ недугомъ отягченъ <…> во иноческий образ никтоже смѣяше его понудити без его велѣния »3. Чудо заканчивается покаянием и исцелением князя у раки святого. Таким образом, в Житии Ефрема Ново-торжского отразилось пребывание в Торжке не только царя Симеона, но и представителей его двора.
Главной же вотчиной тверского князя являлось с. Куша-лино, где, по сообщению Димитрия (Самбикина), память о царе Симеоне «свято чтилась» и в начале XX в.: «…остается выстроенный им каменный о пяти куполах трехпрестольный храм. <…> Под помостом этого храма — в подземелье — комната, в которой, по преданию, жил Симеон Бекбулатович» [Димитрий (С амбикин), архиеп.: 204–206].
Видение архимандрита Мисаила
Видение, столь характерный элемент житий и чудес святых, в комплексе текстов о Ефреме Новоторжском представлено единственным случаем в «Сказании о царе Симеоне». По замечанию А. В. Пигина, «содержание видений обычно составляет не сам исторический факт как таковой, а провиденциально-символическое осмысление его» [Пигин: 216]. Для определения роли видения в «Сказании…» необходимо обратиться к истории текста Жития [Галашева]. Ефрем был древним подвижником, биография которого была полностью утрачена. Когда в 1572 г. были открыты мощи святого, встала необходимость отыскать собственную историю. Краткая редакция Жития Ефрема Новоторжского представляла собой безыскусную историческую записку. Архимандрит Мисаил записывал устные предания о начале Борисоглебского монастыря во времена Бориса и Глеба, обращался к Киево-Печерскому патерику, создавая рассказ о трех братьях-угринах, фольклоризируя книжные источники. Ефрем объявлялся братом Георгия и Моисея Угринов, служивших князю-страстотерпцу Борису. Текст, вероятно, предназначался не для внутреннего монастырского чтения, но для создания внешнего письменного представления о монастыре. Пространная редакция, составленная в 1640-х гг., развивала названные сюжеты и была ориентирована не столько на топику, сколько на риторику канонического Жития. «Сказание о царе Симеоне» не примыкает ни к тому, ни к другому тексту. Мы предполагаем, что оно появилось независимо от них в первой половине XVII в. и только позднее стало дополнением к Пространной редакции.
В «Сказании…» налицо все черты видения: полдень, тонкий сон, разговор со святым, пробуждение и убеждение в реальности происходящего, сообщение о явлении святого. Видение архимандрита Мисаила, в котором Ефрем жалуется на повреждение мощей, впервые рассказывает о святом не с точки зрения его древней истории, но с точки зрения его близости и доступности для жителей Торжка. Подобная роль видений в древнерусской агиографии теоретически осмыслена в работах Е. К. Ромодановской и Е. А. Рыжовой и нашла выражение в таких понятиях как «севернорусский праведник» [Рыжова, 2005, 2007], «святой из гробницы» [Ромодановская]. «Сказание…» можно отнести к роду текстов «о неподобающем отношении к мощам подвижника»: Ефрем показывает архимандриту Мисаилу язву на ноге, называет древодельца «невежей». По наблюдениям Е. А. Рыжовой, явление праведников часто было связано с обретением мощей или необходимостью проведения каких-либо действий с ними. В житиях таких святых видения играют «важную композиционную роль, восполняют отсутствующую биографическую часть», являются «толчком к возникновению его почитания <…> среди местного населения» [Рыжова, 2007: 406]. Так, Прокопий Устьянский приказывает земледельцу «несколько сверху убавить» гроб; об увеличении гробницы просит Василий Мангазейский и другие [Рыжова, 2007: 406, 408]. Недавно обретенные в Борисоглебском монастыре мощи, очевидно, нуждались в осмыслении: отсутствие признанного Жития и отмеченная в Краткой редакции некнижная монастырская среда стали почвой для появления народного по своей сути текста.
Подобным же образом, с помощью видений, происходила идентификация древних могил пантеона Новгородского Софийского собора, например, мощей новгородского епископа Никиты [Янин: 7, 170–173]. Примечательно, что Ефрему Ново-торжскому, явившемуся в видении, не приходится называть себя по имени: по свидетельству Мисаила, в монастыре сохранилась фреска, изображающая святого с храмом в руках, и подпись к ней. Этот образ, имя и мощи были единственным, что было известно об основателе монастыря. Ефрем оставался чужаком: вероятно, в «Сказании о царе Симеоне» отразился этап нового понимания хранящейся в монастыре святыни, возникновение местного почитания, берущего начало не в древней монастырской истории, восходящей ко временам Бориса и Глеба, но в чудотворных мощах. В «Кратком летописце Торжка» Ефрем предстает уже как защитник города от литовского войска в 1616–1618 гг. [Станиславский: 236]. Впрочем, никому, кроме архимандрита Мисаила, Ефрем больше не представал. В видении священника Ивана Остолопова в 1637 г.
является Иулиания Вяземская, которая говорит о необходимости веры местным святым: « Держи вѣру Пресвятѣй Бого-родици и великому предивному чюдотворцу Ефрему Новоторж-скому, и мое имя воспомяни, Ульянѣю »4.
Деревянная рака Ефрема Новоторжского
Сюжет об изготовлении деревянной раки требует комментария. Известно, что именно к последней трети XVI в. относятся замечательные памятники резьбы по дереву — деревянные раки, на крышке которых содержались полнофигурные изображения преподобных (подробнее см.: [Клюканова], [Пивоварова]). Наиболее известны резные раки Зосимы и Сав-ватия Соловецких 1566 г. (подробнее см.: [Мнева: 629–631], [Соболев: 286–291]). По заключению А. Г. Мельника, «в XVI в. подобные деревянные рельефные образы святых на крышках их рак были достаточно широко распространены» [Мельник: 539]. К сожалению, ни описи Борисоглебского монастыря, ни именование мастера «древоделателем» (а не резчиком), не позволяют с уверенностью относить раку Ефрема к этому типу.
Кроме того, сообщение о деревянной раке, казалось бы, противоречит тому факту, что Ефрем, как и другие древние подвижники, почивал в каменном саркофаге [Панова: 29–33]. В Житии говорится, что архиепископ Леонид в 1572 г. повелел показать ему « гроб преподобного » в церкви Бориса и Глеба и открыть его, — « и видѣша тѣло его и ризы никако тлѣнию предашася, лице же преподобнаго Ефрема яко солнце сияя »5. Торжественное перенесение мощей Ефрема Новоторжского произошло более чем столетие спустя, в 1690-м г., и объяснялось тем, что « древняя каменная рака » все больше опускалась под землю, появилась необходимость « для утѣснения глубо-чайшаго < и > в землю снизхождения святыя его Ефрема чю-дотворца мощи поднять и преложить в новую раку »6.
Что же в таком случае заказывал сотворить « по хотѣнию своему » Симеон? Как сообщает «Сказание…», Симеон часто приходил к мо щам Ефрема, чтобы их « касатися и цѣловати ».
В «Сказании…» передана мысль Симеона, « како бы ему устро-ити раку преподобнаго — скрывати и закрывати пречестное тѣло его »7. Возможно, имеет свои основания предположение свящ. И. М. Колосова, писавшего, что Симеоном была заказана кипарисная крышка для каменного гроба [Колосов: 26]. О том, что была заказана лишь деревянная крышка, говорят формулировки « сотворити у гроба », « сотворити у раки ».
Сохранился покров к мощам Ефрема Новоторжского, относящийся к 80-м гг. XVI в. [Силкин]. Предположение о связи покрова с именем Бориса Годунова кажется маловероятным именно по той причине, что Торжок и Тверь в эти годы принадлежали преследуемому им Симеону Бекбулатовичу8. «Сказание о царе Симеоне» завершается сообщением о дарах Симеона Борисоглебскому монастырю: «…но и паче же повелѣ украсити церковь его пребожественными иконами, и святыми книгами, и драгими ризами, и всякими церковными вешьми». Однако в описи имущества Борисоглебского монастыря 1624–1625 гг. и позднейших никаких сообщений о дарах царя Симеона нет, хотя в этих же источниках многократно говорится о дарах царя Симеона Спасо-Преображенскому собору Торжка: «…а ризы и стихари и патрахель положение царя Симеона» [Писцовые и переписные книги Торжка: 3–4]. По мнению А. В. Белякова, вклады Симеона могли быть разграблены в 1609 г. [Беляков, 2022: 283]. Исследователь сообщает также о существовании золотошвейной мастерской супруги Симеона Бекбулатовича, княгини Анастасии Мстиславской [Беляков, 2016: 266], что позволяет сделать осторожное предположение о связи древнего покрова с именем царя Симеона. В конце XIX в. И. Я. Красницким была записана легендарная история древнего покрова Ефрема Новоторжского: в 1577 г. царь Иван Грозный проходил через Торжок, в числе его воевод был «Казанский царь Симеон, бывший до того времени Касимовским царем под именем Саиб-Булата, которого Грозный сделал удельным князем Твери и Торжка. <…> Симеон получил чудесное исцеление от мощей преподобного Ефрема и пожертвовал <…> древний покров на гробницу преподобного Ефрема» [Красницкий: 88]. В этом предании вновь смешиваются Казанский и Касимовский цари, а сюжет об исцелении Симеона, неизвестный по другим источникам, возможно, взят из чуда об исцелении Бориса Хованского. Однако шитый покров в предании связывается именно с царем Симеоном.
Итак, «Сказание о царе Симеоне» представляет собой пример устной истории о временах Ивана Грозного, сохранившейся в Борисоглебском монастыре и записанной, вероятнее всего, после Смутного времени. Архимандрит Мисаил, при котором были обретены мощи Ефрема и создано его первоначальное Житие, предстает в тексте как визионер. Ефрем Новоторжский показан в чуде как доступный, обитающий поблизости святой. Этот образ контрастирует со складывающимся по другим источникам представлением о древнем подвижнике, соратнике святых князей Бориса и Глеба.
Приложение
Сказание о цари Симеонѣ 9
// л. 6 об. // Послушаите братие и отцы, священноначалницы, иноцы, тако же и простии, старѣйшины и юнѣи, и вси христоиме-нитии народи, днесь бо да сказуется вамъ о пресвѣтлем свѣтиле и предивнем чюдотворцѣ Ефреме. Яко от благотекущаго источника воду неоскудно исходитъ, тако же и Христосъ даруетъ от пре-честных мощей своего угодника.
Бысть же во дни благочестиваго государя царя и великаго князя Иоанна Васильевича всеа России. По повелѣнию же его царьскому бѣ прислан во град Торжекъ казанскии царь Симеон. Егда же ему быша в Казани, вѣрующе вѣру // л. 7 // проклятаго Бахмета, и по взятии же града Казани, еже поручи Бог государю царю и великому князю Иоанну Васильевичю всеа России самодержьцу, приведенъ бысть царь Симеонъ в царствующии градъ Москву. И не по мнози же времени молиша государя царя, дабы ему повелѣл прияти хри-стияньскую вѣру и повелѣлъ бы ему креститися. Царь же Иоаннъ Васильевич всеа России, вельми о семъ возрадовася и повели его крестити во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Святыя Троицы. И повелѣ его государь царь отпустити в Торжек и во Тверь .
Егда бо ему, царю Симеону, жительство дѣяти в Торжку, и велию вѣру и любовь имѣти ко святому, и часто приходити во обитель // л. 7 об. // его, и касатися, и цѣловати честныя преподобнаго мощи. И помысли царь Симеонъ в сердцы своемъ, како бы ему устро-ити раку преподобнаго — скрывати и закрывати пречестное тѣло его. И повелѣ нѣкоторому древодѣльцу, именем Гавриилу, пореклу Сопленок, сотворити у гроба преподобнаго по хотѣнию своему. Древодѣлецъ же своим небрежениемъ и безстрашиемъ одержим и от простоты своея поруши нѣкакимъ древомъ ногу мощей пре-подобнаго.
И паки преподобный явися в полудне наставнику обители своея, именем Мисайлу. Прииде бо преподобный в кѣлию его, наставнику же в малъ сонъ сведену бывшу, и зрит явственно своима очима // л. 8 // преподобнаго отца нашего Ефрема. Начаша ему преподобный гла-голати о бестрашии и небрежении древодѣльца того, и невѣжды того нарече. И показа ногу свою наставнику тому, язву, и рече ему: «Сей сотвори мнѣ древо-дѣлатель неразумиемъ своимъ и безстра-шием на ноги моей сию язву. Ты же скоро повѣждь се царю Симеону, дабы пременилъ сего древодѣлателя ».
Настоятель же сей Мисаилъ, абие возбнувъ от сна своего, и ви-дитъ преподобнаго явственно, исход его ис кѣльи своей. Он же ис-полнися страха, и радости, и трепета, и скоро повѣдает о семъ царю Симеону, како онъ преподобнаго видѣ и что быша к нему глаголы его, // л. 8 об. // и како повелѣваетъ пременити древодѣла-теля сего .
Царь же, сия слышав от настоятеля обители тоя, повелѣваетъ сотворити у раки святаго иному древодѣльцу, именемъ Давиду. Не точию сие едино повелѣ сотворити, но и паче же повелѣ украсити церковь его пребожественными иконами, и святыми книгами, и драгими ризами, и всякими церковными вешьми, иная от имѣния своего даде на потребу монастырю тому .
Мнѣ же сия чюдеса многогрѣшному слышахъ тоя же Борисоглѣбския обители от священноинока именемъ Герасима, рукодѣлия же имуще ему икойному (sic) воображению тружающеся. И написалъ еси (sic) чюдо в хвалу же и // л. 9 // славу Богу, прославляющему угодники своя, в честь же и славу преподобному сему и великому всесвѣт-лому свѣтилу, предивному и преславному и быстрому в скорбѣхъ и в болѣзни заступнику преподобному отцу нашему Ефрему архимариту, новоторжскому чюдотворцу. Богу нашему слава, честь, и держава, и поклонение, в Троицы славимому Господу Иисусу Христу, ему же слава и нынѣ и присно и во вѣки вѣков. Аминь .
Список литературы Сказание о царе Симеоне Бекбулатовиче в житии Ефрема Новоторжского
- Беляков А. В. Симеон Бекбулатович // Единорогъ: материалы по военной истории Восточной Европы эпохи Средних веков и Раннего Нового времени. М., 2011. Вып. 2. С. 159–191.
- Беляков А. В. Личные вещи Чингисидов в России XVI–XVII вв. // От смуты к империи. Новые открытия в области археологии и истории России XVI–XVIII вв. М., Вологда, 2016. С. 266–270.
- Беляков А. В. Симеон Бекбулатович: пример адаптации выходцев с Востока в России XVI в. СПб.: Нестор-История, 2022. 408 с.
- Галашева Т. Н. К истории текста Жития Ефрема Новоторжского // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 2020. Т. 67. С. 175–205.
- [Димитрий (Самбикин), архиеп.] Тверской патерик. Казань: Церк. ист.-археол. о-во Казан. епархии, 1908. 223, 16 с., [1] л. ил.
- Зимин А. А. Иван Грозный и Симеон Бекбулатович в 1575 г. // Ученые записки Казанского государственного педагогического института. Казань, 1970. Вып. 80. Сб. IV: Из истории Татарии. С. 141–163.
- Клюканова О. В. Древнерусское резное дерево в собрании Русского музея — предметы, центры, мастера // Вестник РГНФ. 2012. № 1 (66). С. 118–126.
- Колосов И. М. Новоторжский Борисоглебский монастырь. СПб.: Тип. Башкова и Брянкина, 1890. 84 с., 3 л. ил.
- Красницкий И. Я. Тверская старина. Очерки истории, древностей и этнографии. СПб.: Воен. Тип., 1876. Вып. 1: Город Торжок. [4], 96 с.
- Криничная Н. А. Русская народная историческая проза. Вопросы генезиса и структуры. Л.: Наука, 1987. 235 с.
- [Крушельницкая Е. В.] Мартирий Зеленецкий и основанный им Троицкий монастырь / изд. подг. Е. В. Крушельницкой. СПб.: Алетейя, 1998. 262 с.
- Лилеев Н. В. Симеон Бекбулатович, хан Касимовский, великий князь всея Руси, впоследствии великий князь Тверской (1567–1616 г.): исторический очерк. Тверь: Тип. Губернскаго правления, 1891. 124, II с.
- Мельник А. Г. Гробница святого в пространстве русского храма XVI — начала XVII века // Восточнохристианские реликвии. М., 2003. С. 533–552.
- Мнева Н. Е. Скульптура и резьба XVI века // История русского искусства: в 13 т. М.: АН СССР, 1955. Т. 3. С. 625–634.
- Панова Т. Д. Царство смерти. Погребальный обряд Средневековой Руси XI–XVI веков. М.: Радуница, 2004. 181 с.
- Пивоварова Н. В. «Аки бы самые тех святых телеса…»: древнерусское рельефное надгробие XVI века и судьба резных рак новгородских чудотворцев в синодальный период русской церкви // Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки. СПб., 2017. С. 350–364.
- Пигин А. В. Жанр видений как исторический источник (на выговском материале XVIII века) // История и филология: проблемы научной и образовательной интеграции на рубеже тысячелетий: мат-лы Межд. конф. Петрозаводск, 2000. С. 216–222.
- Писцовые материалы Тверского уезда XVI века / сост. А. В. Антонов. М.: Древлехранилище, 2005. 760 с.
- Писцовые и переписные книги Торжка XVII — начала XVIII в. / cост. И. Ю. Анкудинов, П. Д. Малыгин. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2014. Ч. 1. 648 c.
- Ромодановская Е. К. «Святой из гробницы»: о некоторых особенностях сибирской и севернорусской агиографии // Русская агиография: Исследования. Публикации. Полемика / отв. ред. С. А. Семячко. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. С. 143–159.
- Рыжова Е. А. Жанр видений в севернорусской агиографии // Русская агиография: Исследования. Публикации. Полемика / отв. ред. С. А. Семячко. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. С. 160–194.
- Рыжова Е. А. Жития праведников в агиографической традиции Русского Севера // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб., 2007. Т. 58. С. 390–442.
- Силкин А. В. Покров «Преподобный Ефрем Новоторжский» // Вестник реставрации музейных ценностей. 2011. № 1/14. С. 40–45.
- Соболев Н. Н. Русская народная резьба по дереву. М.; Л.: Academia, 1934. 477 с.
- Станиславский А. Л. Краткий летописец Торжка XVII в. // Летописи и хроники. М.: Наука, 1984. С. 235–236.
- Янин В. Л. Некрополь Новгородского Софийского собора. Церковная традиция и историческая критика. М.: Наука, 1988. 239 с.