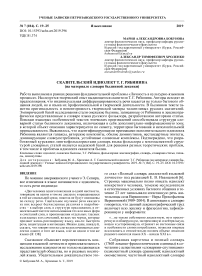Сказительский идиолект Т. Г. Рябинина (на материале словаря былинной лексики)
Автор: Бобунова Мария Александровна, Хроленко Александр Тимофеевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 7 (184), 2019 года.
Бесплатный доступ
Работа выполнена в рамках решения фундаментальной проблемы «Личность в культурно-языковом процессе». Исследуется творческий опыт выдающегося сказителя Т. Г. Рябинина. Авторы исходят из предположения, что индивидуальная дифференцированность речи касается не только бытового общения людей, но и языка их профессиональной и творческой деятельности. В былинном тексте заметна оригинальность и неповторимость творческой манеры талантливых русских сказителей. Эмпирической базой исследования стали онежские былины, записанные от Рябинина и лексикографически представленные в словаре языка русского фольклора, разработанном авторами статьи. Поискам языковых особенностей текстов эпических произведений способствовала структура словарной статьи былинного лексикона, включающая в себя дополнительно-информационную зону, в которой объект описания характеризуется по сюжету, территории бытования и исполнительской принадлежности. Выяснилось, что идентифицирующими признаками исполнительского идиолекта Рябинина являются гапаксы, авторские композиты, обилие диминутивов, нестандартные эпитеты, доминирующие словоупотребления, устойчивые словесные комплексы. Подтверждено, что разработанный курскими лингвофольклористами словарь языка фольклора с многоаспектной структурой словарных статей является надежной базой для решения разных теоретических проблем, в том числе и проблемы идиолекта сказителя былин.
Идиолект, онежские былины, т. г. рябинин, фольклорная лексикография, словарь, словарная статья, гапаксы, диминутивы
Короткий адрес: https://sciup.org/147226513
IDR: 147226513 | УДК: 81.374 | DOI: 10.15393/uchz.art.2019.396
Текст научной статьи Сказительский идиолект Т. Г. Рябинина (на материале словаря былинной лексики)
По мнению американского ученого Э. Сепира, все изменения в языке начинаются с идиолекта, то есть речи индивида:
«Два человека одного поколения и одной местности, говорящие на одном и том же диалекте и вращающиеся в той же социальной среде, никогда не будут одинаковы по складу речи. Тщательное изучение речи каждого из них вскроет бесчисленные различия в подробностях – в выборе слов, в структуре предложения, в относительной частоте использования тех или иных форм и сочетаний слов, в произношении отдельных гласных и согласных и их сочетаний, во всех тех чертах, которые придают жизнь разговорному языку, как-то: быстрота речи, акцентуация и интонация. Можно даже, пожалуй, сказать, что говорят они на слегка различающихся диалектах одного и того же языка, а не на одном и том же языке» [8: 138].
Сказанное объясняет перспективность концепции языковой личности и привлекательность исследования идиолектов не только выдающихся представителей общества, но и рядовых носителей языка. Убедительным доказательством это- го стал «Полный словарь диалектной языковой личности» под редакцией Е. В. Иванцовой [6]. Стремясь максимально полно описать идиолект конкретного человека, томские исследователи в естественных условиях бытового общения в течение 23 лет записывали спонтанную речь жительницы села Вершинино – Веры Прокофьевны Вершининой (1909–2004). В аннотации к словарю говорится, что данный лексикографический труд включает всю лексику и фразеологию, зафиксированную у информанта:
«…не только собственно диалектную, но и просторечную и общерусскую, экспрессивную и нейтральную, новую и устаревающую, отражает ее системные связи и особенности словоупотребления, позволяя впервые исследовать в относительно полном объеме лексикон рядового носителя языка ХХ – начала ХХI в.».
Собранная картотека и полный словарь (17603 лексико-фразеологические единицы) в сочетании с аспектными «словарями-спутниками» (идиолектный словарь сравнений; идиолектный ономастикон; частотный идиолектный словарь)
дают возможность всесторонне изучать феномен диалектной языковой личности. В Послесловии к словарю справедливо замечено, что в процессе лексикографической работы
«получены принципиально новые данные, позволяющие пересмотреть многие сложившиеся представления об объеме словарного состава рядового носителя языка (у информанта он приближается к 30 000 лексико-фразеологических единиц в отдельно взятых значениях), полярности элитарной и традиционной народно-речевой культуры (наряду с различиями у них выявлен ряд общих черт), специфики языковой картины мира диалек-тоносителя, концептосферы русской языковой личности и мн. др.» [6: 4: 356].
Полезным для исследователя представляется и «Словарь языка Агафьи Лыковой» [9], созданный на основе писем старообрядки-отшельницы, проживающей в саянской тайге, впоследствии дополненный и исправленный. Нетипичная языковая личность, устная речь которой ограничивалась узкозамкнутым семейным общением, а письменная – чтением сакральных текстов, сформировалась вне естественной языковой среды, вне широких социальных связей, в отсутствие непосредственных постоянных контактов с разными носителями языка [10: 64–65], что не могло не отразиться на ее идиолексиконе, сохранившем черты русского языка разных эпох. Полный идиолектный словарь уникальной языковой личности, представляющей старообрядческую конфессиональную среду, является важным источником изучения словарного запаса индивида, проживающего в микросоциуме.
Индивидуальная дифференцированность речи касается не только бытового общения людей, но и языка их профессиональной и творческой деятельности. Так, М. Элиаде утверждал: «В архаических обществах, как и везде, культура создается и возобновляется благодаря творческому опыту нескольких индивидов» [14: 141]. В частности, известный ученый и писатель говорил о роли шаманов и сказителей, которым удавалось внушать свои воображаемые видения целым сообществам людей и влиять на их души и поступки.
Безусловно, исследователи не могли не обратить внимания и на роль творческих личностей в устном народном творчестве. Казалось бы, каноническая форма препятствует проявлению творческого начала, однако, по мнению целого ряда ученых, она стимулирует исполнителей к творческому соревнованию и способствует возникновению новых оборотов и языковых кон-струкций1 (см.: [4], [5], [11]). Наиболее ярко индивидуальное начало проявляется при исполнении таких жанров, для которых характерна большая «подвижность» текста (например, сказка, причитание). Так, К. В. Чистов на примере одаренной плакальщицы И. А. Федосовой, обладающей даром импровизации, показал, насколько мобилен текст причети, который во многом зависит от ус- ловий записи, на которые реагирует творческий индивид. Диапазон изменений огромен –
«от отдельных стихотворных вставок, стихотворной или прозаической экспозиции до глубокого преобразования всего текста, превращения обрядового текста в плач-поэму» [13: 143].
Былинный текст представлялся исследователям более стабильным и устойчивым, однако и тут нельзя было не заметить оригинальность и неповторимость творческой манеры талантливых русских сказителей. Эта особенность сначала была отмечена собирателями произведений устного народного творчества. А. Ф. Гильфер-динг в очерке «Олонецкая губерния и ее народные рапсоды» справедливо заметил:
«Кроме местных влияний, в былине участвует личная стихия, вносимая в нее каждым певцом; участие это чрезвычайно велико, гораздо больше, чем можно бы предполагать, послушав уверенья самих сказителей, что они поют именно так, как переняли от стариков»2.
Внимание собирателей к исполнителям, которые «довольно рано были поняты не как механические хранители архаической фольклорной традиции, но как даровитые личности, соучастники процесса фольклорного творчества» [13: 145], определило и интерес фольклористов к проблеме индивидуальной дифференцированности лексиконов сказителей. Еще в 1924 году А. П. Скафты-мов отмечал, что
«каждый певец поет свою песню, каждый горит своим огнем пафоса и напряжения, каждый выливает былину под индивидуальным освещением своего воззрения и чувства»3.
В меньшей степени творческая индивидуальность проявляется при исполнении произведений коллективного характера, например лирической песни, однако и тут
«нет раз навсегда закрепленных, неизменных хоровых “партий”. При каждом из повторений напева, на новые слова, появляются новые варианты как у запевалы, так и у певцов хора <…> Единство достигается внутренним взаимопониманием исполнителей, а не внешними рамками. Каждый более-менее импровизирует, но тем не разлагает целого, напротив, связывает прочней, ибо общее дело вяжется каждым исполнителем – многократно и многообразно» [12: 30–31].
Таким образом, в народной культуре стабильность гармонично сочетается с вариативностью. К. В. Чистов это явление называл «вибрацией текста»:
«Если сравнить повторные записи от одного и того же исполнителя или от учителя и ученика, то возникает впечатление, что текст как бы вибрирует в определенных пределах, которые считаются допустимыми. Происходит это за счет так называемых равноценных обратимых замен синонимического характера <…> и устойчивым оказывается некий “средний” смысл, семантический вектор с определенной поэтической функцией» [13: 73].
Среди разных былинных сказителей заметно выделялся олонецкий крестьянин Т. Г. Рябинин. На исполнительский дар этого человека сразу же обратили внимание собиратели онежского фольклора: сначала П. Н. Рыбников, а впоследствии А. Ф. Гильфердинг. В «Заметке собирателя» П. Н. Рыбников утверждал: «У каждого истинного сказителя заметно его личное влияние на склад былины: он вносит в нее свой характер, любимые слова, поговорки»4. Среди таких слов и оборотов Т. Г. Рябинина собиратель указывал: одежица , художество, силушки черным черно, противность великая , поотведать силы у поганого и др. (XL–XLI).
Рябинин, по мнению А. Ф. Гильфердинга, относился к разряду лучших певцов былин, которые были известны и как хорошие домохозяева. Собиратель утверждал:
«По-видимому, былины укладываются только в таких головах, которые соединяют природный ум и память с порядочностью, необходимою и для практического успеха в жизни»5.
Примечательна и общая оценка жителей Олонецкой губернии, сделанная А. Ф. Гильфердин-гом: «Народа добрее, честнее и более одаренного природным умом и житейским смыслом я не видывал…»6
Специалист по мировому эпическому наследию Б. Н. Путилов соглашается с мнением собирателей фольклора:
«Когда нам известны сотни былинных певцов и их репертуар, Т. Г. Рябинин занимает в этом ряду одно из первых мест как замечательнейший знаток, хранитель, исполнитель былин, а кроме того – и как основатель семейной династии старинщиков» [7: 6].
Не случайно интерес к личности Т. Г. Рябинина, имя которого стало достоянием мировой культуры, с течением времени не угасает.
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИДИОЛЕКТА
Т. Г. РЯБИНИНА
Опыт народных творцов свидетельствует о наличии у языковой личности по меньшей мере двух разновидностей идиолекта. К примеру, идиолект онежского крестьянина Т. Г. Рябинина и сказительский идиолект замечательного русского эпического певца. По-своему интересен каждый идиолект, тем более что они явно взаимодействовали, но в нашем случае основное внимание будет уделено поискам характерных черт исполнительского лексикона Т. Г. Рябинина.
Наша задача облегчается наличием реализованного лексикографического проекта – «Словаря языка русского фольклора» [2], [3], составленного на материале «Онежских былин, записанных А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года». В основу проекта был положен принцип концептографии, что нашло отражение в структуре словарной ста- тьи, состоящей из 8 зон, вводимых специальными графическими знаками (об этом подробно см.: [1], [2]). Для темы данного исследования особую значимость приобретает последняя зона – дополнительно-информационная (+), где объект словарного описания характеризуется по сюжету, территории бытования и исполнительской принадлежности.
Индивидуальная дифференцированность речи начинается с учета гапаксов. Напомним, что гапакс легомена – это слово или выражение, встретившееся в тексте или в корпусе текстов всего один раз. В нашем словаре при описании единичных лексем мы ограничиваемся текстовой иллюстрацией и связи слов не описываем по причине их очевидности. В обязательном порядке указывается место записи былины, ее название и исполнитель, поскольку подобные лексемы – бесспорный элемент идиолекта конкретного сказителя. Так, в трехтомном собрании онежских былин А. Ф. Гильфердинга только в текстах Т. Г. Рябинина лексикографы отметили стилистически нейтральные общеупотребительные лексемы неглупый, волх, волшебник, полетать, щёголь и др. Приведем примеры словарных статей.
Неглупый (1) Молода Настасьюшка Микулична Она женщина была неглупая (2, № 80, 980) +: Рябинин (Кижи) «Добрыня и Василий Казимирович»
Волшебник (1) Ай жо вы мои да князи б о яра, Сильни русьские могучие бог а тыря, Еще вси волхи бы все волшебники ! Есть ли в нашеём во городи во Киеви Таковы люди чтоб съездить им да во чист о поле (2, № 79, 219) +: Рябинин (Кижи) «Добрыня и змей»
Щеголь (1) Щеголь хвастает одежей дрогоценною (2, № 81, 342) +: Рябинин (Кижи) «Дунай»
Отметим и случаи, когда лексема в пределах одного высказывания повторяется без изменения своей морфемной структуры, семантического содержания и синтагматических связей. Например:
Подкожный (3) Его добрый конь так мне-ка больший брат: У него есть трои крылышка подкожныи , У меня есть двое крылышка подкожныи , У мол о даго Щурилушка у Плёнкова У него коня да й богатырска-го Да й одны-то есте крылышка подкожныи (2, № 85, 388) +: Рябинин (Кижи) «Дюк»
Среди гапаксов, отмеченных в текстах Т. Г. Рябинина, по данным нашего словаря, есть диалектные слова разной частеречной принадлежности.
Выставанье (1) ‘Восход солнца’ [СРНГ: 6: 28] До выст а ванья да красна солнышка Да й будила-то До-брыню р о дна матушка (2, № 79, 328) +: Рябинин (Кижи) «Добрыня и змей»
Застолье (1) ‘Место вокруг (обеденного, праздничного и т. п.) стола’ [СРНГ: 11: 63] А король-то по з а столью бегаёт, Куньею шубой укрывается (2, № 81, 196) +: Рябинин (Кижи) «Дунай»
Уеда (1) ‘Еда, кушанье, блюдо’ [СРНГ: 46: 319]. По-расхвастался уедами ты сладкима, Да й порасхвастался ты питьямы медвяныма (2, № 85,195) +: Рябинин (Кижи) «Дюк»
Платёный (1) ‘Т.е. в которых держат платье’ [Гильф.: 2: 135]; ‘Платяной’ [СРНГ: 27: 95] Шла на тыя кладовыя на платёныи (2, № 85, 255) +: Рябинин (Кижи) «Дюк»
Закладаться (1) ‘Биться об заклад’ [СРНГ: 10: 127] Молодой боярин Дюк Степанович, А й ты бей в велик заклад, закл а дайся (2, № 85, 384) +: Рябинин (Кижи) «Дюк». Этот пример – единственный в СРНГ.
Начитать (1) ‘Насчитать’ [СРНГ: 20: 289] Похотелось-то Добрыни полон а считать, Й он пошел как по нор а м да по змеиныим, Начитал -то полон о в ён много множество (2, № 79, 413) +: Рябинин (Кижи) «Добрыня и змей»
Облащаться (1) ‘Одеваться’ [СРНГ: 22: 89] Облащался -то ( так ) молоденькой Добрынюшка Во доспехи он да в св о и крепкие (2, № 79, 390) +: Рябинин (Кижи) «До-брыня и змей»
Проязычить (1) ‘Проговорить, сказать’ [СРНГ: 33: 61] Воспрог о ворили белыя лебедушки, Проязычили яз ы ком человеческим (2, № 87, 24) +: Рябинин (Кижи)
Иногда среди гапаксов можно обнаружить случаи авторского словообразования. Так, в нашем словаре наличествует статья «Скатно|жемчуг».
Скатно|жемчуг (1) о : скатный (жемчуг ) Третьи мисы насыпали скатно-жемчугом (2, № 86, 52) +: Рябинин (Кижи) «Сорок калик»
Не вызывает сомнения, что перед нами стяжение в композит традиционного для фольклорной речи словосочетания скатный жемчуг ( устар. и народнопоэт. ‘крупный, круглый, ровный (о жемчуге, бисере)’ [МАС: 4: 105]).
Есть еще аналогичная словарная статья, представляющая идиолект другого исполнителя.
Скат|жемчуг (1) о : скатный (жемчуг) Да на что-то старому мне-ка богачество, Своево у меня злата серебра, Своево у меня скату-жемчугу (3, № 240, 13) +: Тряпицын (Кенозеро) «Три поездки Ильи Муромца»
Помимо гапаксов, которые по причине своей единичности могут быть исключительно по использованию индивидуальными, встречаются лексемы, употребляемые неоднократно в текстах одного исполнителя, в нашем случае Т. Г. Рябинина. Например:
Еловый (3) Да все в Киеве у вас есть не по нашему: <…> У вас топятся-то др о вця-ты еловыи , У вас делано помялышко сосновое (2, № 85, 142) S: дрова 1, обруч 2 +: Рябинин (Кижи) «Дюк»
Прилагательное еловый Т. Г. Рябинин использовал в одном тексте, но применительно к разным определяемым – дрова и обруч .
Хребет (5) А садил-то ю к головы хребтом (2, № 81, 275) Vo: садить хребтом к голове (лошади) 5 S : лицо ... хребет +: Рябинин (Кижи)
Все пять случаев использования существительного хребет отмечены в трех былинах: «До-брыня и змей» – 1, «Дунай» – 2 и «Хотен Блудо-вич» – 2.
Обратим внимание на диалектные и специфически фольклорные слова, которые в текстах кижского сказителя используются неоднократно.
Комверт (2) ‘Конверт’ [СРНГ: 14: 228] Он приходит ко добру´ коню да к богатырскому, Полагает он комверт да под седелышко (2, № 85,225) =: комвертик 1 Vo: найти распечатать 1, полагать 1 +: Рябинин (Кижи) «Дюк»
Орленый (2) ‘Граненый - эпитет грядки’ [СРНГ: 23: 343] А й то грядочки у Дюка все орленыи , А й орленыи да золоченыи (2, № 85, 491) +: Рябинин (Кижи) «Дюк»
Попроведать (2) ‘Поведать, сообщить’ [СРНГ: 30: 6] Да й скажи-тко, поляница, попроведай -ко, Ты коёй земли да ты коёй Литвы (2, № 77,216) +: Рябинин (Кижи) «Илья Муромец и дочь его»
Пословечно (7) ‘1. Отчетливо произнося каждое слово; 2. На словах, словесно’ [СРНГ: 30: 179] Тут Оле-шенька Григорьевич по горенке похаживат, Пословечно князю выговариват (2, № 79, 255) V: выговаривать 7 +: Рябинин (Кижи)
Скоморовчатый (7) ‘Фольк. Скомороший’ [СРНГ: 38: 73]. Да велел-то принести еще- то платьице скомо -ровчато (2, № 80, 719) S: платье 7 +: Рябинин (Кижи) «Добрыня и Василий Казимиров»
В ряду идиолектных единиц, кроме общеупотребительных, диалектных и собственно фольклорных слов, есть конструкции, не фиксируемые словарями, например:
Рубашечка|манишечка (5) Ен надел одежицу да все снарядную, Ен снарядную одежицу хорошеньку: Ен рубашечки манешечки шелк о веньки (2, № 85, 297) A: шелковая 5 Vo: надевать 3, надеть 1, одевать 1 +: Рябинин (Кижи) «Дюк»
Отметим случаи, когда слово используется не только в текстах Рябинина, но и в былинах других исполнителей. Правда, у других сказителей это гапаксы, а у Рябинина – сравнительно частотные слова. Например:
Водка* (8) Подносили к им да сладку водочку (2, № 85, 165) =: водочка 8 A: сладкий 4 S: винцо 4 Vs: <быть> положить 2, задохнуться 1, призадохнуться 1 Vo: испивать 1, пить 1, повыплескать 1, подносить 1 +: 7 с/у из 8 приходятся на текст «Дюк» Рябинина (Кижи). Лишь одно – из концовки текста «Дунай» Георгиевской (Кенозеро)
Испи(ва)ть (7) Испей чарочку от нас ты зелен а вина (2, № 80, 972) =: испивать 5 So: вино 1, вода 1, водочка 1, напиток 1, питьё 2, чарка 1 +: 6 с/у из 7 в текстах Рябинина (Кижи)
Характерной приметой идиолекта Т. Г. Рябинина является повышенное количество диминутивных форм (водочка, дверцы, кровельки ), которые могут быть и диалектными ( личушко ‘личико, лицо’ [СРНГ: 176: 89]; одежица ‘ ласк. Одежда’ [СРНГ: 23: 11]), и специфически фольклорными образованиями ( ествушко ‘ ласк . фольк . Еда, кушанье’ [СРНГ: 9: 41]; лапотики ‘ фольк . Лапти’ [СРНГ: 16: 265]; лесушек фольк . ласк . Лес, лесочек’ [СРНГ: 17: 14]) .
Так, уменьшительно-ласкательная форма крестничек в восьми из девяти словоупотреблений использована Рябининым, а диминутив паличка ‘тяжелая дубинка, палица’ [СРНГ: 25: 172] был зафиксирован исключительно в текстах кижского сказителя:
Мне от крестничка да от любимого Прилетели-то подарочки да не любимые, Долетела стрелочка каленая (2, № 75, 561); А й садился-то Добрыня на добр а коня, Да с собою брал он паличку булатнюю (2, 79, 43).
Выбор эпитетов к одному и тому же существительному в значительной части случаев тоже индивидуализирован. Например, атрибутивная пара столовая горенка (29 словоупотреблений; далее – цифра) – характерная примета идиолекта Рябинина:
И прошли они в полату в белокаменну, И взошли они в столовую во горенку (2, № 76, 109).
То же можно сказать и о конструкциях:
драгоценная одежа (8), снарядная одежица (10) и драгоценные дары (4): Брал-то эти сумки, роспечаты-вал, Посмотрел-то на оДежи Дрогоценныи , Положил-то эти сумки за крепкой замок (2, № 85, 269); Ен надел одежицу да все снарядную, Ен снаряДную оДежицу хо-рошеньку (2, № 85, 297); А й кормили-то их ествушкой сахарнею, Да й поили-то их питьицем медвяныим, Да й дарили Дары Драгоценный (2, № 86, 47).
Характерной чертой идиолекта могут стать устойчивые словесные комплексы и формулы.
Напольский (4) [Знач? Предположительно связано с существительным поле . У Даля: Жаворонок пташка напольная [Даль: 2: 453]. В СРНГ этого слова нет]. А походочкой она бы лани белою, Белою лани напольскою , Напольской лани златорогия (2, № 81, 17) S: лань 4 +: Рябинин (Кижи) «Дунай». Эта формула повторена дважды.
Обпечь (3) ‘Обжечь’ [СРНГ: 22: 188] Да й сидит она во тереме в златом верху; На ню красное солнышко не обпекет , Буйные ветрушки не о бвеют (2, № 81, 46) Ss: солнце 3 +: Рябинин (Кижи). В двух текстах формула использована трижды.
Спас (3) ‘Спаситель, Христос’ [Даль: 4: 287] Только есте у меня надеюшка То на спаса на Пречисту Богородицу (2, № 80, 415) +: эта формула использована в тексте Рябинина (Кижи) трижды.
Строчка (4) ‘Вышитая, выстроченная разноцветными нитками полоска, шов на нарядном платье’ [СРНГ: 42: 32] Кунью шубку он [Щурила] надел на плечка на могучие, Еще строчка строчен а -то чистым с е ребром, Др у га строчка строчен а так красным золотом (2, № 85, 285) +: Рябинин (Кижи) «Дюк». Формула использована дважды.
Для идиолекта Рябинина также характерны конструкции терем златой верх (12), снять крышу со бела шатра (4), кланяться до полов кирпичных (4): Он подъехал как ко терему к злату верху, Бил он палицей булатнёй по терему, Да по славному по терему злату верху (2, № 84, 126); Да просвиснула как эта стрелочка каленая Да во тот во славный во бел шатёр, Она сняла крышу со бела шатра (2, № 75, 542); Ай ты бей челом да низко кланяйся А й до тых полов и до кирпичныих (2, № 76, 62).
Заметим, что содержание дополнительно-информационной зоны словарной статьи не только дает сведения о специфических атрибутивных парах и устойчивых конструкциях конкретного сказителя, но и позволяет проводить сопоставительные исследования.
Балхон (6) ‘Балкон’ [Даль: 1: 43] {...}
+: балхон королевский - Рябинин (Кижи); балхончик точеный – Меньшикова (Кенозеро); балхончик – Кенозеро
Драгоценный (27) {...}
+: Рябинин (Кижи) в тексте «Добрыня и Василий Казимиров» дважды употребил форму дорогоценный на фоне обычного для себя эпитета драгоценный. У него же драгоценны не камни, а дары (4) и одежа (8). У Гусевых (Кенозеро) – самоцветные каменья драгоценные.
На|пяту (26) ‘Настежь (о дверях, воротах)’ [СРНГ: 20: 116] {...}
+: на | пяту дверь поразмахивать - Рябинин (Кижи), размахивать воротца на|пяту – Иевлев (Кижи)
Скамья (35) {...}
+: формула столички дубовые, скамеечки окольние -Рябинин (Кижи). Каленовая скамеечка – Лисица (Вы-гозеро), скамейка хрустальная и скамеечка рыбчатая – Суханов (Водлозеро)
Хмельной ( 9 ) {...}
+: хмельная чара : Фомина (Повенец); напитки хмельные : Рябинин (Кижи)
Выбор эпитета обычно обусловлен семантикой существительного. Если же этимология слова вызывает затруднения, разброс эпитетов закономерен. Интересен случай с существительным храпы .
Храпы (12) ‘Железный крюк’ [Даль: 4: 564]; примечание собирателя: «По объяснению Сарафанова, храпы значит рука, но не в смысле кисти руки, а всей руки от плеча» [Гильф.: 2: 242] {...}
+: Кижи. Крепкие храпы - Рябинин, белые храпы -Сарафанов, железные храпы – Сурикова. Разное понимание значения существительного у исполнителей из Кижей, отсюда и различия в эпитетах.
Обратим внимание на существительное полотно , которое разными онежскими сказителями используется в значении ‘полотенце’ [СРНГ: 29: 123]: Утирается [Добрыня] в тонко бело п о лотно (1, № 26, 81). Рябинин же это слово шесть раз употребляет в ситуации ‘кормление коня’: А там ст о ят кони богатырские, У того ли п о лотна сто я т у белого, Они зоблют-то пшену да белоярову (2, № 75, 220). Можно предположить наличие идиолектного значения у весьма многозначной в диалектной речи (26 значений в СРНГ) лексемы.
ВЫВОДЫ
Таким образом, материалы словаря языка фольклора показывают, насколько высок удельный вес слов и языковых конструкций, отмеченных в текстах одного сказителя. Идентифицирующими признаками исполнительского идиолекта Рябинина, по данным нашего словаря, можно считать гапаксы, авторские композиты, обилие диминутивов, нестандартные эпитеты, доминирующие словоупотребления, устойчивые словесные комплексы. Все это говорит о роли былинных певцов – «исполнителей и сотворцев, хранителей наследства и сознательных его передатчиков» [13: 147] – и о влиянии талантливых представителей творческого народного коллектива на исполняемый текст.
Поскольку в словаре былинной лексики нами описано только 26 фрагментов фольклорной картины мира (2235 словарных статей), то безусловно, часть материала, представленная пока в картотеке, может впоследствии дополнить и подтвердить сделанные нами выводы, а возможно, и выявить новые аспекты исследования. Мы полагаем, что разрабатываемый нами словарь языка фольклора с многоаспектной структурой словарных статей является надежной базой для решения разных теоретических проблем, в том числе и проблемы идиолекта сказителя былины.
СРНГ – Словарь русских народных говоров. М.; Л.; СПб.: Наука, 1965–2014. Вып. 1–47.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ заглавное слово (количество словоупотреблений); О: производящее слово (факультативно); ‘дефиниция’ (факультативно); иллюстрация; =: варианты; S: связи с существительными (Ss и So при описании глаголов); A: связи с прилагательными; Pron: связи с местоимениями; Num: связи с числительными; V: связи с глаголами (Vs: с субъектом; Vo: с объектом); Adv: связи с наречиями; Voc: функция обращения; fl: ассоциативные ряды; F: поэтическая функция; +: дополнительная информация, комментарии.
Т. 1–4.
Список литературы Сказительский идиолект Т. Г. Рябинина (на материале словаря былинной лексики)
- Бобунова М. А. Русское фольклорное слово в зеркале словаря (о лексикографическом опыте курских лингвофольклористов) // Вопросы лексикографии. 2018. № 13. С. 141-153. DOI: 10.17223/22274200/13/8
- Бобунова М. А., Хроленко А. Т. Словарь языка русского фольклора: Лексика былины: Часть первая: Мир природы. Курск: Курск. гос. ун-т, 2006. 125 с.
- Бобунова М. А., Хроленко А. Т. Словарь языка русского фольклора: Лексика былины: Часть вторая: Мир человека. Курск: Курск. гос. ун-т, 2006. 192 с.
- Воронов В. С. О крестьянском искусстве: Избранные труды. М.: Сов. художник, 1972. 350 с.
- Новиков Ю. А. Сказитель и былинная традиция. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. 374 с.
- Полный словарь диалектной языковой личности / Под ред. Е. В. Иванцовой. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2006-2012. Т. 1-4.
- Путилов Б. Н. Застава богатырская: Беседы о былинах Русского Севера. Л.: Детская литература, 1990. 174 с.
- Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи: Пер. с англ. М.: Издательская группа "Прогресс", "Универс", 1993. 656 с.
- Толстова Г. А. Словарь языка Агафьи Лыковой. Красноярск: Изд-во КГПУ им. В. П. Астафьева, 2004. 562 с.
- Толстова Г. А. О словаре старообрядческой языковой личности Агафьи Карповны Лыковой // Вопросы лексико графии. 2016. № 1 (9). С. 64-81.
- DOI: 10.17223/22274200/9/5
- Ухов П. Д. Из наблюдений над стилем сборника Кирши Данилова // Русский фольклор. Т. 1. М.; Л., 1956. С. 97-115.
- Флоренский П. А. Сочинения: В 2 т. Том второй. У водоразделов мысли. М.: Правда, 1990. 447 с.
- Чистов К. В. Фольклор. Текст. Традиция. М.: ОГИ, 2005. 272 с.
- Элиаде М. Аспекты мифа: Пер. с фр. М.: Инвест-ППП, 2000. 240 с.