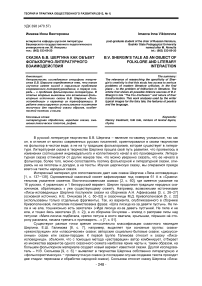Сказка Б. В. Шергина как объект фольклорно-литературного взаимодействия
Автор: Имаева Инна Викторовна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 1, 2012 года.
Бесплатный доступ
Актуальность исследования специфики творчества Б.В. Шергина определяется тем, что такое изучение имеет выход к серьезным проблемам современного литературоведения, в первую очередь - к проблеме фольклоризма литературы. В статье впервые выявлены все возможные фольклорные источники сказки Б.В. Шергина «Лиса-исповедница» и характер их трансформации. В работе анализируется использование писателем типичных для народной сказки образов, особенностей поэтики и языка.
Литературная обработка, народная сказка, смешение лексических пластов, рифма
Короткий адрес: https://sciup.org/14933756
IDR: 14933756 | УДК: 398
Текст научной статьи Сказка Б. В. Шергина как объект фольклорно-литературного взаимодействия
The summary:
The relevance of researching the specificity of Sher-gin’s creativity is that this study has access to serious problems of modern literature criticism, in the first place – to the problem of folklorism in literature. The article first shows all possible folklore sources of B.V. Shergin’s tale “The Fox-Confessor” and nature of their transformation. This work analyses used by the writer typical images for the fairy tale, the features of poetics and the language.
В русской литературе творчество Б.В. Шергина - явление по-своему уникальное, так как он, в отличие от многих современных русских писателей, ориентировался в своем творчестве на фольклор в чистом виде, а не на ту традицию фольклоризма, которая существует в литературе. Литературная сказка в творчестве Шергина прошла свой путь развития, что проявилось в изменении соотношения индивидуального и коллективного начал в его произведениях. Литературная сказка отличается от других жанров тем, что можно уверенно сказать, что ее начало в фольклоре, более того, можно сопоставлять поэтику фольклорной и литературной сказки, опираясь не на гипотезы и догадки, а на тексты. Изучая шергинскую сказку, мы опираемся прежде всего на тексты народных сказок.
Интересный материал для сопоставления дает нам сказка Шергина «Лиса-исповедница» [1, с. 137-139]. Одноименный сказочный сюжет зафиксирован под номером 61 А в «Сравнительном указателе сюжетов. Восточнославянская сказка» [2, с. 60], где имеется указание на 16 русских, 4 украинских и 1 белорусский вариант. Шергин продолжил традиции народных сказочников, обратившись к уже существующему сюжету. Например, возможными источниками «Лисы-исповедницы» Шергина послужили сказки из сборников А.Н. Афанасьева [3, с. 26-27] (основной источник), Н.Е. Ончукова [4, с. 50-52] и сказочницы М.Д. Кривополеновой [5, с. 22] (использованы только отдельные фрагменты). Так, из варианта, опубликованного в сборнике Кривополеновой, писателем позаимствована фраза: «Шла лисица из-за девяти пустынь. Не пила и не ела, тошнехонько есть захотела» («Идё лисица из-за деветь пустыней. Не пила и не ела, и тошно йись захотела» [6, с. 2]), а из сборника Ончукова - эпизод о расправе лисы над петухом: «Мати-лисича подбегала, крепко петуха в кохти хватала, крылышки, пёрышки на сторону расклала, начала трепать и приговарить...» [7, с. 51].
Существуют разные точки зрения относительно классификации сказочного наследия Шергина. Е.Ш. Галимова [8, с. 7], например, выделяет три основные группы: сказки-«реконструкции» или «классические» сказки; авторские социально-бытовые сказки; «дискуссионные» сказки или сказки-пародии. К первой группе Галимова относит и сказку «Лиса-исповедница», объясняя, что с помощью метода «реставрации» автор комбинирует, отбирает из множества вариантов одного сказочного сюжета наиболее яркие черты и, таким образом, на большем фольклорном материале создает новый вариант известной сказки. Другой исследователь - Н.В. Сюлькова [9, с. 6] - выявляет в творчестве Шергина собственно литературную и «фольклористическую» - промежуточную сказки (в последнем случае создание текста проходит две стадии: пересказа и обработки народной сказки). Сюлькова относит сказку Шергина «Лиса исповедница» к пересказам, она считает характерной особенностью данной разновидности увеличение в них роли диалогов (сказка «Лиса-исповедница» построена исключительно на диалоге персонажей). Приняв во внимание точки зрения обоих исследователей, можно сделать предположение, что сказка «Лиса-исповедница» является и реконструкцией, и талантливой обработкой автором сказочного сюжета, Шергин мастерски приспосабливает сказку к нашей действительности, дает ей новую жизнь.
Большая часть русских писателей обращалась к фольклору прежде всего как к источнику, обогащавшему их творчество. Для Шергина же важно было сохранить своеобразие народной сказки, донести ее в своих книгах до потомков, исследователей. Об этом писал В.И. Белов: «Фольклорное слово, несмотря на все попытки «обуздать» его и «лаской и таской», сделать управляемым, зависимым от обычного образования, слово это никогда не вмещалось в рамки книжной культуры… Помещенное в книгу, оно почти сразу хирело и блекло. Может быть, один Б.В. Шергин – этот истинно самобытный талант – сумел так удачно, так непринужденно породнить устное слово с книгой» [10, с. 222]. Шергин действительно не просто трудился на стыке двух самостоятельных художественных систем – литературы и фольклора, он виртуозно объединял их в процессе своей работы. Его сказка сохранила все особенности национального колорита, оборотов речи, красоту сравнений и остроумных образных словосочетаний. Шергин использует весь имеющийся у него в запасе богатый арсенал языковых средств для придания различным ситуациям комического эффекта, создает впечатление настоящей устной речи. Для этого он использует эмоционально-окрашенную лексику: из богатых синонимических рядов народного языка он выбирает слова, имеющие определенную эмоционально-стилистическую окраску. Это могут быть и сниженные просторечия («плюю я на твое цветное платье», «распустила слюни»), и вульгаризмы («пасть худая», «погана тварина», «стерва»), имеющие комический характер, или, наоборот, торжественная либо архаическая лексика («зело», «древо», «око», «рекла», «словеса», «чадо», «аки»). Также он использует остроумные, неожиданные сравнения («взвилась лисица, как ястреб-птица»), заложенная в них ассоциативность позволяет ярко и лаконично описать героя или окружающую его обстановку. Смешение различных лексических пластов, сочетание старославянизмов с просторечием в речи лисы позволяет особенно ярко представить ее двуличность.
В процессе работы над сказкой главными для писателя становятся ясность и понятность для читателя, сохранение особенностей фольклорной поэтики и языка, так называемого «живого слова». Не зря он каждую свою новую сказку несколько раз читал вслух, корректируя ее в дальнейшем по реакции слушателей. Дело в том, что с течением времени язык меняется, многие слова уходят из оборота, становятся непонятными современному читателю. Поэтому, в своих вариантах он многое меняет для того, чтобы продлить сказке жизнь. Например, в сказке Шергина и варианте из сборника А.Н. Афанасьева (который мы считаем основным источником) можно выделить несколько групп отличий:
-
1) многие слова Шергин меняет, так как они непонятны современному читателю . Например, в сказке из сборника А.Н. Афанасьева петух обращается к лисе со словами «мати моя, лисица». Раньше такое выражение было понятным, так как подразумевало под собой обращение к наставнице. Шергин же корректирует это обращение как «мати духовная». То же самое происходит и во втором отрывке: «Пошла лиса в лес, яко долгий бес» (из сборника А.Н. Афанасьева), в сказке Шергина – «Ушла лиса в лес, подальше от сих мест»;
-
2) Шергин в некоторых случаях наоборот заменяет слова на старославянские, например, для придания образу лисы большей набожности: «Увидала петуха на древе высоком, взвела на него ясным оком и рекла таковы словеса…» [11, с. 137], «Завидевши петуха на высо-цем древе, говорит ему ласковые словеса…» [12, с. 26];
-
3) иногда автор для большей лаконичности сокращает текст ; из сказки исчезают, например, следующие отрывки: «О мати моя, лисица, сахарные уста, ласковые словеса, льстивый твой язык! Не осуждайте друг друга, и сами не осуждены будете; кто что посеял, тот и пожнет. Хочешь ты меня силой к покаянию привести и не спасти, а тело мое пожрать» [4, с. 26]; «О, мати духовная, лисица! Сахарны твои уста, ласковы словеса, льстивый твой язык… Боюсь я тебя» [13, с. 138];
-
4) писателем вносятся в текст изменения и религиозного плана : в сказке из сборника Афанасьева петух соблазняет лису службой у Трунчинского митрополита, тогда как у Шергина это папа римский. Также писатель заменяет притчу о мытаре и фарисее, про которую в назидание петуху вспоминает лиса, на упоминание о фараоне, несущее скорее юмористический эффект: «За гордость будешь погублен, аки фараон. Фараон-от возгордился, в море утопился, а мы возгордимся – куда сгодимся?»;
-
5) использует Шергин и современную специальную лексику : «Хорош-де будет петух в певчих, по солям петь знает и партес понимает»; «Восхваляли всем крылосом и собором : хорош молодец, изряден, горазд книги читать, и голос хорош» [14, с. 27];
-
6) в авторском тексте происходят изменения и бытового плана : «Выхлопочу я тебя во просвирни, будешь печь пироги да шаньги, блины да оладьи с яичком да с масличком, в посты с медами да с патокой» [15, с. 139]; «Станут нам давать сладкие просвиры, большие пере-печи, и масличко, и яички, и сырчики» [16, с. 27]. В авторском варианте про печение просвир забывается;
-
7) исчезают традиционные зачины и концовки сказок : например, в сказке из сборника Афанасьева еще сохраняется традиционная концовка «Ему же слава и держава отныне и до веку, и сказке конец». А в варианте Шергина сказка заканчивается словами лисы;
-
8) слова и целые предложения изменены для придания персонажам комического эффекта : «Лисица распустила слюни, развесила уши, расслабила когти» [17, с. 139]; «Узнала Лисица петушиный признак, отпустила Петуха из своих когтей послабже» [18, с. 27];
-
9) для текста Шергина характерно особое звучание, ритм и рифма. Одной из характернейших черт стиля сказок Шергина является наличие размеренной и рифмованной речи. Звуковые повторы в сказке членят текст на относительно соизмеримые отрезки (колоны), которые в конце синтаксических рядов (в клаузуле) образуют рифму. Ритмическое членение не является произвольным. Первый вид рифм Шергина - это те, в которых рифмуются близко стоящие слова. Такую рифму еще называют смежной. Она представлена в нескольких разновидностях. Рифмуется один, два или три последних слога: «скрипит, зрит», «сахарны, ласковы», «не постился, не молился», «ни бывала, не примала». Рифмуются один или два слога, к которым добавляется приставка: «возгордился, утопился», «заговорили, загоготали, залаяли, заржали, замычали, прибежали», «распустила, развесила, расслабила», «умилился, прослезился». Одновременно с конечной рифмой писатель использует звуковой повтор или перекличку гласных и согласных звуков: «возгордился, утопился», «погублен, фараон», «не постился, не молился». Другой вид - это рифмы, включенные в сказку ради балагурства: «Терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илия - потерплю же и я». Такую рифму принято называть пословичной, так как здесь представлена игра рифмами и созвучиями к собственным именам (сравним с паремией: «Наш Гришка не берет лишка»). Также писатель использует и грамматически разнородную рифму: «высоком, оком», «мати, не могу пребывати».
Таким образом, сказочное творчество Шергина позволяет понять, как развиваются в новых условиях традиции жанра, имеющего многовековую историю, который трансформируется, не исчезая, но существенно преобразуясь. Для сказки Шергина «Лиса-исповедница» характерны образность и афористичность языка, смешение различных лексических пластов, сочетание старославянизмов с просторечием, сближение с современной действительностью и тяготение к ритмизированной речи. Анализ сказки, предпринятый в данной статье, позволяет убедиться в том, что две чаши весов, на одной из которых – фольклорность сказок писателя, а на второй – их литературность, находятся практически в равновесии.
Ссылки: References (transliterated):
-
1. Шергин Б.В. Архангельские новеллы. М., 1936.
-
2. Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка / сост. Л.Г. Бараг, И.П. Березовский, К.П. Калашников, Н.В. Новиков. Л., 1979.
-
3. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева: в 3 т. / сост. А.Н. Афанасьев; подгот. текстов, предисл. и примеч. В.Я. Проппа. М., 1957.
-
4. Северные сказки: сборник Н.Е. Ончукова. СПб., 1909.
-
5. Кривополенова М.Д. Былины, скоморошины, сказки / ред., вступ. ст. и примеч. А.А. Морозова. Архангельск, 1950.
-
6. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева.
-
7. Кривополенова М.Д. Указ. соч.
-
8. Галимова Е.Ш. Проза Б.В. Шергина: автореф. дис. … канд. филол. наук. Горький, 1987.
-
9. Сюлькова Н.В. Жанровое своеобразие современной русской литературной сказки (на материале творчества Б.В. Шергина и С.Г. Писахова): авто-реф. дис. … канд. филол. наук. М., 1998.
-
10. Белов В.И. Лад: очерки о народной эстетике. М., 1982.
-
11. Шергин Б.В. Указ. соч.
-
1. Shergin B.V. Arkhangelʹskie novelly. M., 1936.
-
2. Sravnitelʹniy ukazatelʹ syuzhetov. Vostochnoslavyan-skaya skazka / comp. by L.G. Barag, I.P. Berezov-skiy, K.P. Kalashnikov, N.V. Novikov. L., 1979.
-
3. Narodnye russkie skazki A.N. Afanasʹeva: in 3 vols. / comp. by A.N. Afanasʹev; Prepared. texts, foreword. and comment. of V.Y. Propp. M., 1957.
-
4. Severnye skazki: collection of N.E. Onchukov. SPb., 1909.
-
5. Krivopolenova M.D. Byliny, skomoroshiny, skazki / ed., introd. article and comments of A.A. Morozov. Arkhangelʹsk, 1950.
-
6. Narodnye russkie skazki A.N. Afanasʹeva.
-
7. Krivopolenova M.D. Op. cit.
-
8. Galimova E.SH. Proza B.V. Shergina: avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Gorʹkiy, 1987.
-
9. Syulʹkova N.V. Zhanrovoe svoeobrazie sovremennoy russkoy literaturnoy skazki (na materiale tvorchestva B.V. Shergina i S.G. Pisakhova): avtoref. dis. … kand. filol. nauk. M., 1998.
-
10. Belov V.I. Lad: ocherki o narodnoy estetike. M., 1982.
-
11. Shergin B.V. Op. cit.
12.
Народные русские сказки А.Н. Афанасьева.
12.
Narodnye russkie skazki A.N.
Afanasʹeva
13.
Шергин Б.В. Указ. соч.
13.
Shergin B.V. Op. cit.
14.
Народные русские сказки А.Н. Афанасьева.
14.
Narodnye russkie skazki A.N.
Afanasʹeva
15.
Шергин Б.В. Указ. соч.
15.
Shergin B.V. Op. cit.
16.
Народные русские сказки А.Н. Афанасьева.
16.
Narodnye russkie skazki A.N.
Afanasʹeva
17.
Шергин Б.В. Указ. соч.
17.
Shergin B.V. Op. cit.
18.
Народные русские сказки А.Н. Афанасьева.
18.
Narodnye russkie skazki A.N.
Afanasʹeva
Список литературы Сказка Б. В. Шергина как объект фольклорно-литературного взаимодействия
- Шергин Б.В. Архангельские новеллы. М., 1936.
- Сравнительный указатель сюжетов. Восточносла-вянская сказка/сост. Л.Г. Бараг, И.П. Березовский, К.П. Калашников, Н.В. Новиков. Л., 1979.
- Народные русские сказки А.Н. Афанасьева: в 3 т./сост. А.Н. Афанасьев; подгот. текстов, предисл. и примеч. В.Я. Проппа. М., 1957.
- Северные сказки: сборник Н.Е. Ончукова. СПб., 1909.
- Кривополенова М.Д. Былины, скоморошины, сказки/ред., вступ. ст. и примеч. А.А. Морозова. Архангельск, 1950.
- Народные русские сказки А.Н. Афанасьева.
- Галимова Е.Ш. Проза Б.В. Шергина: автореф. дис.... канд. филол. наук. Горький, 1987.
- Сюлькова Н.В. Жанровое своеобразие современной русской литературной сказки (на материале творчества Б.В. Шергина и С.Г. Писахова): автореф. дис.... канд. филол. наук. М., 1998.
- Белов В.И. Лад: очерки о народной эстетике. М., 1982.