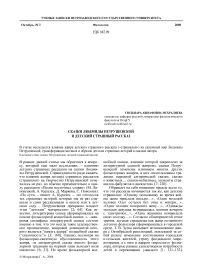Сказки Л. Петрушевской и детский страшный рассказ
Автор: Мехралиева Гюльнара Ашрафовна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (95), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется влияние жанра детского страшного рассказа («страшилки») на сказочный мир Людмилы Петрушевской, трансформация мотивов и образов детских страшных историй в сказках автора.
Сказка, петрушевская, детский страшный рассказ
Короткий адрес: https://sciup.org/14749459
IDR: 14749459 | УДК: 882.09
Текст научной статьи Сказки Л. Петрушевской и детский страшный рассказ
В рамках данной статьи мы обратимся к вопросу, который еще мало исследован, – влиянию детских страшных рассказов на сказки Людмилы Петрушевской. Справедливости ради скажем, что влияние жанра детских страшных рассказов (страшилок) на творчество Петрушевской отмечалось не раз, но обычно применительно к циклу рассказов «Песни восточных славян» (М. Ли-повецкий, А. Куралех, Д. Маркова, С. Поволяев). «По сути, – пишет А. Куралех, – это отголосок тех страшных историй, которые мы не раз слышали и сами рассказывали в школе или в детском саду… Петрушевская прекрасно владеет этим “детским” материалом» [2; 64]. Как известно, литературная сказка сформировалась на основе фольклорной волшебной сказки: «…жан-ровая специфика литературной сказки состоит именно в том, что это всегда такое художественное произведение, жанровой доминантой которого является “память жанра” волшебной сказки (“сказочность”)» [3; 160]. Однако, несмотря на фольклорно-сказочную обусловленность этого жанра, «в литературной сказке вместо фольклорной традиции на первый план выходит воля писателя» [6; 21]. Но кроме фольклорной вол- шебной сказки, влияние которой закреплено за литературной сказкой жанрово, сказки Петрушевской отмечены влиянием многих других фольклорных жанров, в них «использованы традиции народной сатирической сказки, сказки о животных… сказки-небылицы, элементы стра-шилок-фабулатов и анекдотов» [7; 220].
Обращает на себя внимание прежде всего то, что эти рассказы начинаются так же, как детские страшилки: «Одному полковнику во время войны жена прислала письмо…», «Один молодой человек Олег остался без отца и матери…», «Один человек похоронил жену…», «Однажды молодая девушка возвращалась зимним вечером с электрички…», «Одна женщина ненавидела свою соседку…». Согласно общепринятой точке зрения, детская страшилка как жанр потаенного детского фольклора сформировалась в городской среде. Т. В. Зуева связывает возникновение жанра с Октябрьской революцией, повлекшей за собой резкое изменение соотношения городских и сельских жителей, утрату феодального мировоззрения, а с ним и жанров «взрослого» фольклора, которые раньше удовлетворяли потребность детей в переживании ужасного [1; 131–132].
По мысли М. Н. Мельникова, «о позднем происхождении жанра говорит система его образов, бытовая атрибутика (милиционер, милиция, ученый, токарный станок, механическая кукла, рояль, радио, такси и т. д. и т. п.)» [5; 77]. Но, как указывают О. Ю. Трыкова и К. А. Рублев, жанр существовал гораздо раньше; для доказательства этого тезиса они приводят в пример рассказ А. Н. Толстого «Фофка» (1918), отразивший «мир тревожного воображения городских детей XX века» [12; 44].
В своих сказках Петрушевская обращается к сюжету страшилок о предмете-злодее, выделенных в особый тип С. М. Лойтер [4; 129]. Это большой класс детских страшных историй, рассказывающих об опасных предметах: желтых шторах, зеленом пистолете, пианино, белых перчатках и др. «Опасной становится в страшилке и просто новая вещь, – пишет М. Осорина, – не принадлежащая к домашнему кругу, недавно принесенная извне: купленная на день рождения новая кукла оказывается вампиром, белая статуэтка балерины ночью протягивает руку и колет иголочкой с ядом, а в черном пианино сидит злая колдунья» [8; 43].
Прежде всего, влияние этого сюжета ощущается в «Сказке о часах». Как предмет-злодей в сказке выступают часы: тому, кто их завел, нужно будет заводить их – сначала каждый час, а потом все чаще, пока часы не остановятся прежде, чем их успеют завести. В сказке присутствует и популярный в детских страшных историях мотив материнского запрета (запрет надевать часы) и его нарушения дочерью, а также мотив постепенного приближения к смерти (в страшилках мама непослушной девочки приходит домой сначала без одной руки, затем без второй, без ноги, без второй, а потом не приходит вовсе). У этих часов есть и свойственная предметам-злодеям страшная предыстория: они убили бабушку девочки. Но история эта, основываясь на приемах страшилки, обретает смысл, которого в страшилке нет. В фольклорных страшилках зло, воплощенное в образах ведьм, мертвецов, радио, занавесок, пластинок и т. д., – непонятно, иррационально, неясно его происхождение, зло существует ради самого зла. В «Сказке о часах» предмет не наделен собственной злой волей, но наделен смыслом. Часы просто отмеряют жизнь того, кто их завел, а если они пойдут сами, то умрет старушка, которая «каждый вечер выпускает ночь и дает отдохнуть белому свету» [9; 168–169], а с ней и день. Для этого и существуют часы. Они одновременно гарантируют существование мира (старушка запрещает их разбивать) и означают его конечность. Но главное, что отличает сказку от страшилки и делает «Сказку о часах» все-таки сказкой, – счастливый конец. Глупая и капризная девочка вынудила свою мать завести часы, а узнав правду, даже не пожалела ее, а только разозлилась, что не сможет носить их в школу. Но когда она повзрослела и сама родила дочку, она завела часы у постели умирающей матери. И тогда проходившая мимо окон старушка сказала: «Ну что же, пока мир остался жив» (171). Мир остается жив до тех пор, пока живы любовь родителей и детей, пока они могут жертвовать собой и нести ответственность за себя и друг за друга.
Этот прием детского страшного рассказа – появление в жизни ребенка безопасного с виду, но несущего зло предмета, – Людмила Петрушевская использует и в сказках «Волшебные очки» и «Волшебная ручка». Предмет-вредитель, попавший в сказку из страшилки, с самого начала не угрожает смертью, тогда как «страшилка… всегда стремится к максимальной степени трагизма» [12; 38]. По оценке С. М. Лойтер, в 90 % случаев сверхъестественные силы в страшилке смертоносны [4; 87]. В обеих сказках Петрушевской предмет попадает в дом главных героев из магазина – места, являющегося «заманчивым и одновременно опасным пространством», которое пугает ребенка своим многолюдьем и где он боится заблудиться [14; 116]. Детские переживания отвечают культурным архетипам, в соответствии с которыми «поездка на ярмарку ассоциировалась с путешествием в иной мир, полный вражды и опасности» [14; 117]. Поэтому многочисленные предметы-вредители, встречающиеся в страшилках, часто попадают в дом из потенциально опасного пространства магазина.
Волшебные очки из одноименной сказки были куплены вопреки материнскому наказу купить тетради (ср. с запретом в страшилке: не покупать черные шторы, белый бант…). Важно и то, что «очень дешевые черные очки» (276), которые купила девочка, отмечены значимым цветом как для детской мифологии, так и для взрослой культуры в целом. Очки, являясь поначалу желанными (они могут действовать одновременно как микроскоп и телескоп), больше вредят, чем помогают. Девочка видит множество микробов, в том числе на мыле и на полотенце, отчего вскоре перестает носить очки днем, зато ночью она может наблюдать «дивную жизнь светил» (277), но и это не мешает очкам осуществлять вредительскую функцию: из-за бессонных ночей девочка плохо учится в школе, а рассказы о жизни на других планетах заставляют ее опасаться перевода в «школу для дураков» (278). Неожиданный случай (благодаря очкам девочка спасла похищенного ребенка) полностью изменяет значение и роль этого волшебного предмета: героиня решает помогать взрослым людям, а увидев «три миллиона микробов» (284) на детской бутылочке с молоком, девочка думает: «Некоторые вещи лучше не замечать, не все в этом мире совершенно» (284). Изменение речи героини фиксирует изменение ее сознания и говорит о том, что она повзрослела. Так переворачивается фольклорная функция предмета-вредителя: очки начинают играть воспитательную роль, превращаясь из вредителя в помощника.
Как и персонажи страшилок, которые «условны и безымянны» [8; 43], герои сказки не имеют имен, но не являются при этом архетипичными. Перед нами – психологически достоверные персонажи литературной сказки. Вот как, например, начинается сказка «Волшебная ручка»:
«Однажды в магазин явилась мамаша с ребенком купить ему ручку.
Мамаша, разумеется, хотела купить ручку подешевле, а ребенок хотел купить ручку получше. <…>
А тут же стоял колдун, который пришел за чернилами: мало ли нужны чернила, и все тут.
Но мамаша с ребенком все никак не могли купить достаточно дешевую и в то же время самую хорошую ручку, и терпение у колдуна лопнуло» (127).
Так в руки героев попадает ручка, обладавшая вредным свойством: все написанное ею стиралось из памяти пишущего.
Поведение злого волшебника в какой-то степени оправданно – он устал дожидаться своей очереди и подарил мальчику опасную ручку. Но уже с начала рассказа Петрушевская прибегает к своему излюбленному приему – обману читательских ожиданий. Вместо ожидаемой серии казусов в школе, которые неминуемо произойдут с мальчиком, пишущим волшебной ручкой, читатель следит за перемещениями ручки от сына к маме, от мамы – к семейству воров, которое предмет-злодей перевоспитывает: они просто забывают свое воровское искусство. Злой волшебник оказывается вовсе не злым: его поступки дальновиднее, чем может показаться на первый взгляд. Таким образом, достигается обязательный для сказок Петрушевской счастливый финал. «Автор словно говорит, – пишет об этом Е. Тиновиц-кая, – я могу делать что угодно, могу прийти к счастливому концу мотивированно или немотивированно, могу довести все до полного абсурда, поставить с ног на голову и поиздеваться над читателем, но обязательно все будет хорошо» [11; 168].
Впрочем, такое же стремление к обязательно хорошему концу существует и внутри жанра детских страшных историй. Это особый тип страшилок, называемый «антистрашилками». Антистрашилки распространены в среде более старших детей, «на уровне сознательного отрицания чудесного путем его пародирования или обнаружения его иллюзорности через развитие материалистических мотивировок» [1; 148]. По словам В. Я. Проппа, «пародия состоит в том, что повторяются или приводятся внешние черты явления при отсутствии внутреннего содержания» [10; 73]. Пародийные страшилки в целом воспроизводят образы и мотивы традиционных страшилок, но в них исчезает самое главное – страшное, а зачастую и сверхъестественное.
Как и сказки Петрушевской, антистрашилки построены на противоречии ожидаемого и действительного, что часто ведет к комическому эффекту, который обязательно следует за нагнетанием страха у слушателей. «Пародийный характер повествования поначалу скрыт от слушателей. – пишет М. П. Чередникова. – Его осознает только рассказчик, которому важно воссоздать убедительное подобие “страшного рассказа”». Комический «перевертыш возникает благодаря неожиданной развязке, которая лишена трагедии и переводит повествование в будничный, бытовой план. Мистическое свойство предмета-вредителя заменяется простейшим логическим объяснением» [14; 196]. Так, в одной из страши-лок-самозаписей, опубликованных Э. Успенским, на кухне в доме слышится «кап-кап-кап», все члены семьи по очереди уходят и не возвращаются, а когда самый младший ребенок приходит на кухню, он видит, что «там вся семья кран закручивает» [13; 185].
Одна из сказок Л. Петрушевской типологически полностью соответствует сюжетной схеме страшных историй этого типа. Это «Сказка с тяжелым концом», которая рассказывает о Лунной ночи, потерявшей пуговку от рукава, и обещает своим названием несчастливый финал, однако заканчивается вполне благополучно и (в соответствии с некоторыми из антистрашилок) неожиданно. Лунная ночь осветила все на земле, но так и не нашла пуговку, зато ее «нашли рабочие на стройке в котловане да и сдали свою находку в музей, специально гоняли экскаватор.
Она теперь лежит там в витрине с надписью: “Руками не трогать. Метеорит. Вес шестнадцать тонн”» (10).
В сказке «Сны девочки» присутствует мотив предсказания смертей родных, сходный со «стра-шилочным»: «…твои родители умрут. Отец сегодня, а мать завтра» (183) – угрожает слуга колдуна девочке, которая не соглашается выйти за него замуж. Принцесса, не поверив поначалу незнакомому человеку, в ту же ночь теряет отца. После этого девочка соглашается на условия, предъявленные колдуном: стать тридцать пятой девушкой, которая уезжает с ним «по собственному желанию» (186), если колдун оживит ее отца.
По отношению к этой сказке справедливы слова исследователя, определяющие жанровые особенности страшилки: «Для страшилки характерен острый трагический конфликт, который развивается на основе противостояния и борьбы двух традиционных фольклорных систем: “добра” и “зла”» [5; 77]. В сказке «Сны девочки» на первый план выходит воля главного героя – принцессы, как это происходит в страшных рассказах детей старшего возраста, в которых ведущая роль принадлежит не иррациональному всепобеждающему злу, не милиционеру или сыщику, а ребенку, который вступает в противостояние с антагонистом. В данном случае в роли антагониста выступает колдун – персонаж, встречающийся во многих страшных рассказах наряду с ведьмами, вампирами, оборотнями, обязанными своим происхождением жанру бы- лички. Несмотря на то что все события, произошедшие с девочкой, оказались сном, она вышла победителем из противостояния с колдуном. Узнав, что они плывут на корабле в страну мрака, которая снится людям в страшных снах, она догадывается, что попала в страшный сон, и осторожно, хитростью выведывает у колдуна, как выбраться из кошмара: «…надо… спросить у первого попавшегося прохожего: “Ты кто?” И сон кончится» (188).
Сюжет рассказа Петрушевской «Сны девочки» – прекрасный пример того, как детская литература помогает ребенку, переживая страшное, подготовиться к переживанию страшного в жизни.
Язык прозы Петрушевской, неправильный, наполненный просторечными словами, жаргонизмами, канцеляризмами, максимально сближается с разговорной интонацией, языком толпы. Язык ее сказок, в целом свободный от жаргонных включений, сохраняет разговорную интонацию, синтаксические неправильности, общую установку на «устность». Это язык городского обывателя, которым и рассказываются «случаи» и страшилки.
Таким образом, детские страшные рассказы, являясь частью детской мифологии, «оказываются для ребенка своеобразным средством познания мира, средством вхождения в культуру, средством психической саморегуляции и развития воли» [14; 209]. Людмила Петрушевская, включая в сказки элементы страшилок, говорит на языке мотивов и образов, понятных ребенку, имеющих значение для развития его воображения, эстетического чувства, эмоциональной устойчивости. «Кажется, витамин Страха нужен для духовного развития ребенка не меньше, чем все другие витамины», – пишет Э. Успенский [13; 149]. Петрушевская добавляет «витамин Страха» дозированно (лишь в нескольких сказках мы обнаружили элементы поэтики детского страшного рассказа), при этом у всех сказок – хороший конец, достаточно редкий в страшилке, но обязательный для сказочного мира Людмилы Петрушевской.
Список литературы Сказки Л. Петрушевской и детский страшный рассказ
- Зуева Т. В. Категория чудесного в современном повествовательном фольклоре детей//Проблемы интерпретации художественных произведений: Межвузов. сб. науч. тр. М.: Изд-во МГПИ им. Ленина, 1985. С. 131-148.
- Куралех А. Быт и бытие в прозе Людмилы Петрушевской//Литературное обозрение. 1993. № 5. С. 63-67.
- Липовецкий М. Н. Поэтика литературной сказки (на материале русской литературы 1920-80-х годов). Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1992. 184 с.
- Лойтер С. М. Русский детский фольклор и детская мифология: Исследования и тексты. Петрозаводск: Изд-во КГПУ, 2001. 296 с.
- Мельников М. Н. Русский детский фольклор. М.: Просвещение, 1987. 240 с.
- Неелов Е. М. Сказка, фантастика, современность. Петрозаводск: Карелия, 1987. 126 с.
- Овчинникова Л. В. Русская литературная сказка XX века. История, классификация, поэтика: Учеб. пособие. М.: Флинта; Наука, 2003. 312 с.
- Осорина М. «Черная простыня летит по городу», или Зачем дети рассказывают страшные истории//Знание -сила. 1986. № 10. С. 43-45.
- Петрушевская Л. С. Собр. соч.: В 5 т. Харьков: Фолио; М.: ТКО АСТ, 1996. Т. 4. С. 168-169. Далее цитирую по этому источнику с указанием в круглых скобках страницы.
- Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре (по поводу сказки о Несмеяне). М.: Лабиринт, 2007. 256 с.
- Тиновицкая Е. Терапия вместо «морали». Об одной новейшей тенденции в отечественной детской литературе//Вопросы литературы. 2007. № 4. С. 157-176.
- Трыкова О. Ю., Рублев К. А. Художественная литература и страшный детский фольклор (аспекты взаимодействия)//Проблемы детской литературы и фольклор. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1992. С. 34-48.
- Успенский Э. Н.Собр. соч.: В 10 т. СПб.: Экономика, 1993. Т. 10. 287 с.
- Чередникова М. П. «Голос детства из дальней дали.» (Игра, магия, миф в детской культуре). М.: Лабиринт-Пресс, 2002. 224 с.