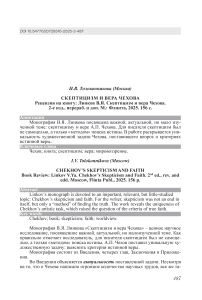Скептицизм и вера Чехова Рецензия на книгу: Линков В.Я. скептицизм и вера Чехова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Флинта, 2025. 156 с.
Автор: И.В. Толоконникова
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Обзоры и рецензии
Статья в выпуске: 3 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
Монография В.Я. Линкова посвящена важной, актуальной, но мало изученной теме: скептицизму и вере А.П. Чехова. Для писателя скептицизм был не самоцелью, а только «методом» поиска истины. В работе раскрывается уникальность художественной задачи Чехова, поставившего вопрос о критериях истинной веры.
Чехов, книга, скептицизм, вера, мировоззрение
Короткий адрес: https://sciup.org/149149417
IDR: 149149417 | DOI: 10.54770/20729316-2025-3-487
Текст научной статьи Скептицизм и вера Чехова Рецензия на книгу: Линков В.Я. скептицизм и вера Чехова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Флинта, 2025. 156 с.
Chekhov; book; skepticism; faith; worldview.
Монография В.Я. Линкова «Скептицизм и вера Чехова» – ценное научное исследование, посвященное важной, актуальной, но малоизученной теме. Как правильно отмечает исследователь, для писателя скептицизм был не самоцелью, а только «методом» поиска истины. А.П. Чехов поставил уникальную художественную задачу: выяснить критерии истинной веры.
Монография состоит из Введения, четырех глав, Заключения и Приложения.
Во Введении объясняется актуальность поставленной задачи. Несмотря на то, что о Чехове написано огромное количество научных трудов, все же та- кие проблемы его творчества, как скептицизм и вера, изучены недостаточно. Можно даже сказать, что не изучены совсем. И они ждут своего исследователя. И данная монография вносит существенный вклад в их исследование. В этом заключается ее важность, новизна и актуальность.
Известно, что предшественники Чехова – Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский – были глубоко верующими людьми и религиозными писателями:
…они сохранили верность высшему назначению искусства в эпоху «неверия и сомнения» (Достоевский) и создали уникальные произведения, которых, по нашему мнению, не было ни до, ни после них. Только у них мы находим образы героев, преодолевших безверие и обретших высшую всеобъемлющую истину, героев, нашедших Бога [Линков 2025, 7–8].
Чехов был далек от религиозных идей. Он не был набожным человеком, несмотря на то, что поздравлял своих друзей с Пасхой и Рождеством, и в его произведениях встречаются верующие герои (Иван Великопольский в рассказе «Студент»), служители церкви (дьячок из рассказа «Канитель», архиерей из одноименного рассказа). Иногда он упоминал Бога в своих высказываниях. Свою «нерелигиозность» писатель объяснял следующим образом:
Я получил в детстве религиозное образование и такое же воспитание. <…> Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрачным; религии у меня теперь нет. Знаете, когда, бывало, я и два моих брата среди церкви пели трио «Да исправится» или же «Архангельский глас», на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками [Чехов 1974–1983, V, 20].
До Чехова так не говорил ни один русский литератор. Писатели были либо религиозными, либо ничего не говорили о своих взглядах.
Еще одним идейным направлением в русском обществе и литературе того времени была вера в прогресс, в революцию. Это придавало смысл жизни и творчеству таких писателей, как Н.Г. Чернышевский и Н.А. Некрасов, и определяло весь строй их произведений. Но революционером Чехов тоже не был.
Естественно возникает вопрос: если не религия и не революция – две самые популярные веры того времени, то какая же вера была у Чехова? Ответ на этот очень непростой вопрос дан в книге В.Я. Линкова.
Начнем с высказываний самого Чехова, приведенных в монографии: «У человека слишком недостаточно ума и совести, чтобы понять сегодняшний день и угадать, что будет завтра, и слишком мало хладнокровия, чтобы судить себя и других» [Чехов 1974–1983, II, 309].
В вариантах рассказа «Хорошие люди» есть одно рассуждение, в котором выражена авторская мысль:
Нечестно лечить, не зная медицины или судить вора, не познакомившись предварительно с делом, но странно, в общежитии не считается бесчестным, если люди, не подготовленные, не посвященные <…> берутся хозяйничать в той области мысли, в которой они могут быть только гостями [Чехов 1974–1982, V, 586].
Как ни один другой русский писатель, Чехов, признавая недостаточность своих возможностей, умел воздерживаться от суждения и сказать: «Не знаю». Одобрения, с его точки зрения, заслуживает не тот, кто уверенно отвечает на вопрос, а тот, кто способен признаться в своей недостаточной компетентности: «Истинное знание начинается с того момента, когда человек сознает свое незнание» [Линков 2025, 27].
В частности, Чехов положительно оценивал отказ судить о достоинствах современных ему писателей: «Кто из нас прав, кто лучше? Аристархов ответил бы на этот вопрос, Скабичевский тоже. Но мы с Вами не ответим и хорошо сделаем» [Чехов 1974–1983, II, 309].
Какой вывод отсюда следует? В.Я. Линков предлагает такие варианты ответа:
Чехов пытается убедить читателя в ценности личного опыта, который не может заменить никакое теоретическое знание. Только благодаря своему опыту человек может обрести убеждения, делающие его самостоятельной личностью [Линков 2025, 25];
Писатель хочет сказать, что нельзя, будучи сторонним наблюдателем, постичь истину. Необходима самостоятельная упорная духовная деятельность, неустанная работа мысли, вытекающая из сознания, что никто не обладает готовой истиной, которую можно получить в виде подарка [Линков 2025, 26].
Многие современники и предшественники Чехова были уверены, что они все знают, и такая излишняя самоуверенность была одной из характерных черт эпохи, тем более что вся литература того времени не только не разрушала эту уверенность, а даже невольно усиливала ее, поэтому значение чеховской мысли исключительно велико [Линков 2025, 27]. Чехов поставил важную задачу – поколебать эту самоуверенность, поскольку она «притупляет нравственное чувство и способность к свободному самостоятельному поступку в конкретной ситуации» [Линков 2025, 26]. Именно поэтому многих героев Чехова отличала духовная инертность и внутренняя несамостоятельность мышления: они были уверены, что им все известно и понятно, и при этом они часто были пленниками своих же догм и концепций.
Предшественники Чехова требовали от художника обязательного разрешения всех поставленных вопросов, не понимая, что человека всегда во все времена окружают проблемы и неразрешенные, и неразрешимые для данного времени. У Чехова был совершенно другой подход:
Требуя от художника сознательного отношения к работе, Вы правы, но Вы смешиваете два понятия: решение вопроса и правильная постановка вопроса (курсив автора – И.Т. ). Только второе обязательно для художника. В «Анне Карениной» и в «Онегине» не решен ни один вопрос, но они Вас вполне удовлетворяют потому только, что все вопросы поставлены в них правильно. Суд обязан ставить правильно вопросы, а решают пусть присяжные, каждый на свой вкус [Чехов 1974–1983, III, 46].
Чехов часто изображал людей, которые поступают вопреки своим словам и убеждениям. Они «совершают ошибки не по незнанию, а в силу духовной несамостоятельности. Поэтому главное для Чехова – пробудить у читателя личное отношение к себе и к миру» [Линков 2025, 28]. Духовная же несамостоятельность, как правило, является следствием догм и концепций, которых придерживается человек.
Таким образом,
…скептицизм служил ему защитой от пессимизма, в котором его нередко обвиняли. Отсюда его критическое отношение к идеям современности, которые все роились вокруг идеи «светлого будущего», признавая или не признавая его. Они служили незыблемым основанием для суждений о всех предметах: искусстве, государстве, отдельном человеке, науке и т.д. Таких основных оценок было две соответственно полюсам зла и добра – прогрессивное (передовое, гуманное, новое, новаторское) и консервативное (отсталое, реакционное, старое, традиционное, антигуманное, косное). Они заменили понятие истинности. То, что прогрессивно, то истинно, консервативное означает устаревшую истину, то есть идею, переставшую быть истиной. Таким был нравственный климат эпохи, он исключал всякое сомнение в возможности судить, оценивать каждого, кто опирался на идею прогресса [Линков 2025, 30].
Чехов был с этим решительно не согласен и подвергал подобные взгляды критике. Он пытался объяснить, почему люди становятся приверженцами различных идей и учений. Здесь и бездарности, которые хотят казаться выше среднего уровня, и шарлатаны, и «тип дурачка, который верует в то, что бормочет, но мало или совсем не понимает того, о чем бормочет» [Линков 2025, 34].
«Боже, не позволяй мне осуждать или говорить о том, чего я не знаю и не понимаю» [Чехов 1974–1982, XVII, 180] – данное высказывание Чехова говорит о многом. Прежде всего оно помогает нам понять его творческое credo : «Эти строки представляют собой законченное творение редкого жанра – молитвы, из которой видно, что Чехову самому требовались немалые усилия для воздержания от безответственных суждений» [Линков 2025, 32].
Ни в одном своем произведении Чехов не судил о каких-либо идейных течениях своего времени, о которых активно спорили его персонажи. Он как бы «распределял роли», стоя в стороне от этих споров. Вспомним, например, спор Лиды с художником в рассказе «Дом с мезонином»: Лида является сторонницей теории малых дел, художник – противником, и он выражает точку зрения Л.Н. Толстого. Чехов не принимал ничью сторону, поскольку не верил ни в какие идеи. Если герои знаменитых русских романов были носителями идей и действовали согласно своим убеждениям, то герои Чехова не поступают, руководствуясь идеями [Линков 2025, 34].
Герои писателей – предшественников Чехова (Гончарова, Тургенева, Достоевского) – герои мировоззрения. Таковыми, например, были Адуев, Обломов, Рудин, Базаров, Нежданов, Андрей Болконский, Пьер, Нехлюдов, Зосима, Иван и Алеша Карамазовы. И они действуют в согласии со своими идеями. Авторы этих романов ставили вопрос, насколько эти идеи продуктивны: какие из них верны и приведут страну и человечество к гармонии и процветанию, а какие – ошибочны и грозят хаосом и разрушением [Линков 2025, 42].
Главная суть произведений Чехова не в идеях его героев:
Консерватизм и либерализм <…> не представляют для меня главной сути… [Чехов 1974–1983, III, 10];
Я боюсь тех, кто между строк ищет тенденции и кто хочет видеть меня непременно либералом или консерватором. Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах, не индифферентист. Я хотел бы быть свободным художником и – только [Чехов 1974–1983, III, 11];
В его произведениях нет традиционного для русского романа героя, ищущего смысл жизни, меняющего свои взгляды [Линков 2025, 36].
У Чехова нет героев, которые живут и поступают в согласии со своими осознанными убеждениями, за исключением профессора Николая Степановича («Скучная история») и Коврина («Черный монах»).
Таково новое слово Чехова в литературе. Он показал духовную патологию «идейных» людей, причина которой была одна – отсутствие внутренней свободы [Линков 2025, 38].
Эти мысли В.Я. Линков развивает на примере трех наиболее значимых, по мнению автора, повестей Чехова: «Скучная история», «Дуэль», «Черный монах», «Моя жизнь». Каждому из этих произведений посвящена отдельная часть монографии.
В первых трех произведениях выражены мысли самого общего порядка – философского, раскрывающие не какие-то частные, отдельные черты действительности, а главные проблемы современного мира и человека в целом. В них не только ставятся вопросы, но и даются ответы, устанавливаются причины, объясняющие судьбы героев. В этом отношении они близки к романам Пушкина, Гончарова, Тургенева, где объясняется, что предопределило судьбы их героев [Линков 2025, 41].
Все же эти произведения очень различаются. Главный герой «Скучной истории» Николай Степанович открывает для себя «причину, изменившую его мироощущение, превратившую его из “короля” в “раба”» [Линков 2025, 71]. В «Дуэли» события, образующие сюжет, приводят героя к решению поставленных перед ним житейских и жизненных задач. Это единственный случай в творчестве писателя. В «Черном монахе» показана неведомая герою сила, разрушившая его жизнь и жизни его ближних. Во всех трех повестях герои взяты не в повседневности, а в исключительных, «пограничных» ситуациях, с ними происходят события далеко не каждодневные [Линков 2025, 71].
Герои Чехова – «обыкновенные», «средние» люди. Однако главный герой «Скучной истории» – образ, казалось бы, совершенно безупречный, неуязвимый ни для какой критики:
Его герой врач, очевидно принесший большую пользу. Прекрасно сложилась его личная жизнь, он, в отличие от большинства героев русского романа, создал семью, женившись по любви. Полная гармония и благополучие. Казалось бы, вот положительный герой, которого так жаждало русское общество. Это не Штольц, не Обломов и даже не Базаров и не его коллеги-медики из «Что делать?», неизмеримо уступа- ющие ученому с мировым именем. Но в повести рассказывается не о том, как ее герой создавал свое положение, а о том, что все, чего он достиг, вдруг обратилось в ничто (выделено В.Я. Линковым. - И.Т.). И здесь становится ясно, что максимализм «положительности» героя понадобился автору для выражения абсолютного значения чего-то такого, без чего ничто, по его мнению, не имеет никакой ценности в жизни человека [Линков 2025, 43].
Однако герой понимает, что все его достижения не могут служить ему моральной опорой в жизни. Как врач он ставит себе диагноз смертельной болезни, оставляющей ему жизненный срок – полгода.
В повести «Дуэль» Чехов полемизирует с литературными предшественниками. «Никто не знает настоящей правды» [Чехов 1974–1982, VII, 453] – эта мысль, «завершающая “Дуэль”, означает, что все многочисленные общественно-политические идеи, независимо от их ориентации – либеральные, революционные, консервативные, реакционные, все философские теории и системы, все религиозные учения – вне истины» [Линков 2025, 72].
Чехов «не принял ни одну из многочисленных идей современности, ни одно учение, никакую идеологию или религию в качестве “настоящей правды”. Такова была его уже неизменная позиция и последнее твердое слово» [Линков 2025, 95].
В.Я. Линков справедливо отмечает, что исследователи по-разному трактуют рассказ Чехова «Черный монах» и образ главного героя. А в чем видит смысл произведения автор монографии?
Герой рассказа «Черный монах» – герой мировоззрения, как многие главные герои русских романов. Идея Коврина рождена эпохой. Она открыта Чеховым, как нигилизм – Тургеневым, как «подполье» – Достоевским, как «самая простая и самая ужасная» жизнь человека – в «Смерти Ивана Ильича» Толстым [Линков 2025, 97].
Идея, руководящая жизнью Коврина, принадлежит человеку, страдающему тяжелым психическим заболеванием. Уже этим она «безоговорочно дискредитирована». Уже поэтому она не может дать правильные ориентиры в жизни. Но не только.
В чем же ее порочность, в чем заблуждение главного героя? Ведь ни слава, ни богатство, ни власть не интересуют Коврина. Его идея на первый взгляд кажется не только бескорыстной, но и благородной. Он хочет посвятить свою жизнь служению человечеству. Как он думает, благодаря особым, необыкновенным людям – «избранникам божьим», к которым Коврин себя относит, человечество войдет в «царство вечной правды». Для героя важно сознание своей значимости не во мнении людей, а в своем собственном глубоком ощущении:
Для Коврина его идея не предмет праздных разговоров, не средство отвлечения от своих истинных проблем, а действительный смысл жизни. Обладание им приносит ему радость, потеря – скуку [Линков 2025, 98–99].
Коврин был убежден, что только необыкновенные люди живут полноценной, радостной жизнью, а удел остальных – серое, бездуховное прозябание в ожидании, когда «избранники божии» введут их в царство истины и красоты. Необыкновенность, таким образом, становится залогом спасения человека.
Отсюда возникает колоссальная жажда самоутверждения в профессиональной деятельности ученого, легко обретающая форму мании величия. Вот в этом и заключается глубокое противоречие ковринской философии, ее слабость:
Потеряв представление о собственной значимости, которое наполняло его душу гордостью, сознанием собственной высоты, он потерял все (выделено В.Я. Линковым. - И.Т.). Лишилась смысла работа, разладились отношения с близкими, исчезла красота природы [Линков 2025, 98–99].
Разумеется, Чехов ценил в людях и талант, и гениальность. Но, как говорится, не сотвори себе кумира. И все же он больше писал об «обыкновенных людях».
Стремление к величию, славе может принимать патологическую форму, как это показано в «Черном монахе»:
Истинная вера человека, придающая смысл всей его жизни, названа у Чехова «общей идеей», в частности и потому, что она должна обязательно стать общей для многих людей. Между тем, убеждения Коврина предельно, абсолютно частны, индивидуальны и принципиально непередаваемы другим. Ведь его вера основана на галлюцинации, которую видит только он один во всем мире. Самое сокровенное, самое дорогое, что есть у Коврина, он не может разделить ни с кем, даже со своими близкими, в конце концов, потому, что его любимая идея есть субъективная иллюзия [Линков 2025, 109].
И неподлинность, ложность ее сказалась именно в том, что она не соединяла его с ближними, а разъединяла.
Следует отметить, что перед нами второе издание данной книги. Первое вышло в издательстве Московского университета в 1995 г., но подверглось существенной доработке и дополнению. В частности, была добавлена часть, посвященная повести «Моя жизнь», что очень важно, так как ни прижизненная, ни последующая критика не уделила этому произведению должного внимания – того внимания, которое она заслуживает.
Повесть не отличается ярко выраженным сюжетом. Рассказчик просто повествует о том, что он видел, чувствовал, думал в процессе самой жизни, и это создает совершенно особую, до Чехова не известную картину мира и человека. Писатель озабочен, чтобы именно она предстала перед читателем, чтоб ничто ее не нарушало [Линков 2025, 124].
В «Моей жизни» нет ответа на вопрос, почему так сложилась судьба главного героя: «В ней не анализируются мотивы его поступков, они присутствуют в неясной, скрытой форме, и автор не отдает им предпочтения, не выделяет их из потока жизни героя» [Линков 2025, 122].
Особенно важно, что главный герой – Мисаил – не только говорит, но живет в согласии со своим словом, чем отличается от многих героев Чехова, отмеченных противоречием между искренней верой в свою нравственную жизнь и злом, приносимом ближним.
Время – главное и постоянно ощутимое начало в «Моей жизни», ничем не заслоняемое. Оно как основной признак человеческого существования выхо- дит у Чехова на первый план, поскольку оно беспрерывно движется и присутствует в каждой точке произведения:
Незначительно в конечном счете то, что временно, что проходит, не будучи вовлечено в движение сцепленных событий и деталей, оно и делает время ощутимым. <…> Преходящее – ничтожно; значительно то, что вечно [Линков 2025, 125].
Вывод, к которому приходит автор:
В отличие от своих предшественников, поглощенных выяснением ценности идей и мировоззрений, он (Чехов – И. Т. ) обратился к тому, что лежит глубже всяких идей. Осознавая себя через идею, человек постоянно ошибается: излюбленная ситуация у Чехова – ослепление героя идеей («Дуэль», «Палата № 6», «Черный монах»). В конечном счете, будничное жизненное самоощущение человека является основой для постижения окружающего мира и главным стимулом его поступков.
Новизна мысли повести принципиальная, она в изменении направления движения, в повороте . Следование традиции у Чехова заключается не в прямом движении дальше вслед за Л. Толстым и Достоевским, а в интересе к фундаменту тех духовных начал, которыми они были заняты [Линков 2025, 130];
Мысль о значительности жизни для каждого человека независимо от его одаренности прозвучала и в «Скучной истории», и в «Черном монахе», где не высшие способности, свойственные отдельным личностям, а скорбь – всеобщий удел человека на земле – связывает его через страдания с вечностью [Линков 2025, 135].
В Заключении содержатся выводы, в частности то, что Чехов – писатель, программа которого – «абсолютнейшая свобода» [Линков 2025, 139]. Свобода необходима в поисках смысла жизни.
Еще одним замечательным добавлением к изданию 1995 г. является Приложение – статья «Лев Шестов – критик Чехова», где предлагается критическое рассмотрение известной работы Льва Шестова о Чехове «Творчество из ничего» (1908).
Статья Шестова тенденциозна. Автор не только приписывает Чехову то, чего у него нет, но и не видит того, что у него есть. В частности, он не замечает его скептицизма. Но все же статья, написанная в 1908 г., несмотря на свою тенденциозность, не утратила своего значения и в наши дни. В.Я. Линков дает этому объяснение в своем аналитическом разборе.
Книга написана простым и ясным языком, выразительным и точным. Она предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей, широкого круга читателей. Монография В.Я. Линкова – очень информативная, нужная, полезная, а главное – очень своевременная книга, издание которой можно только приветствовать.