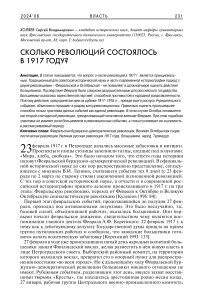Сколько революций состоялось в 1917 году?
Бесплатный доступ
В статье показывается, что вопрос о числе революций в 1917 г. является принципиальным. Традиционный для советской исторической науки и части современной историографии подход с двумя революциями - Февральской и Октябрьской - не позволяет в должной мере оценить действия большевиков. Последствия Февраля были слишком разрушительными для российского государства. Большевики оказались единственной партией, способной противостоять народной вседозволенности. Поэтому действия, предпринятые ими на рубеже 1917-1918 гг., прежде всего роспуск Учредительного собрания, объективно попадают в разряд контрреволюционных. Правильно оценить происшедшее способна только трактовка данных событий как единой революции. В этом случае Октябрь понимается как второй этап единой революции, преодолевающий негативное влияние Февраля. При этом подобная трактовка не умаляет роли большевиков в революционных событиях, а только усиливает ее значимость в рассматриваемый период.
Февральская буржуазно-демократическая революция, великая октябрьская социалистическая революция, великая русская революция 1917 года, большевики, народ, термидор
Короткий адрес: https://sciup.org/170207775
IDR: 170207775 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-6-231-237
Текст научной статьи Сколько революций состоялось в 1917 году?
Первый этап февральских событий, продолжавшийся до полудня 27 февраля, проходил под антивоенными лозунгами. Это было неслучайно, т.к. базовой силой, объединившей рабочих, оказались большевики. Они первыми начали февральское движение, свидетельством чему являются воспоминания главного деятеля Февраля А.Ф. Керенского. 22 февраля 1917 г. к нему как к действующему депутату Государственной думы пришла на прием группа путиловских рабочих и сообщила, что заводские большевики готовятся начать политическую забастовку [Керенский 1993: 133].
27 февраля в ходе уже происходивших пятый день народных волнений большевики заняли Финляндский вокзал, желая разместить в нем новую власть в лице Петроградского совета. Выборгский районный комитет, на территории которого находился вокзал, превратил его в опорный пункт для распространения восстания «во всем городе». Но к дальнейшему ходу Февральской буржуазно-демократической революции большевики никакого отношения не имеют. Рубежным событием, разделившим этот день, явился захват восставшими тюрьмы «Кресты», где находилась арестованная ровно месяц назад, 27 января, рабочая группа Центрального военно-промышленного комитета, состоявшая из меньшевиков. Члены группы предложили восставшим отправиться в Думу. Солдаты, примкнувшие к антиправительственному движению только утром, сразу с этим согласились и уговорили колеблющихся рабочих, все еще видевших своими лидерами большевиков. Около 14 часов большая группа рабочих и солдат вошла в здание Государственной думы. Большевики утратили роль руководителей восстания, и центр силы переместился из Финляндского вокзала в Таврический дворец [Холяев 2003: 27-31].
Меньшевики стали генератором, «мозгом» Февраля. Они, вырвав руководство восстанием у большевиков, передали формальное руководство либералам, чтобы старая имперская власть не подавила петроградское восстание «низов». Но это был лишь тактический маневр. Основную силу умеренные социалисты сохранили за собой. Любопытно проследить, как под влиянием меньшевиков менялось содержание февральских лозунгов. Во второй половине дня, с их выходом на передний план, антивоенные лозунги сменяются общеотрицательным отношением к власти («Долой самодержавие»). А с 28 февраля на смену антивоенным лозунгам неожиданно приходят патриотические – за продолжение войны. По мнению идеолога состоявшегося поворота Н.Н. Суханова, либералы должны были верить, что устраняют старую власть в собственных интересах. В действительности новыми хозяевами жизни меньшевики видели лишь себя [Суханов 1991: 132].
Сегодня часто утверждают, что в феврале либералы реализовывали план А.И. Гучкова1. Сами либералы оценивали ситуацию иначе: это было не то, что они готовили. В противном случае им в данном политическом спектакле принадлежали бы главные, а не второстепенные роли. Член Государственной думы из фракции центра, будущий министр Временного правительства В.Н. Львов признавался, что поднявшееся народное восстание вызвало у либералов массу негативных эмоций. Героями происходящей революции были народные массы и социалисты. Но страх перед расправой со стороны власти был пока сильнее страха перед всевластием необузданной толпы, и либералы применили наработки, заготовленные для гучковского переворота, в чужом для них социалистическом действе [Старцев 1980: 35].
В февральско-мартовские дни параллельно развивались два процесса. С одной стороны, верхушечная деятельность партий, а с другой – в движение вовлеклись широкие народные массы. Блокировать влияние «улицы» не получилось не только у мнимых победителей революции – либералов, но и у реальных – меньшевиков, а затем и эсеров, вышедших с апреля–мая 1917 г. на ведущие позиции в умеренно-социалистическом блоке.
В предшествующих революциях любая победившая власть ограничивала претензии народа на самостоятельность. Английская буржуазная власть с предельной жестокостью подавляла копателей, всего лишь расчищавших пустыри, чтобы организовать на них отдельную жизнь. Как только во Французской революции радикальные якобинцы П. Шометт и Ж.-Р. Эбер напрямую, через головы вождей обратились к народу, революционная власть окрестила их «бешеными» и мгновенно гильотинировала. И только российское Временное правительство предоставило народу максимальную степень свободы. Но дело было не в гуманизме. Просто русские либералы ничего не сумели противопоставить начавшемуся после их прихода к власти празднику «народного непослушания». Крестьяне, солдаты и рабочие отказывались подчиняться новым властителям, а управлять страной интеллигенция, сформировавшая Временное правительство, не была обучена [Гизо 1996: 281-282; Ревуненков 2003: 428-432].
О бессилии меньшевиков и эсеров при взаимодействии с народом писал кадет Г.А. Ландау в рукописи «Противоречия революционной демократии». Революционная демократия в лице меньшевиков не возглавила стихию народной смуты. Они старательно развязывали стихию, давали ей разгон и пытались при этом ее сдерживать и ею руководить. Меньшевики, реализуя социалистическую программу, делали дело, которого не понимали, и готовили события, которых не предвидели. Российская интеллигенция в качестве самостоятельной силы потерпела решительный крах перед лицом народной стихии1.
1917 г. в России принципиально отличался от великих революций Западной Европы, не ставивших под сомнение целостность государств. Сколь ни были драматичны их коллизии, борьба в них велась за политический режим и не грозила распадом страны. Мятежи, сотрясавшие Вандею, направлялись на восстановление монархии. К этому же стремились и интервенты 1790-х гг. Никто из противников Франции не собирался отторгать у нее изначально принадлежавшие ей территории. Даже в 1814 г., накануне поражения, Наполеону предлагали сохранение французских границ, соответствующих 1789 г. [Европейская дипломатия… 2012: 222]. Весь ход российских революционных процессов, начавшихся в феврале 1917 г., вел к серьезным территориальным потерям или полному исчезновению России с географической карты, причем основой надвигающегося здесь распада не был сепаратизм. Основную угрозу для государства представляла неспособность новых властей организовать страну. Проблема заключалась в том, что правительство утратило контроль над центральными регионами прежней империи. Так, в Верхнем Поволжье (Владимирская, Костромская и Ярославская губернии) никакого сепаратизма не наблюдалось. Происходил элементарный процесс потери управляемости [Галин 2006: 182].
Единственной партией, подготовленной к действиям в условиях нарастающего хаоса, оказались большевики. В отличие от других партий, доктрины которых исходили из предположения, что они будут управлять страной при поддержке большинства, большевики заблаговременно готовились к возможному управлению при нахождении в меньшинстве. Чтобы несколько сотен тысяч человек2 управляли многомиллионной некоммунистической Россией, им требовалось подчинить все действия единому целому – партии, где поддерживалась жесткая дисциплина [Волобуев, Булдаков 1996: 36].
Позднее возникающие проблемы февральские властители пытались списать на злокозненность большевиков: дескать, мешали создавать в стране основы демократии. Однако в одной из статей 1917 г. В.И. Ленин привел слова правого кадета В.А. Маклакова, сказанные в апреле на юбилейном собрании членов Государственной думы. «Мы видим массу дурных инстинктов, вышедших наружу… во время жестокой войны страна есть страна празднеств, митингов и разговоров, – страна, отрицающая власть и не хотящая ей повиноваться». Правый кадет поставил правильный диагноз Февралю – простой русский народ не принял новую власть. И Владимир Ильич на этой же странице статьи ответил Маклакову: «Народ, по меньшей мере, в сто раз левее большевиков, и потому других, более правых сил, даже эсеров, он не примет. Для выживания страны остается один шанс, заключающийся во взятии власти большевиками. Они одни имеют возможность взять под контроль поднявшийся на дыбы народ» [Ленин 1969: 35].
Февраль, несмотря на размах участия в нем самых массовых социальных слоев, являлся творением интеллигенции. Она готовила его интеллектуально весь XIX в. Была в первых рядах борцов с самодержавием, поставляла руководителей для ведущих партий. Большевизм воплотил растущую в условиях хаоса потребность в порядке – в них увидели людей, способных создать сильную власть [Никонов 2017: 1069, 1075].
Если мы останемся в привычной парадигме двух революций в 1917 г., то не поймем сущности происходившего. Большевики совершали собирательную работу, прерывая разрушительные действия революции. Октябрь выполнял задачи, решаемые обычно контрреволюцией. При концепции двух революций контрреволюционные задачи Октября не вписываются в революционную канву.
На контрреволюционность большевиков (с негативной коннотацией) часто обращали внимание профевральские противники большевиков, особенно эсеры. Так, в 1917 г. член этой партии и один из секретарей А.Ф. Керенского П.А. Сорокин1 в письме, обращенном к большевикам в послеоктябрьские дни, призывал их добровольно отказаться от власти. Он сравнивал большевиков с царским правительством, называл их «жандармами, надевшими красные мантии». Как могут другие социалисты, удивлялся Сорокин, говорить об угрозе контрреволюции? Она уже пришла. Большевики дали самую черную контрреволюцию [Сорокин 2000: 195, 201].
Однако в этой критике имелся и рациональный момент. Сорокин, будучи крупным социологом, уже тогда заметил, что за левыми большевистскими лозунгами скрывалось «правое» дело. Внешняя революционность октябрьских дней 1917 г. прикрывала своеобразный опыт контрреволюции. Понятно, что под контрреволюцией понималась не реставрация, полностью ликвидирующая революцию, а переход последней в плавное, эволюционное состояние. В истории закрепилось условное обозначение такого перехода внутри революции таким понятием, как Термидор. Термидором по революционному французскому календарю назывался месяц, приходившийся на июль–август обычного календаря. На этот временной отрезок пришелся термидорианский переворот, состоявшийся 9 термидора, т.е. 27 июля 1794 г., отстранивший от власти радикальное революционное крыло якобинцев. Сущность данных изменений – вытеснение радикальных элит из власти и переход рычагов управления к умеренным силам [Кондратьева 1993: 7].
В истории Советской России данный термин использовался часто. Под ним обычно понималось введение нэпа в 1921–1922 гг. или сталинские репрессии, вызванные борьбой за власть внутри верхушки ВКП(б) в 1930-е гг. Но в октябрьские дни «русским Термидором» называли действия большевиков их противники. В марте 1918 г. Ю.О. Мартов, лидер ближайшей к большевикам и оттого самой критичной по отношению к их политике фракции меньшевиков-интернационалистов, опубликовал статью под названием «Накануне русского термидора». Публикация подвергла критике разгон Учредительного собрания 6 января 1918 г. и мирный договор, заключенный в Брест-Литовске в марте того же года. По Мартову, первый наносил ущерб демократическим завоеваниям революции, а второй свертывал русскую революцию с ее международных до чисто национальных задач [Кондратьева 1993: 63-64].
Большевики в те дни всячески открещивались от сомнительной для любого революционера чести ограничивать накал революции. Еще в 1906 г. на IV съезде РСДРП, вновь объединявшем после годичного раскола меньшевиков и большевиков в единую партию, В.И. Ленин оптимистично смотрел в будущее. По его словам, большевистский проект дает революции максимум гарантий против реставрации. Большевики намеревались действовать в ходе революции радикальными методами, видя в якобинцах тех, кому они стремились подражать [Кондратьева 1993: 46].
Но в октябре 1917 г. большевики столкнулись с очень серьезной проблемой. Формирующееся «пролетарское государство» пребывало в не меньшем, чем профевральские партии, конфликте с основными массами народа. Партии, враставшей в госаппарат, требовалась защита от более левых элементов [Левые коммунисты… 2008: 106, 107, 111].
Революция, помимо большевиков, выдвинула на передний план русское крестьянство с характерной для него безгосударственной природой. Стоило государству вступить в стадию кризиса, освободившееся пространство на низовом уровне стремительно заполнило крестьянство. Программа его была крайне проста: минимальное присутствие государства в деревне. Итальянский историк А. Грациози полагает, что главным сюрпризом революции стала неожиданная способность большевиков к государственному строительству. Важным этапом борьбы двух этих сил он называет 1918 г., когда большевики ликвидировали крестьянские Советы. Данные действия видятся ему «первой успешной контрреволюционной операцией, проведенной после 1917 года» [Грациози 2001: 14, 15, 19, 30].
Учредительное собрание, с преобладанием в нем партии эсеров, запускало спусковой механизм распада государства. Созыв избранного осенью 1917 г. Учредительного собрания с предоставлением ему всей полноты власти ввергал Россию в процесс дробления страны, вплоть до волостного уровня. Причиной столь драматичного развития событий являлась неопытность эсеров и меньшевиков, намеревавшихся предоставить крестьянам неограниченную свободу. Распад России, запущенный Февралем и нашедший логическое завершение в курсе эсеров на созыв Учредительного собрания, предотвратили только большевики. Их курс направлялся на централизацию страны. В этом и заключалась главная сущность октябрьских событий. Захватив власть за две с половиной недели до выборов в Учредительное собрание, они сохранили основы российской государственности, ограничив его полномочия. Объективный анализ ситуации рубежа 1917–1918 гг. показывает, что, если бы большевики пришли к власти после начала работы Учредительного собрания, их победа оказалась бы бесполезной для восстановления территориального единства [Кожинов 2002: 157-161].
«Правый поворот» большевиков заметили и в эмиграции. Ответом на него стало течение «сменовеховства», названное по имени сборника «Смена вех», вышедшего в Праге в 1921 г. Это течение призывало к принятию советской действительности с национально-возрожденческих позиций. Одним из сменовеховцев, переосмысливших значение большевиков, стал профессор-правовед Ю.В. Ключников, входивший в правительство Колчака в ранге фактического министра – управляющего министерством иностранных дел. Выступая на заседании парижского комитета кадетской партии 7 июня 1920 г., он задал вопрос: «Верно ли, что для России самое страшное зло – большевики?» И ответил на него: «После свержения большевиков наступит анархия, которая будет еще хуже большевизма». И если при нынешнем положении вещей свергнуть большевистский режим будет хуже, поскольку он представляет единственную власть, пустившую в ходе революции национальные корни. Необходимо отказаться от вооруженной борьбы. Возрождение России начнется тогда, когда «большевики поймут кадетов, а кадеты большевиков» [Квакин 2006: 20, 21].
Исходя из изложенного выше, можно сделать следующий вывод: концепция двух революций, февральской и октябрьской, не дает возможности оценить в полной мере сущность происходивших событий. Более оптимальный взгляд на события 1917 г. – с позиций единой революции с разными этапами – февральским и октябрьским. Вопреки распространенному мнению, он вовсе не умаляет роли большевиков в революционных событиях, а только усиливает их значимость в рассматриваемый период, показывает важность предпринятых ими действий для сохранения российского государства. Поэтому, на наш взгляд, в 1917 г. состоялась одна – Великая российская революция. Начало ей положил февральский переворот, вызванный действиями всех трех тогдашних сил: большевиков, меньшевиков и либералов. А Октябрь явился вторым этапом, ограничившим разрушительные последствия февральского этапа революции. То есть, по сути, он выполнял контрреволюционные, термидорианские функции, требующиеся, однако, для дальнейшего выживания самой революции.
Список литературы Сколько революций состоялось в 1917 году?
- Волобуев П.В., Булдаков В.П. 1996. Октябрьская революция: новые подходы к изучению. - Вопросы истории. № 5-6. С. 28-38.
- Галин В.В. 2006. Запретная политэкономия. Революция по-русски. М.: Алгоритм. 608 с.
- Гизо Ф. 1996. История английской революции. Ростов н/Д: Феникс. Т. 2. 510 с.
- Грациози А. 2001. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917-1933. М.: РОССПЭН. 96 с.
- Европейская дипломатия и международные процессы эпохи наполеоновских войн (под ред. А.В. Торкунова, М.Н. Маринского). 2012. М.: Аспект Пресс. 254 с.
- Квакин А.В. 2006. Между белыми и красными. Русская интеллигенция 19201930-х годов в поисках Третьего Пути. М.: Центрполиграф. 413 с.
- Керенский А.Ф. 1993. Россия на историческом повороте. М.: Республика. 384 с.
- Кожинов В.В. 2002. Россия. Век XX (1901-1939). История страны от 1901 до «загадочного» 1937 года. Опыт беспристрастного исследования. М.: Эксмо-Пресс. 448 с.
- Кондратьева Т.С. 1993. Большевики-якобинцы и призрак термидора. М.: Ипол. 240 с.
- Кулешов С.В. 1996. «Писать о Феврале навзрыд». - Родина. № 2. С. 84-89.
- Левые коммунисты в России. 1918-1930гг. 2008. М.: НПЦ «Праксис». 331 с.
- Ленин В.И. 1969. На зубок новорожденному.. «новому» правительству. -Полное собрание сочинений. М.: Издательство политической литературы. Т. 32. С. 33-35.
- Никонов В.А. 2017. Октябрь 1917. Кто был ничем, тот станет всем. М.: Э. 1184 с.
- Ревуненков В.Г. 2003. История Французской революции. СПб: Изд-во СЗГАС; Образование-Культура. 776 с.
- Сорокин П.А. 2000. Заметки социолога. Социологическая публицистика. СПб: Алетейя. 300 с.
- Старцев В.И. 1980. Внутренняя политика Временного правительства первого состава. Л.: Наука. 256 с.
- Суханов Н.Н. 1991. Записки о революции. М.: Политиздат. Т. 1. 383 с.
- Холяев С.В. 2003. Три Февраля 1917 года. - Вопросы истории. № 7. С. 26-38.