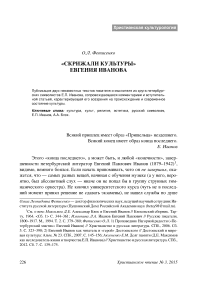«Скрижали культуры» Евгения Иванова
Автор: Фетисенко Ольга Леонидовна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Христианская культурология
Статья в выпуске: 3 (62), 2015 года.
Бесплатный доступ
Публикация двух неизвестных текстов писателя и мыслителя из круга петербург-ских символистов Е.П. Иванова, сопровождающаяся комментарием и вступитель-ной статьей, характеризующей его воззрения на происхождение и современноесостояние культуры.
Культура, культ, религия, эстетика, русский символизм, е.п. иванов, а.а. блок
Короткий адрес: https://sciup.org/140190099
IDR: 140190099
Текст научной статьи «Скрижали культуры» Евгения Иванова
или издания, где бы мог постоянно печататься, на стадии замыслов и набросков оставил множество задуманных, в том числе и самых заветных, сочинений. Не решился соединить свою жизнь с девушкой, которую любил (троюродной племянницей Верой Дюковой), вместо этого неожиданно для всех женился на своей душевнобольной сослуживице. Даже обычные письма заканчивались им с трудом и требовали многочисленных черновых подступов.
Ничем «серьезным» Иванов в литературу, казалось бы, не вошел (разве что своим эссе «Всадник»2, органично влившимся в «петербургский текст», в мифологию невских наводнений). Забытыми остались его ранние опусы, публиковавшиеся с 1903 г. в «Новом пути», «Мире искусства» и «Вопросах жизни», и нечастые газетные публикации 1910-х гг. Не вызвали откликов его лирические — обычно грустные и немного тревожные — рассказы для детей, печатавшиеся в журнале «Тропинка» (в 1915 г. они вышли отдельным небольшим сборником «В лесу и дома»)3. Но несомненно, что в историю литературы Иванов внес неповторимую страницу самим своим присутствием в жизни многих протагонистов Серебряного века4. Лучший друг Блока и его матери5, «выученик»
В.В. Розанова и постоянный собеседник Мережковских6, верный рыцарь «Девы Революции» (М.М. Добролюбовой) и задушевный друг «Таты» Гиппиус7, конфидент Андрея Белого, который то хочет поколотить его палкой и зло дразнит «присяжным поверенным»8, то говорит о нем почти как о волшебнике: «придет, повертит шляпой, и все будет хорошо»9. Но повертит шляпой наш герой отнюдь не для фокусов, а только из смущения.
Не без самоиронии Иванов в последние годы жизни обратил свои инициалы «Е.П.И.» в криптоним по греческому предлогу επι , одно из значений которого — «около». Он и вправду всегда был «около» великих — всегда επι , — но не был ничьим эпигоном. У него с юности — свое слово, своя тема жизни . Эта тема — любовь к Богу и проповедь даруемой Им «нагорной радости», в которой радость Фавора и Сиона (Тайной вечери) соединяется с неведомой миру радостью горы Голгофы. Все остальное, о чем Иванову приходилось размышлять, поверялось этим, взвешивалось на этих весах. У него постоянная тяга к проповеди10. Даже на службе (с 1907 г. Иванов был счетоводом в конторе Китайско-Восточной железной дороги) этот нескладный, в вечном «полете», в вечной тревоге, кажущийся «юродивым», человек говорит о Христе, вызывая частые насмешки. Он так рад, когда слышит от Т. Гиппиус, что для нее «самое важное в жизни для себя и для других» — Христос11, как и для него самого. Ему не исполнилось еще и 25 лет, когда он записал в дневнике: «Я желал бы быть ‹…› солью волн, возбуждающих жажду и алканье о Боге»12.
Порой он кажется навязчивым и почти невыносимым даже для любящих его людей. Тетка Блока, М.А. Бекетова, относится к нему с симпатией, но замечает в дневнике, что ее утомили ивановские «юродство и гримасы» и «бессвязная мистика»13. Тяжело воспринималось окружающими вечное пульсирование Иванова между ощущением своей «призванности» и несколько экзальтированным исповеданием собственной греховности.
Евгений Павлович писал каждый день и много, но вообще всякая речь, а письменная особенно, давалась ему очень трудно. Благо почти все роды текстов в черновой редакции сосредоточены в его дневниках, мы можем видеть, что наиболее ответственные письма (например, к Д.С. Мережковскому и З.Н. Гиппиус, к будущему обновленческому епископу Антонину (Грановскому), тогда — епископу Нарвскому) создавались чуть не по неделе, в десятке редакций. Он сбивчив, косноязычен, страдает аграфией14, но в его дневнике и в письмах то и дело встречаешь настоящие сокровища. В настоящее время существует уже несколько подготовленных нами публикаций с подборками фрагментов из дневника Иванова не столько биографического, сколько творческого характера15. В записях его и детская чистота, и боль о мире16, и глубочайшие интуиции. Слова-жемчужины среди многих и многих страниц, напоминающих скорее автоматическое письмо, — как спящие под снегом зерна. Об этом сам Евгений Павлович сказал в одном из писем к Блоку: «…снега молчат; и под ними не слышно, как зреют зерна, умирающие и возрождающиеся»17.
У Иванова было несколько замыслов, к которым он возвращался на протяжении многих лет. В коллекции М.С. Лесмана (ныне хранящейся в ИРЛИ), на- пример, сохранились многочисленные записи о скуке («томлении душевной пустоты», по Пушкину) и наброски статьи о «серой госпоже Карабос» (той же скуке, рассмотренной уже метафизически). На протяжении почти десяти лет разрабатывалась им тема «веры и любви». Ряд текстов, как изданных, так и оставшихся лишь набросками, группируется вокруг волновавшей Иванова темы культуры, ее происхождения (то ли божественного, то ли люциферического — для автора это составляло тогда вопрос) и ее судьбы.
Первый текст — набросок без начала и конца, на котором стоит дата «23 октября». Дневниковые записи позволяют безошибочно отнести эту рукопись к 1904 г. Именно в этот день Иванов отнес в редакцию журнала «Новый путь» статью «Скрижали культуры», из которой позднее вырос его очерк «Университет», помещенный уже в другом журнале — «Вопросы жизни»18. Очевидно, это фрагмент белового автографа, возможно, — часть той самой рукописи, которая была отдана в «Новый путь».
Две «скрижали культуры» — это религия и наука (культура) или — иначе — «культ» и «культура» (отметим, что в самой постановке проблемы «культа и культуры» в ее «этимологическом» развороте Иванов опережает о. Павла Флоренского и своего знаменитого однофамильца — Вяч. И. Иванова). Замысел статьи о культуре пересекался, совпадая и по времени, с раздумьями Иванова, навеянными современной драматургией19 и классическими произведениями русской поэзии («Медный Всадник»20 и «Демон»). Итогом этих раздумий станут упомянутое выше эссе «Всадник» и статья «Демон и Церковь», беловой автограф которой не сохранился (он был послан в Париж для затеваемого Мережковскими сборника «Царь и Революция», куда, впрочем, так и не был включен).
Образ «отверженного Небом» Демона «рифмуется» у Иванова с образом царя Саула — избранника, утратившего благословение Божие. И тот и другой — символы культуры. Приведем дневниковую запись от 13 октября 1904 г., непо- средственно предшествовавшую оформлению замысла о «скрижалях культуры» и, что немаловажно, включающую в себя упоминание о Петербурге (городе Медного Всадника):
Колоссал<ьное> библей<ское> лице Саула, царя избранника, лишившегося силы неб<есного> духа Б<ожия> и за то, что Слово Госп<одне> отверг. Лице ца<ря>. ‹…›
В э<том> лице б<ывшего> п<ророка> Саула ‹…› так близ<ко> и нам сам<им> лицо Демона. ‹…›
Ведь в самом деле наша людс<кая> культура отверг<ла> слово Божие и Церковь Его не <по> сл<у>чайн<ой> причине, не потому только, что попы стали служит<ь> скверно, что в церкви все омерт<вело>, но по каким-то бол<ее> глубоким причинам.
Думаю, иди служение и моление Христу Богу идеально, отошли бы люди и при этом передовые. Надо отвергнуть Слово, как Саул отверг. И за это казнь и мука. И гонит Бог потом, насыла<я> злого духа, которы<й> от Бога. Это наш демон. Отгоня<ем> мы отход Пира. —
И город Всадника напоминает чем-то Его <Демона. — О. Ф. >. Тоже Новый город. Это противо родительства восставши<й> и парадиз на мес<те> тар-тара»21.
Статью «Скрижали культуры» Иванов принес в редакцию «Нового пути», когда там уже главенствовали философы, вскоре возглавившие новое издание — «Вопросы жизни». 23 октября 1904 г. он оставил в дневнике запись, которая быстро переходит от фиксации дневных впечатлений к размышлению, непосредственно продолжающему только что завершенную статью:
Снес свои скрижали культуры в «Нов<ый> Путь». Там Булгаков. Черт его подери, потом Философ<ов>22, Мережков<ский>. Я передал Чулкову23 рукопись и просил переда<ть> Булгакову.
Ох уж эти либералы, кто кого почуднее дерзнет. Спортсмены своего рода. Идея-то у них давно внутри умерла. Каменные ослы, а только как бы дерзостнее перед правительством показать на глазах у собратий. О отвращение, отвращение.
Весьма частое явление, люди, занимаю<щиеся> общественн<ой> жизнью, теряют себя самих, превращ<аясь> в каких-то спортсменов, кот<орые> поставили себе цели как бы подерзостнее штуку перед властями выкинуть. Право и спорт как машинальность в общем царят. При этом и помину любви нет к жизн<и>, не к Богу. Так пошел и черств как все.
А за дело свое держат<ся> только что<бы> в бездну скуки не сва-ли<ться>, а не п<отому что> превыш<е> с<ебя?> и любили его.
Разве дело, не взят<ое> как общее дело, мож<ет> людей как-н<ибудь> оживить, оно м<ожет> развлечь, да24.
В ожидании ответа об участи «Скрижалей…», Иванов продолжает разрабатывать в дневнике тему культуры в ее современном («позитивном») изводе, предполагающем, в частности, полное поглощение личности обществом:
-
1 ноября . Кажется, нигде так личность, душа челов<ека> не была подавлена, как в нашей позитивной сентимент<альной> культуре. Человек не ценился как ценит<ся> человек, общественный деятель и только. Человек всецело должен принад<лежать> не себе, а обществ<у>. ‹…› Искали, кричали о свободе души, личности, а сами не знал<и>, чем наполнить эту свободу, не осталась бы она пуста25.
-
< 16 ноября. > Наша культура смотрит толь<ко> на внешнее, не на душу человека, а на человека деятеля. Челове<ка> деятеля и ценит; а что внутри у чело<века> ‹…› до этого нико<му> нет дела. “Лишь были б желуди!” Культура наша так долго не продержи<тся>, если не буд<ет> обра<щаться> ко внут-ренн<ему> в челове<ке>. Этого <нет> отт<ого>, что в культуру нашу не вошла религия ‹…›26.
Оторвавшаяся от «культа» культура засыхает, опустошается, живет мнимой жизнью «пустышки»27, создавая видимость бурной деятельности своими механическими, автоматическими движениями, умноженными отраженностью в бесчисленных, обставших вокруг, зеркалах. Разглядывание «отражений», самолюбование мертвых кукол-«пустышек» — вот символ современной культуры у Иванова, очень актуальный и для нашего времени, «когда в искании всевозможного рода известности каждый шаг описывается и жизнь превращается в какую-то живую фотографию»28. Вот поэтому второй предлагаемый читателю текст может рассматриваться как непосредственное продолжение первого. Это один из набросков к эссе «Зеркало и автомат»29, над которым Иванов работал три года (1906–1908).
Само эссе, с которым, надеемся, можно будет познакомиться в сборнике «Александр Блок и Евгений Иванов», состоит из нескольких частей-слоев: в частности, из описания сна, в котором дети родственной семьи подменены куклами-автоматами, и яркой сценки, рисующей «бытовую» картинку — продажу души дьяволу словно продажу старой книги букинисту. Как это часто бывало с Ивановым, «претекст» легко обнаруживается в дневнике — в записи от 28 марта 1905 г., которая приведена далее в одном из примечаний к публикуемому тексту. «Набросок о продавании души черту» был сделан 10 сентября того же года. В конце апреля 1906 г. после первого посещения «башни» Вяч. Иванова Евгением Ивановым начато эссе «Автоматы». Неотрывно думая об автоматах, «пустышках» и «зеркалах», в ночь на 1 мая он видит знаменательный сон об автоматах и кружении30, и сразу после этого в дневнике появляются все новые и новые записи на эту тему, варьирующие и углубляющие мотивы подмены, «сочинительства», осквернения святыни, самозванства, душевной пустоты,
«мистического кокетства» (когда человек даже молится с оглядкой на внутреннее «зеркало») и, наконец, смерти культуры и смерти души.
Публикуемый фрагмент датирован 16 октября 1907 г. Сохранились также два недатированных варианта окончания того же эссе31. В основном тексте произведения следует особо выделить эсхатологическое пророчество Иванова об антихристе как «последнем автомате»32. Намек на это содержится и в публикуемом здесь варианте — благодаря многочисленным отсылкам к новозаветным предупреждениям о последних временах. Антихрист показан Ивановым как «грядущий автомат»33, царь автоматов, воссевший на «седалище Моисеевом», и подобно тому, как Мережковский завершал своего «Грядущего Хама» словами о том, что последнего «победит лишь Грядущий Христос», Иванов всегда держит в памяти (своей и читательской) эту надежду. Думая об этом, он и свой родной город, «темный» город Всадника (Демона, Саула), надеется видеть омытым и овеянным свежим ветром «Христа, грядущего с моря»34.
Что же касается «культуры»…здесь Иванов надеялся на то, что она может, пройдя путем зерна, возродиться, вернуться на «путь жизни, путь внутреннего человека»35, коротко говоря — из культуры Демона-Саула стать культурой Давида-псалмопевца. «Требуется, — писал он, — не реставрация, не подновление, но колоссальное перерождение нашей жизни. ‹…› сознательно должно совершиться то ожидаемое перерождение, которое перероди<т> всю нашу опостылевшую жиз<нь> ‹…› и станем мы сильными в слове и деле»36.
Текст «<Скрижалей культуры>» печатается по беловому автографу из коллекции М.С. Лесмана (ИРЛИ. Ф. 840; фонд находится в стадии обработки), набросок к «Зеркалу и автомату» — по автографу из фонда Иванова37. В прямых скобках приводится текст, зачеркнутый автором, в угловых — редакторские конъектуры.
Евгений Иванов
<Скрижали культуры. Культура и культ>
<1904>
23 октября
То или другое сознание, убеждения оказывают влияние на жизнь, но не они дают жизнь; силу деятельной жизни дает более глубокое начало, вера, это пламя, горящее и движущее нас во время наших увлечений; она дает жизнь, убеждения же так или иначе влияют только на нас. Приходит время, когда отнимается, уходит вместе с увлечениями вера от нас, и тогда остается душа наша пуста, и мир пуст для нас, тогда никакие, прежде воодушевляющие, убеждения, ни самопо-нукания не могут оживить остывающего и окаменевающего человека в какой-то развратной спячке.
***
Не случайно в корне слова культура слышится культ. Если то или другое культурное направление, господствующее в обществе, перестало бы быть в корне своем культом (душа которого вера, т.е. сила, водящая нас в наших увлечениях), то как бы ни было сложно и велико здание ее, оно не устояло и перед малым напором ветра, рухнув, как засохшее прогнившее дерево, вместе с вороньими гнездами на ее ветвях.
Ведь для очень, очень многих, фактически, культура в жизни занимает место религии; поэтому, естественно, что, хотя и не вполне сознательно, разные общественные собрания ради культурных целей становятся своего рода богослужебными собраниями, представители культуры — «кумирами», земными богами, «первыми», «пастырями», все же культурное общество является «живыми камнями» живого храма культуры, «стадом» не в позорном, хамском, смысле этого слова, а в царском, как свободное подчинение авторитетным голосам культуры.
Конечно, ярко выразиться характер культа в культуре может только при сильном увлечении, которое бывает в молодости, когда от увлечения горят глаза и щеки, горят тою напряженною силою, верою, делающею общество жизненным, деятельным и верящим в свое дело, в авторитет своей культуры.
<Зеркало и автомат
Фрагмент ранней редакции>
<от>вратительно долго еще, помню, ныло, как будто эти удары человека-куклы не были только сном.
Или другой раз попадаете вы в оживленное общество: кругом барышни, кавалеры: все разговаривают, смеются, суетня, беготня, танцы…Вы находите какую-нибудь симпатичную барышню или молодого человека, начинаете с нею или с ним говорить, рассказывать с жаром о пережитом вами, выворачивая самые тайники своей души, и вдруг ужас! гадость!.. перед вами не оживленный собеседник, а кукла…Оглядываетесь и видите, что и кругом все давно стоят, застывши окостеневшими куклами в нелепых позах; «притон автоматов!..»
Впрочем, подобное и не во сне только бывает; мне кажется, Гоголь в «живой картине» финала «Ревизора» хотел показать это самое превращение автоматов в подлинный вид свой; точно завод кончился и стали куклы как стояли.
Тут ужас, отвращение и тревога чувства самосохранения; и странный щекочущий смех, какой бывает при осязании скользкой зеркальной плоскости.
Я бы назвал еще автомата «человеком-пустышкою»38.
«Человек-пустышка» — это такой человек, который по-видимому полон жизни, на самом же деле пуст, пустышка, ибо в нем души-жизни — нет. По самим себе можем судить, чем должен быть этот человек пустышка, потому что семена его в каждом из нас есть, и чем дольше время идет, тем больше и больше таких семян в людях, и растет, растет в нас человек-пустышка, автомат, так что, по слову Евангелья, мы здесь «по самим себе судим, чему быть должно»39, именно чему, а не кому быть-то должно, ибо он не Кто, а что.
Существует глубокая связь между автоматом, этим человеком-пустышкою, и зеркалами. Недаром зеркала играют такую большую роль в музеях автоматических кукол; зеркальное отражение так напоминает автоматов, что, думаю, не из зеркальной ли пустоты они и вылезли-то на свет Божий, ибо что такое автомат, как не то же пустое зеркальное отражение, только воплотившееся и ходящее по белу свету.
Смотря в зеркало, мы не себя там видим, не себя, а себя человеком-пустышкою: в зеркале человек тот да не тот, и все что он делает, делает так да не так, как живой человек. В зеркале человек видит не себя, а своего двойника-пустышку, видит себя автоматом.
Из этого свойства зеркал превращать в себе человека в автомата, как бы высасывая из него, подобно вампиру, кровь жизни, из этого странного свойства зеркал вытекает наша современная зеркальность. Зеркальность — ужасная болезнь. Это чудовище пустое, пожирающее все наши чувства при самом их зарождении.
Кто заражен этою болезнью, тот уже не живет жизнью, а живет своим зеркальным отражением, не живет, а лишь только отражается, и нет в нем полноты, но одна лишь зеркальная пустота. Потому все время у него левая рука видит, что делает правая и все дела свои он делает с тем, чтоб его видели люди 40; и заметьте, как изменяются движения и выражение лица человека, когда он, разговаривая, все посматривает в зеркало, как он там выглядит разговаривающим. Не появляется ли в нем что-то автоматическое, куклообразное, и не начинает ли уже он жить отражением своим, а не жизнью, не превращается ли он уже в человека-пустышку, куклу-автомата.
Здесь приходят в голову странные легенды о вампирах, мертвецах, подобно зеркальным отражениям, живущим кровью, высосанною у живых, и не поэтому ли сродству с зеркальными отражениями они не отражаются в зеркалах, как и люди, «продавшие душу черту», по легендарным сказаниям, ибо чему и отражаться, когда сами они — отражение пустое.
Человек, зараженный зеркальностью, в своем роде продал душу черту. «Все дела свои он делает с тем, чтоб его видели люди», его «левая рука все время видит, что делает правая», и он «получил уже награду свою»41, как сказано в Евангелии. Эта полученная уже «награда» не есть ли та плата, которую человеку дает чорт за проданную душу.
В наш век какой-то стихийной зеркальности, когда в искании всевозможного рода известности каждый шаг описывается и жизнь превращается в какую-то живую фотографию, представление кинематографа, в уличный эпизод, а не факт, — в наш век продажа души черту может стать массовым явлением.
Что же манит массы к продаже души? — Искание славы друг от друга, искание известности ради известности: для этого все описывается, всю душу и тело хотят превратить в книгу , которую бы читали все и прославляли бы, так-то превращаются люди в автоматов, пустышек, в ходящих мертвецов, в книжников и фарисеев42.
И мне представляется иногда возможным, что вдруг где-нибудь на одном из наших людных проспектов, положим, на Литейном43, откроется лавочка с сенсационною вывескою «Покупаю и продаю души свежие и подержанные». И пойдут в эту лавочку разные человеки со свертками, завернутыми больше в газетную бумагу: а в свертках-то души их будут свежие и подержанные. И души, проданные черту, — ибо как же без черта душу продать, — будут покупаться у него, как интересные романтические приключения, с заманчивым пикантным сюжетом44.
Что же делается с продавшим душу черту? — да, по-видимому, ничего: все, по-видимому, остается по-старому, но он уже не человек, а кукла, пустышка-человек, зеркальное отражение. И как зеркалу одинаково возможно, одинаково способно, ибо одинаково пусто без жизни, — сейчас отразить какой-нибудь добродетельный поступок, отразить даже образ Христа, и сейчас же на том же месте изобразить гнуснейшую гнусность и образ Диавола, — так и человеку-пустышке, автомату сейчас возможно быть с вами очень любезным и потом вдруг разбить вам голову или, глазом не сморгнув, раздавить ребенка: вот почему автоматы внушают тревогу чувства самосохранения. И все в человеке-пустышке, автомате, делается как на скользкой поверхности зеркала: и отвратительно и странно смешно, как от какой-то щекотки, осязать пальцами эту прозрачную поверхность; и не от этого ли «мертвые души» — смешны?
И тот, кто продает, и тот, кто покупает души у черта, заражается зеркальностью чертовой куклы. Люди делаются как автоматы и на все смотрят как на представление кинематографа и даже на страдание45. Чертова кукла автомат грядет на город, тогда автоматы вылезут из всех углов своих темных
Так-с…Такие же как у букинистов маленькие лавчонки и написано: покупаю и продаю души. На окнах в витринах они выставлены, разные, есть более старые издания, есть более новые. В переплетах, без переплетов. Подержанные или совсем новенькие. Публика ходит мимо, нисколько не удивляет<ся>, привыкла…Любители рассматривают души в витринах на окнах. Иные заходят, покупают для прочтения душу, проданную черту. Она уже не годится так в употребление, но ее интересно почитать. Особенно для писателя, он матерьял себе тут найдет. “Есть души совсем-с свеженькие, девушка ‹…›. Продали, грустны были. Мы им ‹…› прибавили. Не дорого, сами просили. Всего 8 гривен. Мы уже от себя приб<авили> пяток. Не угодно ли посмотреть будет. Забавненькие мыслишки там ‹…› есть. Забавно, забавно-с и главное свежо. Купите, не дорого продам вам, по случаю достал. Хоть за 6 рублей”. Говорил это сам черт, прод<ает> и покупает. ‹…›
– 6<-й> год торгуем. Выгодно.
Шибко идет дело. Посмотрите, несут сколько. За грош продают. Да ей-боже, не выгодно покупать.
Говорят, в былое время продавали души за большую цену. В средние века. Уж сам ухаживаешь, ухаживаешь, чтоб только душу заполучить. И действитель<но> не жаль и деньги за нее дать. ‹…› А нынче посмотрите, что за народ пошел. Жизнь-то не в грош не ценят. И души продают це<лым> гуртом, задаром рады отдать, да и отдали бы, да только вот деньги им нужно ждать» ( Иванов Е.П. Дневник 1905 г. // ИРЛИ. Ф. 662. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 65 об.–67).
-
45По поводу зрителей «несчастных случаев» в кинематографе Иванов говорит, что они испытывают «сладострастие, переодевшееся состраданием», и делает такой прогноз: «Боятся жизни и ходят потому в кинематографы. И когда, прививши в себя кинематограф, выйдут в жизнь, то не будут бояться жизни, ибо жизнь для них превратится в кинематографическое представление» (цит. по: Фетисенко О.Л. Проповедник Нагорной радости. С. 366; запись от 22 января 1908 г.). О «кинематографических представлениях» он замечательно высказывается как о «представля-
- и начнут давить, бить всех, кого ни попало, всех живущих, начиная с животных, и люди будут издыхать от страха в ожидании «грядущих на вселенную»46 грядущих автоматов…
«Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, которые все дела свои делают с тем, чтобы их видели люди», и «левая рука их все время видит, что делает правая», — горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, ибо вы автоматы, порождение автозеркальности, «порождение ехиднино»47, порождение будущих и грядущих на вселенную автоматов, имя которым Смерть. Люди будут издыхать от страха в ожидание грядущих на вселенную. Кто эти грядущие будущие, как не автоматы, чертовы куклы, имя котор<ым> Смерть48.
«На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи»49, —и вспоминаются детские сны, от которых просыпался с криком ужаса весь в холодном поту. Как бывает в снах об автоматах, вы подходите к человеку, к которому вся душа рвется от восторга, перед которым изливаешь душу до ее тайников и вдруг оказывается перед вами не он, а он — автомат, «пустышка» на месте святом, «на Моисеевом седалище» в своем роде. С неистовым криком задыхаясь, — издыхая от страха и отвращения, кидаетесь вы бежать вон, куда глаза глядят.
Так и сказано: «Когда увидите мерзость запустения , стоящую на <святом> месте (читающий да разумеет), тогда находящиеся в Иудее да бегут в го-ры»50.
«Горе же беременным и питающим сосцами в те дни»51, ибо грядущий автомат, вставший со своего «седалища Моисеева», будет мстить всем живым , и потому особенно беременным и кормящим сосцами, будет мстить как зверь, кидающийся на тех, кто бежит от него.
«Тогда будет такая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не бу-дет»52.
«И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы (от автоматов) никакая плоть: но ради избранных сократятся те дни»53.
И как избежать всех сих будущих автоматов и предстать пред Сына Человеческого?
Не перебить ли все зеркала, как источник порождения автоматов; но так поступают сумасшедшие, — это безумие. Потом это некультурно, ибо что такое наша культура, как не кукла, отражение в зеркале Прекрасной дамы.
Как избежать нам всех сих грядущих будущих автоматов?
« Бодрствуйте на всякое время, и молитесь 54, [да сподобитесь избежать всех сих будущих <бедствий> и предстать пред Сына Человеческого»…]
Но что значит бодрствуйте и молитесь?...
16 окт<ября 1> 907
Список литературы «Скрижали культуры» Евгения Иванова
- Аксененко Е.М. Долг памяти (Д.Е. Максимов как исследователь жизни и творчества Е.П. Иванова)//Христианство и русская литература. Сб. 7. СПб., 2012. С. 139-175.
- Аксененко Е.М. Иванов Евгений Павлович. Фонд 662. Опись 2//Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2011 год. СПб., 2012. С. 866-873.
- Александр Блок в дневнике Е.П. Иванова (1903-1941)/Вступ. ст., подгот. текста и коммент. О.Л. Фетисенко//Александр Блок: Исследования и материалы. . СПб., 2011. С. 311-436.
- Белый А. О Блоке: Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи. М., 1997.
- Блок А. Записные книжки. 1901-1920. М., 1965.
- Воспоминания и записи Евгения Иванова об Александре Блоке/Публ. Д.Е. Максимова и Э.П. Гомберг//Блоковский сборник. . Тарту, 1964. С. 362-424.
- Иванов Е.П. //ИРЛИ. Ф. 662. Оп. 1. Ед. хр. 81.
- Иванов Е.П. Всадник. Нечто о городе Петербурге//Белые ночи: Альм. СПб., 1907. С. 73-91.
- Иванов Е.П. Дневник 1904 г.//ИРЛИ. Ф. 662. Оп. 1. Ед. хр. 9.
- Иванов Е.П. Дневник 1905 г.//ИРЛИ. Ф. 662. Оп. 1. Ед. хр. 12. 54Лк 21:36. В прямых скобках дан зачеркнутый Ивановым текст.
- Иванов Е.П. Зеркало и автомат//ИРЛИ. Ф. 662. Оп. 1. Ед. хр. 84.
- Иванов Е.П. Зеркало и автомат //ИРЛИ. Ф. 662. Оп. 1. Ед. хр. 82. Л. 26.
- Иванов Е.П. Университет//Вопросы жизни. 1905. № 4/5. С. 264-267.
- Иванов Е.П. //ИРЛИ. Ф. 662. Оп. 1. Ед. хр. 41.
- Ильюнина Л.А. Иванов Евгений Павлович//Русские писатели, 1800-1917. Т. 2. М., 1994. С. 379-380.
- Истории «Новой» христианской любви: Эротический эксперимент Мережковских в свете «главного»: Из «дневников» Т.Н. Гиппиус 1906-1908 годов/Вступ. ст., подгот. текста и примеч. М.М. Павловой//Эротизм без берегов: Сб. ст. и материалов. СПб., 2007. С. 391-455.
- Максимов Д.Е. Александр Блок и Евгений Иванов//Блоковский сборник. . Тарту, 1964. С. 344-361.
- В.В. Розанов в дневнике и незавершенных воспоминаниях Е.П. Иванова. Письма Розанова к Е.П. Иванову/Публ. О.Л. Фетисенко//Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2003-2004 годы. СПб., 2007. С. 439-515.
- Фетисенко О.Л. «…Вечно падать и никогда не разбиваться о камни» («Петербургский мистик» в мире Ибсена//Творчества Хенрика Ибсена в мировом культурном контексте. СПб., 2007. С. 81-95.
- Фетисенко О.Л. Евгений Иванов как читатель и «герой» Достоевского//Достоевский и мировая культура: Альм. № 23. СПб., 2007. С. 145-156.
- Фетисенко О.Л. Из дневника «петербургского мистика» (Евгений Иванов и его эсхатологические воззрения)//Эсхатологический сборник. М., 2006. С. 273-285.
- Фетисенко О.Л. Проповедник Нагорной радости («Петербургский мистик» Евгений Иванов)//Христианство и русская литература. СПб., 2006. Сб. 5. С. 323-390.
- Фетисенко О.Л. Сон о Башне (По материалам архива Е.П. Иванова)//Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века. СПб. 2006., С. 220-225.