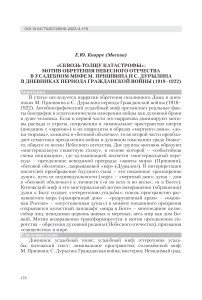«Сквозь толщу катастрофы»: мотив обретения небесного отечества в усадебном мифе М. Пришвина и С. Дурылина в дневниках периода гражданской войны (1918-1922)
Автор: Кнорре Е.Ю.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (66), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется нарратив обретения подлинного Дома в дневниках М. Пришвина и С. Дурылина периода Гражданской войны (19181922). Автобиографический усадебный миф преломляет реальные факты биографии в эсхатологическом измерении войны как духовной брани в душе человека. Если в первой части эго-нарратива доминируют мотивы распада и утраты, погружения в лиминальное пространство смерти (поединок с «врагом») и их корреляты в образах «мертвого дома», «дома-тюрьмы», комнаты в «бесовой оболочке», то во второй части преобладает семантика преодоления войны в духовном взыскании града Божьего, общего со всеми Небесного отечества. Две группы мотивов образуют «мистериальную сюжетную схему», в основе которой - «событийная схема инициации», где кульминацией является «мистериальный переход» - преодоление невидимой преграды: «завесы мира» (Пришвин), «бесовой оболочки», закрывающей «мiр» (Дурылин). В интерпретации писателей преображение блудного сына - это покаянное «расширение души», путь от индивидуальности («ego» - «мертвый дом»; душа - дом в «бесовой оболочке») к личности («я во всех и во всем»; «я в Боге»). Китежский миф и его мистериальный мотив возвращения (обращения) души к Богу создает «гетеротопию усадьбы»: сквозь пространство распавшегося мира («разоренный дом» - «разрушенный храм» - «окаянная Россия» - «опустошенная душа») в момент покаянного прозрения открывается целостный ландшафт «мира в Боге» - многоединое целое, отбор лиц, невидимая церковь живых и мертвых, весь мир как дом Божий. Мотив возвращения трансформируется в мотив преодоления сиротства - обретения духовной родины (Небесного отечества), призвания «священства» в мире.
Дневники, усадебный топос, усадебный миф, гетеротопия усадьбы, китежский текст, лиминальное пространство, соловьёвский миф, м. пришвин, с. дурылин, гражданская война, мистерия, невидимый град
Короткий адрес: https://sciup.org/149143533
IDR: 149143533 | DOI: 10.54770/20729316-2023-3-178
Текст научной статьи «Сквозь толщу катастрофы»: мотив обретения небесного отечества в усадебном мифе М. Пришвина и С. Дурылина в дневниках периода гражданской войны (1918-1922)
Анализ трансформации «усадьбы реальной» в «усадьбу воображаемую» [Богданова 2019, 20] в дневниках М. Пришвина и С. Дурылина периода Гражданской войны (1918–1922) позволяет реконструировать объединяющий двух авторов автобиографический усадебный миф, где события, переживаемые в реальности, обретают эсхатологическое измерение в мистическом пути alter ego автора дневника к подлинному Дому [Кнорре 2019, 151–152].
В данной работе продолжено исследование усадебного топоса в дневниках военного времени, начатое в статье «Усадьба и война в эго-документах 1918–1922 гг. (дневники М. Пришвина и С. Дурылина)» (Новый филологический вестник. № 2 (65). 2023. С. 109–122). Нарратив испытания, доминирующий в кризисное время войны, проявляет двойственную, амбивалентную природу, акцентируя мотивы «смерти-рождения», «отпадения-возвращения», «утраты-обретения». Отсылая к сюжетной схеме инициации блудного сына, мотив испытания включает в себя фазу «ухода» (мотивы «затворничества», «ухода “в себя”», «томления», «разочарования», «ожесточения», предполагающие «разрыв или существенное ослабление прежних жизненных связей» [Тюпа 2009, 39–40]), фазу искушения и «лиминальную» [Тэрнер 1983] (пороговую) фазу испытания смертью», коррелятами которой становятся мотивы заключения alter ego автора дневника в мертвом пространстве усадебного дома с заколоченными окнами (Пришвин), комнаты в «бесовой оболочке» (Дурылин). Описание нарратива обретения позволит показать, как лиминальное пространство «мертвого дома» проявляет черты гетеротопии, включает в себя семантику «преображения-перехода», проявления сквозь данное пространство «смерти-распада» заданной его перспективы – явления невидимой общей земли, дома Божия как общего для всех Небесного отечества, вместившего «и мудрых, и злых» [Дурылин 2015, 92].
Сквозь кельи «тусклое окно» – к широчайшему миру
Лиминальное пространство Гражданской войны в дневниках Пришвина и Дурылина, изображенное в топике китежского мифа в образах «кор-ридора в лесу», топкого болота («лугообразной трясины»), осознается alter ego авторов дневников как иллюзорный мир, в который завела их падшая душа – отчаяние и враждебность к людям, внутренний бунт против распада прежней жизни. Нарратив испытания с его мотивами «отпадения-умирания», тяжбы с «врагом рода человеческого» переходит в нарратив «покаяния-преображения», когда герой осознает свою ответственность за вражду и уныние. Топос войны представлен как призрачный мир окаянной души человека: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя» – к этому пришла моя жизнь. Все остальное – ложь, небыль, призрак, – страшный, окаянный, окаянства коего – я только еще начинаю чувствовать всю меру» [Дурылин 2016a, 107]. Мотив невидимой преграды, окаянства, заслоняющего от героя подлинный, Божий мир, реализуется в ряду образных соответствий: «марево», «пелена», «нечистота и греховная тина», «муть сна», «мутная вода», «бесовая оболочка». В мифопоэтике Пришвина появляется параллельный ряд образов-символов: «черная вуаль», «завеса бытия», «толща катастрофы», «голодно-холодная кровавая завеса мира», обозначающих замкнутое внутри себя «эго» героя, отчужденное и враждебное миру.
Мотив раскаяния «блудного сына» выражается в обращении от ненависти к внешним врагам к борьбе с врагом внутренним: «В голодно-холодной кровавой завесе мира вырисовывается для большинства людей лик врага (он) – кто это он? – Большевик. Обыкновенно называют “они” (вместо прежнего “он”)» [Пришвин 1995, 79]. Мотив бесовства [Магомедова 2017] звучит теперь в описании невидимой преграды греха. «Враг» в символической реальности Дурылина – это «бесовая оболочка» “я”», скрывающая невидимый град Божий, по грехам ею закрытый: «Бог подле нас. Рядом. Ближе всех. Помнить это – и ничего не бояться» [Дурылин 2015, 79]. Спасение в различении бытия подлинного и его «бесовой оболочки»: «Ужасно оволакивать нечистым помысломтворение Божие: человека. <…> и часто мы мiр Божий и человека видим в бесовой оболочке: оттого мерзит мiр, ненавистен человек. А на самом деле – ненавистен не мiр и не человек, а бес» [Дурылин 2015, 79].
Освобождение от «завесы» греха изображается в топике усадебного мифа, где символической «смерти-воскреcению» («я такой, как вы, давно погиб» [Пришвин 1994, 225]) в дневниках Пришвина соответствует мотив разрушения домика «ego» – оболочки, за стеной которой открывает Божий сад – подлинный дом, где личность сознает себя «во всех и во всем»: «Надо бы условиться, что ego означает ego и индивидуальность, которая есть домик личности, сознающей себя во всех и во всем, так что эгоизм (национализм) означает бытие на земле – это одно состояние, и совершенно другое состояние вне этого домика, то есть духовное [Пришвин 1994, 276].
Домику «ego» в дневниках Пришвина соответствует семантическая параллель «вечной кельи», антитеза «своего угла», «Пустыньки», которую стремится обрести alter ego автора в дневниках С. Дурылина. «Пустынька» не дается герою в состоянии уныния и бунта, но обретается в покаянном взыскании и может быть дарована только Им. Как и Пришвин, Дурылин противопоставляет два самоопределения человека в мире – «я» замкнутое в себе самом (келья с тусклым окном) и «я», разомкнутое в мир жалостью и состраданием твари: «Жалеть – дело сердца, а где сердце и его дело и его действование – там и религия <…> Жалость – это, прежде всего, признание иного “я”, кроме своего, это расширение себя за пределы себя, это – тот прорыв из самости (то, что немцы называют ichheit) – к широчайшему мiру (чтоб не путались мысли, пишу через i) бытия, прорыв, дающий возможность уширить себя до всего сущаго, найти связь (religio) между собой и сущим. “Присуждены мы к вечной келье / И в наше тусклое окно / Чужое горе и веселье / Так дьявольски искажено” (Брюсов). С искажением можно бороться и добиться, что его не будет, “тусклое окно” можно протереть и оно станет светлым, – и вот тогда открывается “мiр”» [Дуры-лин 1930, 12–13]. Как отмечает А. Резниченко, для С.Н. Дурылина «зло никак не связано с предопределением, со временем и с историей: вся тварь повреждена – и поэтому нуждается во всеобщем восстановлении <…> это восстановление напрямую зависит не только от благодати <…> но – прежде всего – от индивидуальных, внеисторичных, покаянных усилий, соте-риологическая ответственность падает прежде всего на человека, который, в отличие от вещи, зверя, беса и ангела имеет способность к покаянию» [Резниченко 2012, 388].
Мотив странствия души между мирами образует гетеротопию усадебного мифа, сочетая в одном времени два пространства: сквозь распавшийся на враждущие части мир героям «дано видеть» внутреннее целое. В отличие от утопии, гетеротопия, в понимании М. Фуко, – это «реальные подлинные места», гетеротопия «имеет свойство сопоставлять в одном-е-динственном месте несколько пространств, несколько местоположений, которые сами по себе несовместимы» [Фуко 2006, 196; 200]. При этом сочетание разнородных пространств в гетеротопии может менять местами реальный мир и иллюзорный, «создать иллюзорное пространство, которое изобличает все реальное пространство» [Фуко 2006, 202]. Междисциплинарная категория «гетеротопии» (М. Фуко) введена в тезаурус «усадебных» исследований О.А. Богдановой в докладе «Категория “усадебного топоса”: границы, структура, семантика, динамика, модификации и вариации» (9 октября 2018 г.), затем разрабатывалась в трудах О.А. Богдановой, Е.В. Глуховой [Богданова 2018; Глухова 2019, Богданова 2020]. Рассматривая феномен обращения в философии Вл. Соловьёва, Антонов отмечает, что «возвращение (и предшествующее ему отпадение) мыслится философом не столько как естественный, природный процесс (как в неоплатонизме), сколько как личный акт (т.е. именно как обращение) некоего глобального субъекта». При этом обращение – это «однократное событие, реально меняющее отношения абсолютного и относительного бытия, и тем самым задающее реальность времени, ход истории» [Антонов 2004, 160].
В дневниках Пришвина и Дурылина «мистериальный переход» [Черкасова, Дворцова 2012, 200; Урюпин 2021, 345] из одного мира в другой осмысляется в логике софийного мифа Вл. Соловьёва как освобождение от «завесы» – «бесовой оболочки» Божьего мира, откровение в том же самом мире иного его ландшафта. Опустошенная душа alter ego автора дневника Пришвина («душа моя как холодная печь» [Пришвин 1995, 18]) становится вдруг вместилищем света, который приходит c прощением врагов в принятии всего многообразия мира: «Но меня спасает способность души моей к расширению: вдруг расширится и я все люблю и не помню врагов своих <…>душа озарилась, как долина в горах от восходящего солнца <…> да кто же мой враг, кому не простить, не виноват я сам во враге своем?» [Пришвин 1995, 120]. Откровение Божьего мира изображено как озарение души / сердца, ставни которой теперь открыты миру, как встреча внутреннего и внешнего хронотопа – личного пространства («в сердце моем восходит богатое солнце») и мира как общего дома / сада с «солнцем небесным»: «открыл ставню, и солнце мое встречается с солнцем небесным: так мне стало радостно, так весело. Я напился чаю, взял железную лопату и стал в чужом саду раскапывать яблоньки» [Пришвин 1994, 65].
«Возвращение – обретение»: ландшафт Божьего мира – Небесного отечества
Гетеротопия, по Фуко, связана «с “раскроем” времени», «когда люди оказываются в своего рода абсолютном разрыве с их традиционным временем» [Фуко 2006; 199]). Мотив откровения общего дома / сада созвучен мотиву души-цветка художника, лепестки которого, «невременные и непространственные», соединяют мир падший и вечный как два сообщающихся сосуда («пью в себя») [Пришвин 2008, 294]. В творческой памяти художника разрушенный дом «дано видеть» теперь иначе, во сне утраченное имение Хрущёво встречает героя ветвями родного парка: «А стекла в доме все выбиты, дом пустой, внутри, видно, разломано, как теперь. Но мне удивительно и радостно видеть все свое, родное, во всех подробностях <…> я смотрю – пью в себя и удивляюсь и благодарю кого-то, что дал мне видеть. И моя часть именья <…> мне видна отсюда, но как видна! Ясени будто всей массой подошли к старой конюшне и всею густелью свешиваются через старую конюшню, и смотрю – вижу, будто одна ветвь с широкими листьями кланяется мне <...> другая ветвь кланяется, третья, весь парк широколапистыми зелеными свежеизумрудными листьями шевелится, кланяется» [Пришвин 2008, 367].
Воспоминание становится ясновидением: прошлое открывается в настоящем как родное пространство земли, сквозь разрозненные черты которой проступает внутреннее целое. Семантика дома-имения приобретает новые смыслы: дом – это вся земля как совокупность лиц, увиденных в свете родственного внимания героя, утраченное отечество: «…проснешься, лежишь в темноте и кое-что видишь: так видел мать свою, как карту <…> дом в проекции или с птичьего полета, так и мать моя, и родня моя, и все прошлое лежит подо мною на плоскости, руки, ноги, лицо, вообще черты индивидуальностей разбросаны, как мысы и заливы и очертания берегов на картах, и как бы это индивидуальное, личное <…> все это не существенно важное, а важно внутреннее чрево земли, заключенное в этих очертаниях берегов, – вот тут-то и мать моя, и родня вся лежит, как равнина» [Пришвин 1995, 18].
Подобно мировому древу, пространство вселенной обретает внутреннюю цельность и связь. Расширение дома в горизонтали и вертикали кор- релирует с внутренним ростом души героя, обретением ею своего призвания, состояния «полного обладания своей земной долей» [Пришвин 2012, 318]. Путь художника-провидца подлинного мира находит свое завершение / исполнение в призвании священства – служения, объединяющего живых и мертвых, всех существ вселенной в невидимой церкви: «Таких кругов, выходящих из дому и возвращенных домой, в жизни иного человека бывает много, и все движение идет вверх, по спирали, так что дом второй находится над первым, выше его, третий дом еще выше, и так растет как бы один дом со многими этажами вверх: внизу домика – материальное основание – родина, над родиной отечество, над отечеством творческие труды, над ними прямое любовное воздействие на людей и воскрешение отцов (церковь, в которой священником Я)» [Пришвин 1999, 13]. Мотив восходящих ступеней – этажей леса – в дневнике 1937 г. символизирует духовный путь преодоления оскорбленного «я», «расширения души» в принятии «другого», когда разные «я» «сойдутся в Мы» [Пришвин 2010, 667].
Мотив расширения души («уширить себя до всего сущаго»), вместившей благодать Божью, завершает эпопею странствий героя и в «Троицких записках» С. Дурылина. Молитва открывает «мост» между мирами – из дома-вместилища бесов в дом Божий, когда «душа будто чаша, полная какой-то сладостной влаги, которую не может и удержать в себе» [Дурылин 2016a, 107]. Покаяние и молитва – путь возвращения в мир Божий, который есть «жизнь небесная на земле»: «Молитва – Бог в мире и человеке, и человек и мiр – в Боге» [Дурылин 2015, 87]; «Ну, чту вспоминать старое! теперь ты вернулся на родину…» [Дурылин 2016a,107]. Топика богопри-сутствия расширяется, в видении умирающего Георгия (Мокринского) пространство Божьего мира объединяет мир видимый и невидимый, – это и материнский дом, и больница, и монастырь, и Небесная родина: «Больной он говорил: “Хочу домой. Домой”. А куда? Направо дом: там ты и мамочка, налево – больница, прямо – монастырь вл. Фёдора. Он поднимает руку кверху: “И там дом”. Ушел туда» [Дурылин 2016b, 85].
Как и у Пришвина, возвращение сочетается с прояснением подлинного пути к дому. Лесная дорога в «мути» сна превращается в лесную тропу – метафору видимой / ведомой Богом судьбы, где ясно видны «очертания целесообразности пути»: «а потом, вторично пройдя по той же, самим же протоптанной тропке, – хоть мысленно, – видишь с ясностью: нет, ты не сам находил и выбирал путь. Ты шел только так, как и мог идти. Мог бы, конечно, не продираться чрез кусты, и не рвать одежды, и не царапать лица, но кто поручился бы, что ты не избрал бы вместо кустов болота, вместо ручья не вздумал бы идти через лугообразную трясину?» [Дурылин 2016b, 88].
Война и «вражьи нападения», внутренняя борьба с ожесточением и отчаянием разрешаются победой, данной Богом: «Господи, помози им: какая будет победа! Воскреснет строгая пустынька митр. Филарета. И для народа как хорошо: для всех и для нас, грешных, и для т.н. “большевиков”» [Ду-рылин 2015, 92]. Земные разделения вмещает, исцеляя, дом Божий, примиривший и мудрых, и злых: «Все – мы “большевики”, и они – мы. Вспо- минаю себя в 1901–<190>5 гг.: какого еще “большевика” надо! А Георгий (брат)! А теперь пишет: “Помолись о них”. “Все Твои, и мудрые, и злые, Ты, вместивший всей земли концы!”» [Дурылин 2015, 92]. Кульминация откровения в видимом, распавшемся на враждующие части мире контуров невидимого общего Дома возникает в момент Пасхального богослужения, открывающего покаянный путь прощения врагов и принятия тварного мира: «Звон входит в стихии, в природу, в весну, – растворяется в ней, – сияет, ликует, хвалит Господа, как звезды, воды, ветры… Поразительно у арх. Иннокентия: “Господь говорит: ‘прости им!’ ” [Дурылин 2016b, 93, 94].
Как и в дневниках Пришвина, звучит мотив расширения пространства дома Божия как совокупности лиц, восстановленных в памяти и любви: «Облака звона ширятся, множатся, плывут в бесконечном строе, силе и красоте… Вспоминаю маму, папу, няню, Георгия <…>, брата Георгия, Колю, двух Серёж, Михаила Александровича, всех близких, всем говорю – и живым и мертвым (кои не суть мертвы! Воистину не суть!) – Христос воскре-се! И слышу ответ их единый: Воистину воскресе! » [Дурылин 2016b, 94].
Мистерия преображения завершается в день Преподобного Сергия, под покровом которого находит спасение душа лирического героя: «Вновь я ожил – после недель скверного умирания» [Дурылин 2016b, 99]. Мотив обретения Небесного отечества воплощается в метафоре соединения двух сосудов – души человека, входящей в дом Божий. Это и предсмертный путь души В. Розанова, когда темные воды Стикса превращаются в тихий ручеек, впадающий в «великий неведомый тишайший океан вечной жизни» [Дурылин 2016a, 95]. Это и нашедшая покой и тишину «мiра», Небесной родины душа alter ego автора дневника, ставни которой открыты Божьему миру: «Какая благодать льется в окна!» [Дурылин 2016b, 99].
Заключение
Ведение дневника в кризисный период Гражданской войны становится практикой духовного совладания («spiritual coping») [Кнорре 2017, 151]. Дневники Пришвина и Дурылина представляют особый тип эго-документального повествования, в основе которого – духовная автобиография, открывающая в повседневной жизни ее сакральное измерение. В автобиографическом усадебном мифе писателей можно выявить «мистериальную сюжетную схему» [Магомедова 2013,10], одним из источников которой становится философия Вл. Соловьёва: «разрушение изначальной целостности мира – прохождение через страдания, хаос, смерть – обретение высшего знания о тайной сущности мира, воссоединение с божеством и восстановление гармонии» [Магомедова 2013, 8]. Китежский миф создает гетеротопию усадьбы в дневниках Пришвина и Дурылина, где «усадьба идиллическая» и «усадьба демоническая», соприсутствуя одновременно, соотносятся в динамическом модусе инициации – «возвращения-обращения» души от «падшего мира» (мир, распавшийся на враждующие части, ад сиротской зимы) к целостному миру, «миру в Боге». Дуальность эго-нарратива позволяет описать трагическую повседневность Гражданской войны в мисте- риальном аспекте собирания распавшегося «я» / «дома души». Усадебный миф обретает в такой оптике религиозное измерение темы утраты / обретения родного дома: герой-скиталец, пройдя «лиминальную фазу» сражения с «врагом» в пространстве смерти, преодолевает отчужденность / cирот-ство – открывает Божий мир как свою духовную родину, Небесное отечество, место своего призвания, служения «священства» в мире.
Список литературы «Сквозь толщу катастрофы»: мотив обретения небесного отечества в усадебном мифе М. Пришвина и С. Дурылина в дневниках периода гражданской войны (1918-1922)
- Антонов К.М. Концепт религиозного обращения в философии Вл. Соловьёва // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение, 2004. № 2. C. 159–189.
- Богданова О.А. Усадьба и дача в русской литературе XIX–XXI вв.: топика, динамика, мифология. М.: ИМЛИ РАН, 2019. 288 с.
- Богданова О.А. Русская литературная усадьба XIX–XX вв.: теоретический аспект исследований // Mundo Eslavo. 2020. № 19. С. 89–102.
- Богданова О.А. Категория «усадебного топоса»: границы, структура, семантика, динамика, модификации и вариации // «Проблемы тезауруса “усадебных” исследований в российском и зарубежном литературоведении», семинар, проведенный в рамках проекта Российского научного фонда № 18–18–00129 «Русская усадьба в литературе и культуре: отечественный и зарубежный взгляд» (рук. О.А. Богданова) и при финансовой поддержке РНФ 9 октября 2018 г. ИМЛИ РАН. URL: http://litusadba.imli.ru/event/seminar-problemy-tezaurusa-usadebnyh-issledovaniyv-rossiyskom-i-zarubezhnom-literaturovedenii (дата обращения: 17.12.2022).
- Глухова Е.В. Гетеротопия усадьбы в поэтике русского символизма (часть первая: Зинаида Гиппиус) // Новый филологический вестник. 2019. № 4(51). С. 178–186.
- Дурылин С.Н. Троицкие записки / Публ. и примеч. А. Резниченко и Т. Резвых // Наше наследие. 2015. № 116. С. 77–103.
- (a) Дурылин С.Н. Троицкие записки (Продолжение) / Публ. и примеч. А. Резниченко и Т. Резвых // Наше наследие. 2016. № 117. С. 94–111.
- (b) Дурылин С.Н. Троицкие записки (Окончание) / Публ. и примеч. А. Резниченко и Т. Резвых // Наше наследие. 2016. № 118. С. 82–104. URL: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/11809.php (дата обращения: 17.12.2022).
- Письмо С.Н. Дурылина к З.В. Работновой от 28 октября 1930 (?) года // МА МДМД. Фонд С.Н. Дурылина. КП-612/33. Л. 12–13.
- Кнорре (Константинова) Е.Ю. Дневники и художественные произведения М.М. Пришвина в период Первой мировой и гражданской войн: жанр и концепция «творческого поведения» // Кризисные ситуации и жанровые стратегии: сборник научных трудов. М.: Эдитус, 2017. С. 141–153.
- Кнорре Е.Ю. Сюжет «пути в Невидимый град» в творчестве М.М. Пришвина 1900–1930-х гг.: дис. … к. филол. н.:10.01.01. М., 2019. 295 с.
- Магомедова Д.М. Модели писательских биографий как литературные универсалии // Проблемы писательской биографии: К 150-летию А.П. Чехова. М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 11–19.
- Мотивы «бесовства» в литературе и публицистике первых лет революции // Перелом 1917 года: революционный контекст русской литературы. Исследования и материалы. М.: ИМЛИ РАН, 2017. С. 36–55.
- Пришвин М.М. Дневники 1918–1919 гг. М.: Московский рабочий, 1994. 380, [2] с.
- Пришвин М.М. Дневники: Книга третья. Дневники 1920–1922 гг. М.: Московский рабочий, 1995. 334 с.
- Пришвин М.М. Дневники 1923–1925 гг. М., «Русская книга», 1999. 416 с.
- Пришвин М.М. Дневники. 1918–1919. СПб.: ОО «Изд-во “Росток”», 2008. 560 с.
- Пришвин М.М. Дневники. 1936–1937. СПб.: ООО «Изд-во “Росток”», 2010. 992 с.
- Пришвин М.М. Дневники. 1940–1941. М.: РОССПЭН, 2012. 880 с.
- Резниченко А.И. О смыслах имен: Булгаков, Лосев, Флоренский, Франк et dii minores. М.: Издательский дом РЕГНУМ, 2012. 416 с.
- Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1983. 277 с.
- Тюпа В.И. Анализ художественного текста: учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2009. 336 с.
- Урюпин И.С. Мифологема возвращения в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Материалы всеросс. научн. конференции с междунар. участием, г. Барнаул, 24–26 сентября 2020 г. Барнаул: АлтГПУ, 2020. С. 344–347.
- Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью (пер. с фр. Б.М. Скуратова). Ч. 3. М.: Праксис. 2006. 320 с.
- Черкасова Е.А., Дворцова Н.П. Мистериальная структура стихотворного текста «малой формы» В.С. Соловьёва («В тумане утреннем неверными шагами...») // Вестник тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2012. № 1. С. 198–204.