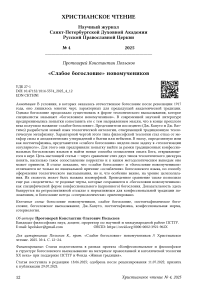«Слабое богословие» новомучеников
Автор: Протоиерей Константин Олегович Польсков
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теоретическая теология и библеистика
Статья в выпуске: 4 (115), 2025 года.
Бесплатный доступ
В условиях, в которых оказалось отечественное богословие после революции 1917 года, оно лишилось многих черт, характерных для предыдущей академической традиции. Однако богословие продолжало существовать в форме теологического высказывания, которое специалисты называют «богословием новомучеников». В современной научной литературе предпринимались попытки сопоставить его с тем направлением мысли, что в конце прошлого века получило название «слабое богословие». Представители последнего (Дж. Капуто и Дж. Ваттимо) разработали новый язык теологической онтологии, отвергающий традиционную теологическую метафизику. Характерной чертой этого типа философской теологии стал отказ от метафор силы и аподиктических утверждений о бытии или небытии. В эпоху, определяемую ими как постметафизика, представители «слабого богословия» видели свою задачу в «теологизации секулярного». Для этого они предприняли попытку выйти за рамки традиционных конфессиональных богословских языков и найти новые способы осмысления опыта Бога, открывающегося в вере. Цель настоящей статьи — через сравнение этих двух типов теологического дискурса понять, насколько такое сопоставление корректно и к каким методологическим выводам оно может привести. В статье показано, что «слабое богословие» и «богословие новомучеников» отличаются не только по изначальной причине «ослабления» богословского языка, по способу оформления теологического высказывания, но и, что особенно важно, на уровне целеполагания. Их схожесть может быть названа изоморфной. Проведенное сравнение также позволило еще раз «подсветить» те родовые черты, которые сохраняются в «богословии новомучеников» как специфической форме конфессионального (церковного) богословия. Доказательность здесь базируется на ретроспективной отсылке к нормативным для конфессиональной традиции положениям, и богословие всегда «сотериологически» ориентировано.
Богословие новомучеников, слабое богословие, постметафизическое богословие, богословское высказывание, Дж. Капуто, постметафизика, конфессиональная норма, сотериология
Короткий адрес: https://sciup.org/140313065
IDR: 140313065 | УДК: 27-1 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_4_12
Текст научной статьи «Слабое богословие» новомучеников
E-mail: ORCID:
Candidate of Sciences in Philosophy, Associate Professor, Vice-Rector for Academic Research and International Affairs at the St. Tikhon’s Orthodox University for the Humanities.
E-mail: ORCID:
Funding : The paper was prepared in the framework of the project “The Confessional and Philosophical Dimensions of Theological Discourse: A Study of the 20th-Century Orthodox and Catholic Theology” with support of the St. Tikhon’s Orthodox University for the Humanities and the Active Tradition Foundation.
После закрытия большевиками всех дореволюционных центров богословской науки (духовных семинарий и академий), а вслед за ними и Петроградского богословского института (1923) и Высших богословских курсов в Ленинграде (1928), после ликвидации всех отечественных научных богословских журналов, с усилением систематических гонений, на долгие годы лишивших Русскую Православную Церковь права голоса, ее способность произносить богословские высказывания (заниматься богословием), казалось, должна была сойти на нет.
Но такое утверждение противоречило бы исповеданию Церковью себя апостольской. Ведь апостольство подразумевает постоянное и непрестанное возвещение ею «всем языкам» (Мф 28:19) Слова Божия, выраженного словами человеческими. И богословие (или, по-другому, теология) в смысле особой духовно-интеллектуальной дисциплины является важнейшим «инструментом» реализации этого существенного свойства Церкви. Поэтому можно утверждать, что оно всегда было, есть и будет жить в Церкви как часть ее непрекращающегося апостольского служения. Тогда правомерным будет вопрос о формах, в которых в тот или иной исторический момент Церковь произносила свои богословские высказывания, особенно в периоды гонений, когда свобода ее самовыражения была ограничена и она не могла открыто возвышать свой голос в традиционных формах. Что в это время в ее богословии остается неизменным, а что может варьироваться и изменяться?
Особым случаем является время после революции 1917 г. Конечно, за границей тогдашнего СССР, куда смогли выехать или были высланы виднейшие представители отечественной богословской школы, теология жила и развивалась, не только продолжая дореволюционную академическую традицию, но и создавая новые оригинальные богословские системы. Примером тому может служить расцвет в эти годы Свято-Сергиевского института в Париже. Однако в пределах Отечества Церковь в лице своих академических институций больше не имела возможности свободно высказываться. А те голоса, которые еще могли звучать на территории СССР (официальные заявления священноначалия или проповедь с амвона), часто не находили согласия даже в церковной ограде и становились предметом ожесточенных дискуссий. Но, несмотря на это, специалисты по истории данного периода считают, что, хотя «эпоха гонений не располагала к написанию богословских трудов», но и тогда богословие продолжало существовать в Церкви в особой форме — как «богословие новомучеников» [Мазырин, 2017, 81].
Его следы нужно искать в особых видах свидетельства, например в частной переписке участников тех событий и их дневниках. Конечно, и в предыдущие исторические периоды такие источники также содержали важные теологические идеи. В отечественной традиции в качестве образца, близкого к разбираемому времени, можно вспомнить богатое в богословском смысле эпистолярное наследие свт. Феофана Затворника, оптинских старцев, дневниковые записи св. прав. Иоанна Кронштадтского. Но раньше источники личного характера никогда не заменяли собой в масштабах целой поместной Церкви теологических высказываний в виде монографий, журнальных статей и диссертаций. В условиях гонений ситуация коренным образом изменилась: теперь именно документы личного характера становятся основной формой выражения идей, имеющих богословское содержание. Речь не только о дневниковых записях и частных письмах, направленных конкретным лицам (хотя они, конечно, наиболее многочисленны). В это время появляются т. н. окружные послания, адресованные всей церковной полноте. Их авторами становятся не официальные представители церковного священноначалия, а самые различные, вплоть до мирян, авторы. Ярким примером является знаменитая «Памятная записка соловецких епископов», написанная на Соловках в печально известном лагере особого назначения системы ОГПУ (СЛОН). Ее при участии некоторых священников и мирян составили отбывавшие там свой срок заключения православные епископы [К правительству, 1927, 19–26]. Также в это время возникает особая форма пастырского попечения — послания находящегося в заключении пастыря, адресуемые им своей церковной общине (как, например, письма из ссылки 1929– 1933 гг. сщмч. Сергия Мечёва прихожанам московского храма свт. Николая в Клёни-ках [Сергий Мечёв, 2012]). Показательным примером этой богословской традиции является состоящий из многочисленных писем и посланий «богословский компендиум» мч. Михаила Новосёлова [Новосёлов, 2012]. По совокупности именно такие документы представляют собой то, что можно назвать «богословием новомучеников». Специальный анализ жанрового своеобразия этой новой формы выражения богословской мысли выходит за рамки настоящей публикации. По-видимому, такая задача должна стать предметом отдельного рассмотрения.
Итак, под «богословием новомучеников» предлагается понимать не систематически написанные богословские труды (монографии, статьи в научных журналах, диссертации) «профессиональных богословов», а совокупность той «россыпи» теологических идей и мыслей, которые можно найти в различных источниках частного характера, созданных непосредственными участниками изучаемого периода истории Русской Церкви.
Успешные попытки обобщить богословские идеи того или иного автора, принадлежащего к данной традиции, уже предпринимались (см.: [Ермилов, 2018; Ячменик, 2021; Yachmenik, Lyutko, 2023]). Но задачей настоящей статьи является не реконструкция конкретных взглядов того или иного автора, а постановка другого вопроса: в чем состоит особенность этого типа богословия, можно ли, и по каким параметрам, его сравнить с другими видами теологической мысли и, наконец, сохраняются ли в такой специфической форме существенные для богословия черты и как это происходит?
В 2023 г. в двух номерах журнала «Вопросы философии» вышла статья А. В. Кольцова «Постметафизическое мышление, экклезиология и вопрос уникальности богословского языка» [Кольцов, 2023а, Кольцов, 2023б]. В ней автор прямо сопоставляет богословские идеи, высказанные в письмах новомучеников и проповедях отдельных послереволюционных иерархов, с особенностями мысли постметафизической теологии, в частности со «слабой теологией» (Дж. Капуто, Дж. Ваттимо), полагая, что их [новомучеников] «суждения содержат очевидные переклички с… особенностями слабой теологии» [Кольцов, 2023б, 209]. Но насколько подобное сравнение обоснованно?
Не будет ли само применение к ситуации периода гонений схем, предложенных несколькими десятилетиями позже, непозволительным анахронизмом? Ведь обычно считается, что первичное оформление идей, легших в основу того, что теперь принято называть «слабой теологией», происходит в нач. 70-х гг. прошлого столетия, а ее окончательное становление завершается лишь на рубеже веков. При этом особо заметное звучание в научном дискурсе школа «слабого богословия» получила только в первом десятилетии уже нынешнего столетия. Однако отечественный исследователь Д. Б. Матвеев справедливо усматривает основания самой возможности «ослабления» теологического языка в гораздо более ранний период — уже в трудах И. Канта. Он считает, что из идей кенигсбергского философа о способности человеческого разума формулировать суждения «и вытекает несостоятельность претензий традиционной религиозной „речи о Боге“ на статус знания того, что она буквально утверждает в религиозных мифах и догмах — можно сказать, ее претензий на когнитивную силу. В этом смысле в свете критического анализа мышления речь о Боге когнитивно „ослабляется“» [Matveyev]. Именно из положений теории Канта, продолженных и развитых Шлейермахером, родился тип теологического мышления, которое Д. Б. Матвеев называет «слабая теология 1.0». С его точки зрения, она представлена школой либеральной теологии. Тогда система Дж. Капуто и Дж. Ваттимо может быть понята как дальнейшее развитие ранее высказанных идей, а ее саму можно назвать «слабым богословием 2.0» [Matveyev]. В этой перспективе опасность анахронического применения термина «слабое богословие» в отношении богословских высказываний периода гонений снимается.
Однако корректно ли использовать его по отношению к «богословию новомучеников» в содержательном смысле? Под «слабым богословием» обычно понимают такой теологический дискурс, который пытается выразить представление о Боге и созданном Им мире и человеке, избегая традиционных метафизических категорий, и «раскрывает Творца не как всесильную личность или основание бытия, а как особое событие, призыв к будущему» [Соловий, 2017, 10]. Слабость в этом звучащем весьма провокативно термине рассматривается не в смысле недостатка чего-то или как противостояние «слабого» «сильному», а как отказ от богословского языка, основанного на метафорах Божественного могущества, неизменности и всезнания и аподиктических утверждениях о бытии или небытии. Дж. Капуто дает такое пояснение этому термину: «[В слабом богословии речь идет] о смерти ens supremum et deus omnipotens, смерти Бога власти» [Caputo, 2007b, 66]. По внешним признакам в этом можно усмотреть какую-то схожесть с тем, в каких формах выражали свою мысль христиане, оставшиеся верными Церкви в условиях гонений. Именно на такую типологическую параллель и указывает в своей статье А. В. Кольцов [Кольцов, 2023а, Кольцов, 2023б]. Используя выражение А. В. Тихомирова, можно сказать, что для обоих дискурсов характерна «догматика без догматизма» [Тихомиров, 2015].
Действительно, ни о каких метафизических схемах в письмах гонимых христиан первой половины прошлого века речь, как правило, не идет. В них мы не найдем и «традиционных» форм рассуждения о Боге (хотя, как это видно, например, у мч. Михаила Новосёлова, высказываемые идеи могут быть очень хорошо фундированы всей предыдущей традицией). Но, по справедливости, истоки такого типа богословство-вания следует возвести не к постметафизической эпохе, а скорее к самому началу христианской мысли, к Посланиям ап. Павла. Известно, что в них он никогда не рассуждает «систематически» или «метафизически». Напротив, его мысли и советы всегда были ситуативны: он либо отвечал на заданные ему конкретные вопросы, либо пытался уврачевать проблемы, о которых ему стало известно в созданных им общинах. У Апостола языков почти не встречаются метафоры силы и власти. И при этом он употребляет очень простые и понятные образы, которые могут показаться даже слишком приземленными для излагаемых им высоких богословских идей: дом и верный домоправитель, поле и растущий на нем урожай, тело человека и его члены, торговля на рынке, изнурительный труд гребца на галерах и проч. Главная забота ап. Павла — пастырская: научить христиан жить в соответствии с принятой ими верой, а не преподать им целостную систему богословия. Кроме этого, он всегда учитывал способность своих адресатов воспринять написанное им (ср. 1 Кор 9:19–23). Отсюда и «простота» его языка, основные идеи которого должны были быть легко «считаны» адресатами Посланий. Но в иной культурно-исторической обстановке эта изначальная «доступность» всегда сообщала попыткам систематической реконструкции богословских идей Апостола языков особую сложность. Однако, как кажется, именно в «духе» ап. Павла и рассуждают авторы периода гонений. Их, по понятным причинам, не интересуют отвлеченные богословские вопросы. Главными темами для них становятся, как и для Апостола языков, пастырское попечение, рассуждение об истинной Церкви (особенно в связи с обновленческим расколом и дискуссиями внутри Церкви о лояльности государству) и сохранении ей верности. А кенотически умаленная форма этого типа богословия в полной мере отражает обстоятельства, в которых находилась в то время Церковь.
Дж. Капуто также часто и много обращается к мысли ап. Павла, одна из метафор которого1 даже становится для него отправной точкой для рассуждения о «слабом богословии». Но, как будет показано далее, сопоставимые темы у новомучеников и представителей «слабого богословия» звучат совсем по-разному. Например, С. А. Коначёва, разбирая этот столь важный для Капуто образ, замечает, что он «концентрирует внимание на том, „где“ и „как“ Бог существует^ показывает, что Бог существует в контексте человеческого существования как критическая сила, ставящая под вопрос структуры принуждения и доминирования» [Коначёва, 2022, 223]. Казалось бы, и новомученики также говорят о том, как жить Церкви в новых условиях и как противостоять внешнему принуждению. Но о каком принуждении и доминировании говорится в обоих случаях? Дж. Капуто, создавая свой теолого-политический проект, пишет: «Мы призваны представить Царство Божие в политических структурах современности» [Caputo, 2007a, 87]. Отвергая в современном мире все формы неравенства, он ожидает наступления события справедливости как «дара, прощения и гостеприимства» [Caputo, 2006, 47]. В условиях гонений 1920-1940-х гг. главным противником христиан в СССР стала богоборческая власть, принуждавшая их пойти на вероучительные компромиссы. Реагируя на эту жизненную опасность, авторы того времени пишут о противостоянии не социальной несправедливости, а потенциальной апостасии, и об отвержении тотального силового доминирования государственной системы, направленного на физическое уничтожение Церкви. Удивительно, но об этой форме «несправедливости» Дж. Капуто нигде не вспоминает, хотя прекрасно о ней знает.
Это различие хорошо видно на примере упоминавшейся выше «Памятной записки соловецких епископов», которая почти целиком посвящена тому, что в богословии принято называть экклезиологией, — учению о Церкви. Но, как и в Послании к Ефесянам, главном экклезиологическом тексте ап. Павла, где высочайшие богословские идеи выражаются через использование простых и понятных читателям образов (человеческое тело, храм, в котором совершается поклонение, брак невесты и жениха, дом, воин, готовящийся к бою), здесь мы тоже не найдем метафизического языка. Показательно и то, что Соловецкое послание написано в виде письма, а «его цельность и богословская глубина» [Поспеловский, 1995, 139] значительно отличаются от привычного дискурса академического богословия: в нем нет ни привычной школьному богословию терминологии, ни догматических рассуждений, ни метафизических образов. То есть в нем в специфических условиях 30-х гг. прошлого века вполне можно было бы усмотреть «ослабление» языка традиционной догматики. Но мотивация этого «ослабления» сильно отличается от того, как она объясняется в постметафизическом богословии. Такое ослабление, по мнению Капуто, с необходимостью происходит потому, что в современном мире никакое имя больше не может вместить описываемое им событие, становится лишь отсылкой к грядущему явлению справедливости, отбрасывая все ранее релевантные в академической теологии ограничения языка, в том числе языка «старой» догматики. Поэтому в его системе «конфессиональная идентичность не просто перестает быть решающим фактором христианского самоосмысления, но, наоборот, становится проблемой, требующей „смягчения“ путем „ослабления“ всех однозначных маркеров и императива „гостеприимной“ открытости» [Кольцов, 2023а, 153]. В случае с авторами Соловецкого послания дело обстоит иначе. Многие из них были не просто хорошо образованными людьми, но и известными богословами своего времени, как, например, архиеп. Иларион (Троицкий). Они в полной мере владели языком академического богословия, который никогда не казался им неадекватным для выражения своих идей. Но ни та обстановка, в которой они составляли воззвание, ни богословская компетентность тех, кому они его адресовали, не предполагали использование отвлеченных схем и метафизических рассуждений. Как и для ап. Павла, главная их задача была — быть услышанными и понятыми самым широким кругом читателей. Примечательно, однако, что, как и во времена, когда ап. Павел прямо указывал, что его понимают искаженно (см. Рим 3:8), эта «простота» формы не гарантировала того, что содержание послания будет правильно воспринято всеми. Но в целом, как кажется, именно ориентация на широкий круг адресатов, не являющихся профессиональными теологами, и явилась основной причиной «ослабления» авторами Соловецкого послания традиционного экклезиологического языка. Таким образом, очевидно, что даже похожие идеи в рамках исследуемых традиций функционируют по-разному.
Но расхождения между двумя типами богословского дискурса не сводятся только к этому. Не менее глубокое содержательное различие может быть выявлено и на уровне того, как в них оформляется богословское высказывание. Так, в языке богословия новомучеников сохраняется присущее церковной или, если использовать термин Дж. Капуто, «конфессиональной» теологии стремление обосновать доказательность произносимых утверждений через сопоставление описываемого явления с тем, что принималось верующими (или их большинством) как «правило веры». Именно поэтому в тексте Соловецкого послания присутствуют постоянные отсылки к той норме отношения Церкви с государством, которая присутствует в Новом Завете (ср. Рим 13:1-7, 1, 1 Тим 1:6, 1 Пет 2:13-17, Иуд 1:8), как выражаются авторы послания, к базовым «принципам, определяющим ее отношение к государству». Для представителей «слабого богословия», наоборот, такое ретроспективное обращение к нормам неприемлемо и означает «опасность закрыться в конфессиональной теологии» [Соловий, 2017, 13].
Будучи воспитанным в католической традиции, Дж. Капуто называет свой проект «радикальной теологией». Она должна решительно «прорвать различие между конфессиональными убеждениями и неверием, этой жизнью и следующей жизнью, и проникнуть в суть жизни, жизни достойной, жизни, наполненной страсти, которая структурирована как религия без религии» [Caputo, 2006, 136]. Поэтому его мысль принципиально экуменична. «По своей сути радикальная теология аффирмативна и конструктивна, — пишет Р. П. Соловий, — однако она утверждает не конфессиональные убеждения (фр. сroyances) и практики, а глубокую веру (фр. foi) в то, что включает в себя событие имени Бога» [Соловий, 2017б, 12]. А само богословие «означает скорее размышления о религиозных феноменах в целом, а не конкретную традицию или набор утверждений об истине» [Коначёва, 2022, 2015]. Чтобы найти «более глубокую» веру в то, что обещано в событиях, Капуто зовет к «гостеприимной открытости» любому проявлению веры и предлагает выйти за рамки всякой конфессиональной (церковной) традиции, отказаться от известных и общепринятых в той или иной церковной практике представлений о Боге. Все конкретные особенности, отсылающие к конфессиональной норме, вплоть до понятия суверенного Бога, подвергаются в его системе деконструкции в стиле Ж. Деррида. Именно поэтому самым адекватным языком такого типа теологии оказывается не дискурс строгих определений, укорененных в Предании, а теопоэтика, занимающая положение между эстетикой и логикой.
Напротив, богословский язык новомучеников является апологией истины той церковной традиции, которой они остались верны. И неважно, о каком типе понимания традиции идет речь (см.: [Шишков, 2017, 22–29]). Это точно не призыв к «открытому гостеприимству», возвышающемуся над Преданием. Само Предание осознается ими как гарантия принадлежности к кафолической Церкви. Вследствие этого, как кажется, и замечаемое А. В. Кольцовым «ослабление» в письмах сщмч. Дамаскина (Цедрика) языка канонического юридизма в пользу духовно-благодатных горизонтальных связей верующих также принципиально отличается от того, о чем говорят Дж. Капуто и его последователи. Во-первых, хотя еп. Дамаскин отправил большое количество писем (их насчитывается около 150), его богословские идеи в них, как когда-то у ап. Павла, не были сформулированы в систематическом и законченном виде. Каждый раз они ситуативны. Во-вторых, в текстах священномученика постоянно присутствуют отсылки к Преданию Православной Церкви, верным последователем и хранителем которого он себя осознавал. А в-третьих, речь у еп. Дамаскина все же идет не о «критическом пересмотре традиционной экклезио-логии, которая формулируется вокруг представлений об основополагающем значении организационно-обрядовой стороны церковной жизни, ее административноиерархической структуры и регулятивной роли канонических документов» [Кольцов, 2023а, 157], то есть не о переосмыслении церковных канонических устоев. Весь его обличительный пафос направлен против того, что он понимает как отход от строгой канонической нормы устроения церковной жизни, называемой им «моим credo», «идеалом Святой Церкви» и подтверждаемой в текстах писем регулярной апелляцией к Писанию и церковным правилам (см. подр.: [Косик, 2009, 312–316]). Позицию противоположной стороны еп. Дамаскин категорически отвергает. Ею, как он считает, «произведен сдвиг в сфере глубоких духовно-церковных отношений, а соблазн [ею произведенный,] касается самих принципов этих отношений, принципов, проистекающих из основных понятий христианского учения» (см. подр.: [Косик, 2009, 281–291]). Епископ Дамаскин находился в ситуации, когда, с одной стороны, центральная церковная власть превысила, по его мнению, свои полномочия и не могла больше выступать гарантом единства, а с другой стороны — в массах верующих наблюдался «дух умаления веры и ревности» (см. подр.: [Косик, 2009, 281–291]). Поэтому можно предположить, что особый акцент на благодатные горизонтальные связи между оставшимися верными истинной Церкви христианами делается им не как следствие «ослабления» языка традиционной экклезиологии с целью «гостеприимной открытости», а как попытка бескомпромиссно очертить тот вероучительный минимум, от которого он не готов отказаться ни при каких обстоятельствах и который позволит найти немногих оставшихся верными Церкви сторонников.
Таким образом, и при рассмотрении особенностей языка двух теологических дискурсов мы также видим их значительное несовпадение, что вполне отражает их «родовую» принадлежность. «Слабое богословие» Дж. Капуто — это форма философской теологии, а «богословие новомучеников» — особый вариант того, что сам Капуто называет «конфессиональной верой… которая становится центральным элементом сильного богословия» [Caputo, 2006, 18], то есть богословия конкретной церковной традиции. Как замечает В. К. Шохин, «субъект философской теологии, если он хочет соответствовать своей специализации, должен предлагать личные, авторские постановки и решения теологических проблем, и тем он отличается от церковного богослова, который призван прежде всего находить слова, соответствующие его времени, для озвучивания плодов исторической работы „соборного разума“» [Шохин, 2018, 8]. Те, кого можно отнести к авторам «богословия новомучеников», в отличие от Дж. Капуто, как раз и выражают свою позицию с точки зрения принятой в Церкви нормы, исповедуя ее как свое собственное правило веры, что и видно во всех цитировавшихся выше текстах.
И это различие простирается от базового понимания веры2 до осознания конечного целеполагания богословских утверждений. Телеологический уровень рефлексии над тем, зачем произносится то или иное теологическое высказывание, имеет первостепенное значение для анализа различий «богословия новомучеников» и «слабого богословия». Без осмысления этого вопросы, «что» (доктринальное содержание веры) и «как» (способ осмысления, упорядочивания и вербализации веры сообщества) говорится конкретным богословом, в значительной степени теряют смысл. Дж. Капуто понимает свою задачу как апологию самой широкой веры: «Вместо секуляризации теологии наш постсекулярный теологический проект предпринимает теологизацию секулярного» [Caputo, 2006, 344]. «Моя главная страсть, — пишет он, — это страсть незнания, страсть, которая не ведает, что ей движет, страсть к Богу, к неведомому Богу, молитва о событии, которое таится в имени Бога. Это страсть к Бог знает чему, сильная страсть слабого богословия, ради которой я живу беззаветно, о которой молюсь день и ночь» [Caputo, 2006, 352]. При этом Капуто сосредоточен на политическом (политическая теология) аспекте религии и этическом (теопоэтика) осмыслении и выражении такой веры. Обобщая смысл своего проекта, он утверждает: «Конечным результатом теологии события является или должно быть преобразование нашей жизни, перенос нас в другой порядок, за пределы порядка познания, именования и неименования, где мы сможем служить deus incognitus в духе и истине» [Caputo,
2006, 350]. Это, по его мысли, возможно только при наступлении царства «священной анархии», отвергающей логики исторических религий. Такая мысль по своей сути есть окрашенная «радикальным теологическим желанием» [Caputo, 2006, 350] философская жажда прорваться сквозь все ветхие определения и добраться до истинного смысла вещей, явлений и событий здесь и сейчас.
Но на этом уровне рефлексии система «слабого богословия» так и не предлагает окончательные ответы на ряд неизбежно возникающих вопросов. Деконструируя не только конфессиональную догматику, но и многие основы нововременной рациональности, основанной на концептуальном мышлении, Дж. Капуто вместе с тем, как кажется, теряет и многие привычные ориентиры. Как справедливо отмечает Д. Б. Матвеев, «постмодернистское мышление неоднократно уличали в самопротиво-речивости и невозможности быть в нем последовательным. Соответственно, там, где Капуто на это мышление опирается, можно усмотреть противоречия и у него. Отрицание „бинарных оппозиций“ именно эту же оппозицию и предполагает. Апелляция к „событию справедливости“ подразумевает справедливость как общую ценность» [Matveyev]. А в результате в его системе чаемое событие справедливости так и не приобретает никаких четких контуров. Оно может и вовсе не наступить или, наступив, оказаться совсем не таким, как его ожидали: «Даже если мы молимся о том, чтобы пришло „царство“, у нас нет уверенности в том, что то, что грядет во имя царства, будет носить это имя… Ничто не безопасно» [Caputo, 2006, 346–347]. Ведущий автор постметафизического богословия сознательно не только не описывает грядущее «царство», но скорее оставляет своего читателя по этому центральному вопросу в растерянном недоумении, ставя его перед неразрешимой задачей.
Поэтому, может, рассуждая о грядущем событии справедливости и проблеме того, как понимать всемогущество «слабого» Бога, Дж. Капуто оказывается неспособным разрешить проблему теодицеи, на которую он в своих рассуждениях так или иначе выходит, и неожиданно начинает говорить языком, удивительно напоминающим Ивана Карамазова: «Сказать, что у Бога есть некая таинственная Божественная цель, когда невинного ребенка похищают, насилуют и убивают, — это откровенное богохульство. Это не тайна, а заблуждение о Боге и о силе Бога» [Caputo, 2006, 117]. Никакого решения этой «тайны» автор в итоге так и не предлагает3. То есть, перенося внимание с конфессионального сотериологического идеала на перспективу грядущего события справедливости как теолого-политического свершения, Дж. Капуто, похоже, попадает в некоторые мысленные ловушки.
Целеполагание в «богословии новомучеников» совершенно иное. Оно опять-таки восходит к базовой интуиции ап. Павла: знать что-либо о Боге можно и нужно только для того, чтобы, воспев Его, пребывать с Ним в общении (ср. «Они [язычники], познав Бога, не прославили Его»; Рим 1:21). Именно поэтому самое высокое богословие Апостола языков всегда выражается в форме гимнов (Рим 8:31–39; 1 Кор 13; Еф 1:20–23, 2:14-18; Кол 1:15-20; Флп 2:6-11; 1 Тим 3:16; 2 Тим 2:11-13; Тит 3:4-7; Евр 1:1-4) [Лушников, 2009, 244], которые, однако, совсем не похожи на язык теопоэтики «слабого богословия». Можно сравнить эти доксологические тексты ап. Павла с заключительным разделом главного труда Дж. Капуто о «слабой теологии», представляющим собой своеобразный гимн «неведомому Богу»: «Истина события освобождает нас от порядка имен и переносит нас на другой уровень, где истина не означает изучение имени, а превращение истины в реальность, осуществление ее, facere veritatem, позволение событию произойти, sans voir, sans savoir, sans avoir, молясь и плача перед неизвестным богом» [Caputo, 2006, 354].
В письмах новомучеников такой текст трудно себе представить: не по форме, а именно по содержанию. Для них никакие другие причины обратиться к языку богословия не могут быть приняты, если оно не указывает на сотериологический идеал, осуществимый во Христе и Его Церкви. Так, например, авторы «Памятной записки соловецких епископов» настаивают на том, что «Церковь полагает цель человеческой жизни в небесном призвании духа и не перестает напоминать верующим об их небесном Отечестве, хотя бы жила в условиях наивысшего развития материальной культуры и всеобщего благосостояния» [К правительству, 1927, 20]. Им вторит еп. Дамаскин (Цедрик): «Многие и многие, м[ожет] б[ыть], самые высокие ревнители веры и Ц[ерк]ви, вопрос о спасении поставляют выше вопроса о механической церковной дисциплине» (цит. по: [Косик, 2009, 293]). Указанная цель достигается в этой системе богословия строгим следованием «обвеянному святыней прошлых веков вероучению», от которого «Православная Церковь никогда… не откажется ни в целом, ни в частях» [К правительству, 1927, 21]. На этом пути новомученики не только не ищут установления социальной справедливости (в Соловецком послании таковой признаётся идеалом коммунистического правительства СССР: «коммунизм не желает знать для человека никаких других целей, кроме земного благоденствия»), но и готовы отказаться от любой внешней организации, «уйти в „пустыню“, и, как во времена первохристианства, в скудости, убожестве, но и в неповрежденной святости и чистоте повести верных ко спасению» [Косик, 2009, 119]. Это, однако, не воспеваемая в «слабом богословии» деконструкция исторических форм, а единственно возможный (и доказанный правдой истории!!!) в тех обстоятельствах путь сохранения верности Православной Церкви и ее пониманию спасения. Показательно, что Дж Капуто, как это уже было указано выше, наоборот, стремится превзойти «конфессиональную веру или формулу вероучения» [Caputo, 2006, 18], а слово «церковь» (не только в смысле гаранта такого предания, а вообще в любом смысле) в его главном труде практически не встречается. Именно здесь различие «конфессионального» и «слабого» богословия проявляется наиболее зримо.
Однако при таком понимании может возникнуть следующий вопрос: если новомученики выражали на языке своей эпохи те же чаяния, что и сам ап. Павел и все последующие поколения христиан, то не является ли историческая динамика формы, в которой произносится теологическое высказывание, чем-то исключительно внешним по отношению к его содержанию? По этому поводу можно сделать два предварительных замечания. Во-первых, как и любое человеческое слово, богословское высказывание (то есть облеченное в форму человеческого языка слово о Боге и созданном Им мире) несет на себе отпечаток своей эпохи и той традиции, в рамках которой оно произнесено. В этом смысле невозможно говорить об исторической динамике его формы как о чем-то для богословия внешнем и случайном. Непросто и не сразу войдя в привычный узус, понятие богословия в первом тысячелетии обозначало особую духовную практику богомыслия и толкования Священного Писания, а также соответствующий им аскетический образ жизни. Тут уместно вспомнить знаменитое высказывание Евагрия Понтийского: «Богослов тот, кто молится». Язык этого типа богословия был тесно связан с Писанием и его толкованием. Он оттачивался в течение первого тысячелетия, сохраняя базовые библейские интуиции. Но после 1000 г., особенно в связи с развитием университетов, под именем «теология» все больше начинает пониматься теоретико-когнитивная дисциплина, использующая для самовыражения научный и философский аппарат своего времени. Если для первого понимания вопрос о спасении — это «альфа и омега», а его язык в полной мере подчинен данной центральной идее, то в рамках второй традиции большое значение имеет не только само содержание теологического высказывания, но и основанная на строгих правилах логики форма, в которую оно облечено. Такой тип теологии более открыт философии, которая через различные школы оказывала на нее значительное влияние. Именно здесь онтотеология (если использовать определение Хайдеггера и Деррида) окончательно восторжествовала. Хотя надо вспомнить, что обращения к философии с ее вниманием к терминам богословие в его первоначальном понимании никогда не чуралось. Иначе не продолжались бы десятилетиями в первом тысячелетии споры о словах и терминах, в которых выражалась принимаемая Церковью истина. Таким образом, форма выражения богословской идеи важна для обоих пониманий богословия. Во втором случае это очевидно. Но не менее принципиально это и для библейско-экзегетической традиции. Отношение к форме выражения истины у богословов, которых можно отнести к первому типу, всегда было самым серьезным. Если смотреть шире, то работа, которая в любое время велась в Церкви над формой конкретных богословских высказываний, является частным проявлением более общего процесса поиска адекватного в той или иной исторической обстановке ее языка и его соотношения с языком молитвы. Вопрос этот всегда волновал христианских богословов.
А во-вторых, даже на примере одного и того же автора видно, как внешние условия влияли на форму и содержание его богословских высказываний. Если сравнить, например, работы сщмч. Илариона (Троицкого) дореволюционного периода с Соловецким посланием, одним из авторов которого он был, то можно наглядно увидеть эту разницу. Об этом же, но уже в части трансформации богословских идей А. Лосева в послереволюционный период, говорит прот. П. Хондзинский (см.: [Хондзинский, 2025, 53–67]). Этот процесс начался гораздо раньше революционных событий. Уже со 2-й пол. XIX в. в отечественной академической и внеакадемической мысли активно шел процесс осознания того, что две описанные выше формы теологии не должны существовать оторванно друг от друга. Не мог этот процесс не затронуть и будущих авторов «богословия новомучеников», многие из которых были активными участниками тех дискуссий. Поэтому напоминающее «ослабление» догматизма в «слабом богословии» освобождение их языка от ряда особенностей, присущих теоретикокогнитивному пониманию, не произошло на пустом месте. Но мотивы и формы этого освобождения были совсем другие, чем у Дж. Капуто.
Условия гонений и крушение былых идеалов приводили к тому, что многие из прежних представлений христианами, оказавшимися в условиях гонений, были переосмыслены или стали выражаться ими другим языком. Возвращение к простоте богословского языка, характерной для ранней Церкви, у них вполне укладывается в русло таких изменений. И, как бы ни разнился язык апостолов и христиан XX в., все же можно усмотреть гораздо большую близость между апостольским призывом «соделаться причастниками Божеского естества» (2 Пет 1:4) и уже цитировавшимся выше мнением Соловецкого послания о том, что цель человеческой жизни состоит в «в небесном призвании духа», чем между ними и призывами Дж. Капуто. Задача сегодняшнего богослова, исследующего наследие той эпохи, — за различием внешних форм увидеть и почувствовать содержательную тождественность этой сотериологиче-ской устремленности.
Итак, можно подвести итоги всему сказанному. В церковно-конфессиональном и в «слабом» богословии предметом рассмотрения выступает содержание одной и той же веры, форма которой может изменяться. Но при этом данные два типа мысли и динамика происходящих в них изменений могут быть названы лишь изоморфными, то есть совпадающими по внешним признакам, но различающимися по содержанию. Самые яркие сближающие их особенности, на которые и указывают отдельные исследователи: «ослабление» традиционного языка догматики и внимания к институциональному пониманию Церкви, акцент на вере и солидарности со страдающими и отверженными — проистекают из различных внутренних установок. «Слабое богословие сосредотачивает внимание не на доказательствах бытия Бога или рассмотрении Божественных атрибутов, но на способе данности Бога опыту мышления» [Коначёва, 2016, 26]. Это философский проект, занятый поиском в постметафизическую эпоху нового способа выражения теологической онтологии. Конфессиональное (церковное) богословие, даже в ситуации отсутствия свободы выражения, продолжает искать прежде всего возможность индивидуального спасения, призыв к которому у новомучеников выражается в духе первоначальной простоты богословского языка ранней Церкви, еще не освоившей греческую «сильную» метафизику.
Данное первичное различие между ними определяет то, почему они не совпадают ни на уровне богословского языка, ни на уровне телеологических смыслов.
Отвечая на вопрос, заданный в начале настоящей статьи, можно сказать, что проведенное сравнение позволяет также подсветить существенные свойства «богословия новомучеников» как специфического проявления церковного богословия периода гонений. Хотя в силу внешних обстоятельств форма, в которой оно продолжало существовать, отличается от традиционной академической, но в нем в полной мере сохранились его родовые признаки. На уровне особенностей теологического языка, или, по-другому, на уровне того, «как произносится богословское высказывание», совершенно очевидно, что, даже утратив любые отсылки к метафизике и систематичность, свойственные прежней традиции, оно по-прежнему производит сопоставление рассматриваемого явления с тем, что в Предании Церкви (общины верующих людей, а в богословии новомучеников — общины оставшихся верными патриаршей Церкви) принимается как норма или правило веры. Такое сравнение всегда подкрепляется ретроспективной отсылкой к признанным церковным сообществом образцам (Священному Писанию, решениям общепринятых Соборов, Священному Преданию).
На телеологическом уровне в «богословии новомучеников» как форме конфессиональной (церковной) теологии, неизменным остается то, что можно назвать ее «сотериологической устремленностью». Поиск путей личного спасения, которое понимается в соответствии с учением, принятым в православии, — это то единственное, что оправдывает для участников тех событий их обращение к богословской рефлексии. Можно говорить об особенностях языкового выражения этой центральной идеи у того или иного автора. Но без нее их богословские выказывания потеряли бы свой смысл. Католика Дж. Капуто влечет не идея спасения души, как она понимается в церковном вероучении, а страстный (здесь уместно вспомнить столь любимое им определение «passionate») поиск того, что в вере выходит за рамки любой рациональности и не может быть схвачено никакой системой (даже церковной догматики). В чаемом им «событии справедливости» нет никакой гарантии, а лишь риск, сопряженный с надеждой. Его телеология — это «ряд горизонтов, которые постоянно рушатся под тяжестью желания, под тем, что Чарльз Винквист так любил называть „давлени-ем“ радикального теологического желания» [Caputo, 2006, 348].
Вспомнив в заключение известное выражение ап. Павла «сила Моя в немощи совершается^ когда я немощен, тогда силен» (2 Кор 12:9-10), может, не было бы большим преувеличением сказать, что «немощное» и кенотически умаленное по форме богословие новомучеников, лишенное былых атрибутов академичности, но сохранившее существенные черты конфессиональной (церковной) теологии (ретроспективное обращение к принятым в церковном сообществе нормам и сотериологическую устремленность), и есть приемлемый для нее извод «слабого» богословия. Хотя, возможно, Дж. Капуто с этим бы не согласился.