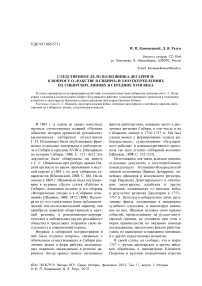Следственное дело полковника Дегарриги: к вопросу о «рабстве в Сибири» и злоупотреблениях на сибирских линиях в середине XVIII века
Автор: Каменецкий Иван Павлович, Резун Дмитрий Яковлевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье опровергается историографический миф, созданный известным сибирским публицистом С. С. Шашковым о наличии в колонизуемой Сибири «безудержного рабства» и административного произвола в отношении алтайских и джунгарских беженцев в период разгрома Джунгарии Цинским Китаем.
С. с. шашков, джунгаро-цинская война, миграция джунгарских и алтайских народов, работорговля на сибирских линиях, следственная комиссия
Короткий адрес: https://sciup.org/14737640
IDR: 14737640 | УДК: 947.065(571)
Текст научной статьи Следственное дело полковника Дегарриги: к вопросу о «рабстве в Сибири» и злоупотреблениях на сибирских линиях в середине XVIII века
В 1867 г. в одном из самых известных научных отечественных изданий «Чтениях общества истории древностей российских» выдающимся сибирским областником Г. Н. Потаниным были опубликованы фрагменты отдельных материалов о работорговле в Сибири в середине XVIII в. [Материалы по истории Сибири, 1986. С. 153–162.] Эти документы были обнаружены им вместе с С. С. Шашковым при разборе архива Омской крепости во время пребывания в местной тюрьме в 1865 г. по делу сибирских сепаратистов [Шиловский, 2008. С. 66]. На их основе в 1869 г. Шашковым была опубликована в журнале «Дело» статья «Рабство в Сибири», вошедшая позднее в его сборник «Исторические этюды» и в «Собрание сочинений» [Шашков, 1869; 1872; 1898]. Несмотря на то, что статья имела более публицистический, чем исследовательский характер, она приобрела широкий общественный и научный резонанс в революционно-демократических и либеральных кругах российского общества и продолжает сохранять свою актуальность в современный период.
Впервые в сибирской историографии в ней были подняты вопросы, связанные с обличением существовавших в Сибири различных видов и форм рабства, колониальных порядков, насаждаемых в регионе царизмом. Автор привел немало негативных фактов работорговли, имевших место в различных регионах Сибири, в том числе и на Сибирских линиях в 1756–1757 гг. Им был сделан вывод о формировании «класса рабовладельцев», существовании «безудержного рабства» и административного произвола «во всех уголках сибирской колонии» [Шашков, 1898. С. 532–533].
Источниками для таких выводов явились отдельные документы о злоупотреблениях командующего Колывано-Воскресенской линией полковника Франца Дегарриги, линейных офицеров и коллежского регистратора Парамона Девятиеровского в отношении джунгарских, алтайских и других беженцев, спасавшихся от цинских войск в результате разгрома Джунгарии в 1755– 1757 гг. Используя избирательно лишь негативные факты, изложенные в материалах судебного следствия, и акцентируя внимание на них, Шашков изложил свою версию событий, происходивших на русско-джунгарской границе, не упомянув при этом о мерах правительства по оказанию помощи пострадавшим, пресечению фактов работорговли, по выявлению и наказанию виновных и о других существенных моментах.
В своей статье он сообщал, что в марте 1757 г. группа джунгарских и других зайса-нов обратилась к императрице Елизавете Петровне и русским пограничным властям
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 1: История © И. П. Каменецкий, Д. Я. Резун, 2012
с просьбой принять их в российское подданство, получив на это согласие. Но движимые корыстными мотивами местные военные власти (полковник Дегаррига и его подчиненные), выполняя указы императрицы и сибирской губернской администрации, допустили произвол и насилие в отношении калмыков. За свое содействие и покровительство «зенгорцам» они получали взятки в виде малолетних детей, лошадей, пушнины, золота, серебра, жемчуга и пр. Вымогательства, угрозы и насилия русских военных и гражданских властей привели к тому, что половина беженцев разбежались в горные ущелья от своих «спасителей», а их зайсаны обратились с жалобами к императрице на действия пограничных властей, что и повлекло два продолжительных судебных разбирательства [Материалы по истории Сибири, 1986. С. 158–159].
Приведенные Шашковым факты широко использовало не одно поколение исследователей истории Сибири: в дореволюционный период [Ядринцев, 2003. С. 307–308], в 1920–1930-е гг. [Фирсов, 1921. С. 62; Тыж-нов, 1999. С. 10–11], в 1950–1970-е гг. [Потапов, 1953. С. 179–180; Гуревич, 1973. С. 103; Моисеев, 1983. С. 94–95] и в постсоветский период [Самаев, 1991. С. 126, 140, 142; Шерстова, 1999. С. 154–155, 179; 2005. С. 93, 106, 120]. Извлечения из статьи Шашкова продолжают тиражироваться и в наши дни.
Так, Л. И. Шерстова, безоговорочно приняв сведения Шашкова, пишет в своей монографии: «Офицеры Колывано-Кузнецкой линии, как выяснило следствие по делу Дегарриги за мзду изменяли статус “выбегавших” к крепостям кан-каракольцев (этнос Горного Алтая. – И. К. , Д. Р. ) весьма охотно, записывая просящих вместе с их улусами в двоеданцы. Этим воспользовалось немало алтайцев, которые приняв фиктивный статус двоеданцев и сделавшись российскими поданными <…> откочевали в далекие горы и укрепились там» [Шерстова, 1999. С. 106].
В 2010 г. в Санкт-Петербурском институте истории РАН И. А. Мальцевым была защищена кандидатская диссертация на тему «Рабство в Сибири и Оренбургском крае в XVIII – первой половине XIX в.», где, несмотря на критику подхода Шашкова к сложной сибирской реальности, эпизоды работорговли, приведенные им, вновь были рассмотрены как бесспорное проявление
«русского колониализма» в худшем его варианте в самый драматичный для Джунгарии период [2010. С. 168].
Между тем многие обстоятельства этого сложного и затянувшегося дела до сих пор остаются вне поля зрения историков, а первичные следственные материалы не стали еще объектом исследования.
Сохранившееся в Архиве внешней политики Российской империи в фонде «Джунгарские дела» «Следственное дело по извету адмирала Мятлева бывшаго в Тобольске губернатора о великих взятках полковника Дегарригой и другими штаб и обер офицерами с принятых в российское подданство выходцов дзюнгарцов, бухарцов, киргизс-цов и протчих народов, и о роспуске оных народов более половины под предлогом бежавших» дает нам более адекватное представление о трагических событиях, происходивших в 1756–1757 гг. в Горном Алтае, и, что самое важное, позволяет выяснить отношение правительства России, военной и гражданской администрации к проблеме беженцев и судьбе джунгарских, алтайских и других народов в момент гибели некогда могущественного Джунгарского ханства 1.
Следственное дело представляет собой сложный многоплановый источник, состоящий из 276 листов, который наряду с изложением результатов судебно-следственных мероприятий достаточно полно отражает сложную военно-политическую, этнополитическую обстановку, возникшую на Колы-вано-Кузнецкой линии в 1756–1757 гг., а также меры правительства и пограничных служб по стабилизации миграционного потока и устройству беженцев, спасавшихся от китайской агрессии.
Потерпев поражение в ходе джунгаро-цинской войны летом 1755 г., разрозненные ойратские и подвластные им алтайские народы устремились к недавно возведенной русской пограничной линии, нарушив сложившееся в регионе военно-политическое и этническое равновесие. Характеризуя сложную миграционную ситуацию, порожденную войной, И. И. Тыжнов справедливо отметил: «Алтай представлял собою оригинальное зрелище. Это была стоянка или лагерь разнообразных народностей, сбегав- шихся сюда от бойни, которую устроили маньчжуры в Чжунгарии. Здесь были и чжунгарские калмыки, и мингаты, и урянхайцы, бывшие подданные контайши. За ними явились китайцы и монголы, чтобы подчинить их власти богдыхана или выдворить на старые места. Сюда же набегали и киргиз-казаки, чтобы пограбить. Все они, в большинстве разоренные и лишенные средств к существованию, по большей части живут грабежом» [1999. С. 13].
Преобладающая часть беженцев и преследующих их цинов оказалась в непосредственной близости от русских пограничных крепостей и форпостов, что создало реальную угрозу российским владениям в предгорьях Северного Алтая. В этих непростых условиях командующему линией полковнику Дегарриге и его администрации пришлось решать сложные задачи не только по защите своих рубежей, но и о принятии новых народов в российское подданство. Руководствуясь указом императрицы Елизаветы Петровны от 2 мая 1756 г. о приеме ойратов и алтайцев в русское подданство, пограничные власти начали осуществлять перепись вынужденных мигрантов, выявлять их статус, обеспечивать нуждающихся продовольствием и кормом для скота, а также вести агитацию по переселению беженцев в низовья Волги.
Несмотря на предпринятые меры по упорядочению миграционного потока и устройству беженцев, деятельность Дегарриги и его подчиненных вскоре стала объектом критики со стороны торгоутского зайсана Наугату (Наугат) и церковного служителя Табуна Геленга (Габунга). Они были направлены летом 1756 г. в Бийскую крепость калмыцким ханом Дондуком по просьбе Коллегии иностранных дел для агитации алтайских беженцев переселиться к волжским калмыкам. Указанные эмиссары обратились 14 марта 1757 г. к императрице Елизавете Петровне с жалобой на полковника Дегарригу и его адъютантов. Последние, по их словам, заявили пострадавшим алтайским зайсанам, что они останутся без помощи в Алтайских горах, если не окажут им «за наше российское обыкновение за труды должны получать плату и потому лошадей, коров, овец, доброе платье и холопей что ему показалось брали» 2. Но, получив все это, полковник и его подчиненные не предприняли надлежащих мер, отпустили беженцев в горы в жестокие морозы, отчего многие калмыки умерли от холода, голода и «воспенной болезни».
Жалоба была составлена, как выяснило позднее следствие, с помощью переводчика калмыцкого языка коллежского регистратора Девятиеровского, находившегося при зайсане Наугате в Бийской, а затем в Усть-Каменогорской крепости.
По указам Елизаветы Петровны и Правительствующего Сената от 10 июня и 1 июля 1757 г. была создана судебно-следственная комиссия из высших офицеров Сибирских линий под руководством генерал-лейтенанта Рейдера 3. Она была призвана выявить виновных и судить их военным судом. Следствие производилось первоначально в 1757–1759 гг. в Бийской крепости, в присутствии «зенгорских» зайсанов, в том числе Наугату, затем переведено по распоряжению сибирского губернатора Соймонова в Омскую крепость.
Главными обвиняемыми на первых порах были полковник Дегаррига и его адъютанты С. Кочерин и И. Нелюбов. Они обвинялись в получении взяток от зенгорцев и в других должностных «прегрешениях».
Изучение послужного списка Дегарриги и других документов свидетельствует, что Франц Францович Дегаррига, (Де Гаррига, Дегарига), по другим данным Франц Иосиф Дегаррига, родился в 1701 г. в Барселоне, в семье испанских дворян. С 1 июня 1719 г. находился на «гишпанской службе», 13 августа 1740 г. в чине полковника был принят в русскую армию. С 1741 по 1 августа 1751 г. был полковым командиром Ширван-ского пехотного полка. В апреле 1752 г. был назначен командующим строящейся Колы-вано-Кузнецкой линии и комендантом Бийской крепости 4. На этом поприще немало сделал для укрепления юго-восточного участка российской границы в Горном Алтае. В октябре 1756 г. сибирский губернатор В. А. Мятлев рекомендовал его Сенату вести переговоры с алтайскими зайсанами, характеризуя его как «добропорядочного офи- цера» [Международные отношения…, 1975. С. 43–44].
Вместе с ним несли службу на Иртышской линии его сыновья-«погодки»: Антон Францович, 16 лет, был драгуном, в 1782 г. вышел в отставку премьер-майором, в 1798 г. был земским управителем приписных крестьян Колывано-Воскресенских заводов; Ерофей Францович, 17 лет – «каптенармус 6 роты» и Иван Францович, 18 лет – «каптенармус 10 роты» 5. По данным красноярского историка Г. Ф. Быкони, один из старших братьев в 1771 г. был воеводой в Томске, в 1775 г. – в Енисейске [1985. С. 97–98].
В своих показаниях, изложенных в «вопросных ответах», Дегаррига сообщил, что во время большого притока беженцев на вверенную ему пограничную линию он приложил немало усилий «входящим в российское подданство зенгорцам ищя способов и полезному случаю выходом в Россию», но, не имея возможности принять всех желающих в русские крепости по причине нехватки продовольствия и «воспеной болезни» у беженцев, вынужден был отпустить часть алтайцев в горы. Алтайские мигранты, по его словам, получали в соответствии с правительственным распоряжением «корм» и фураж для скота и лошадей. Помимо прочего, он выделил на пропитание из «собственного кошту» 190, а затем до 400 рублей и приказал забить двух быков на содержание калмыков, находившихся в Усть-Каменогорской крепости. По его указанию регистратор Девятиеровский и адъютанты Кочерин и Нелюбин осуществляли перепись беженцев для вывода их на Волгу к «тамошним калмыкам». За указанное содействие в размещении беженцев и в организации их питания посланцы калмыцкого хана Наугату и Табун отблагодарили его 3-мя калмычками, лошадью и белками 6. Примечательно, что Наугату и Табун не присутствовали на судебном заседании. Первого июля 1757 г. они выехали в составе большого «коша» калмыков, принявших крещение и русское подданство, на нижнюю Волгу. В пути следования в Калмыцкое ханство часть беженцев умерла от оспы, среди них был и Наугату.
Показания Дегарриги были подтверждены на следствии зайсаном Боохолом, который заявил, что «полковник Дегаррига человек добрый и к ним благожелательный, что от него зюнгорцы видели всякое и немалое одолжение, благоприятность и подарки за что его и добровольно дарили» 7.
Другие зайсаны также заявили, что «полковник Дегаррига их зенгорцев обратно не отпускал а бежали они сами по устрашениям оных же зайсанга калмыцкого и переводчика Девиятеровского» 8. Трудно судить, насколько были искренни в своих показаниях участники судебного процесса. Но последующее развитие событий и служебная карьера Дегарриги могут свидетельствовать в его пользу.
Несмотря на заступничество и положительные отзывы зайсанов, Дегаррига был отстранен от командования, его жалование было уменьшено наполовину, на него был наложен штраф за неуплату пошлины с полученной им от джунгаров лошади в размере 15 руб., отнесена большая часть судебных расходов 9.
Следственная комиссия также установила, что проводившие по указанию Дегарриги перепись алтайских беженцев адъютанты Кочерин и Нелюбов совершили по отношению к ним различные служебные злоупотребления и произвол. Так, Кочерин «объявил себя главным» калмыцким зайсанам и старшинам и «с притеснения брал немалое число скота лошадей калмычак тож соболей белок и других разных вещей», полученными «взятами» он делился с Нелюбовым и вахмистром Сажиным. Нелюбов к тому же учинил «фальшивый допрос» крестьянам в деревне Убинской, обвинив их в том, что они якобы украли 15 лошадей у беженцев, взял при этом с них 4,5 руб. Установив вину указанных офицеров, судебная комиссия постановила: у адъютанта Кочерина «отобрать чин и патенты, прогнать чрез полк шпицрутен двенадцать раз и написать вечно в рядовые в полк Якуцкой». Его сообщник Нелюбов также подлежал разжалованию в рядовые «до выслуги». Суровое наказание было определено Сажину, получившему «при разделе девку и бабу», а также лошадей, меха, серебро. Его надлежало бить кнутом и сослать на каторжные работы «навечно» 10. Однако решение суда в отношении подчиненных Дегарриги по невыясненным причинам не было выполнено в полном объеме. Очевидно, свою роль сыграла непи-санная корпоративная солидарность военных, основанная на принципе: «своих не выдавать!», а также нежелание глубоко рассматривать дело, в котором было замешано немало других военных и гражданских чинов. На это обстоятельство, не без оснований, позднее укажет в своих показаниях Де-вятиеровский.
Против него были выдвинуты алтайскими зайсанами более серьезные обвинения. Он был послан на Сибирские линии Коллегией иностранных дел от хана Дондука в начале 50-х гг. и исполнял обязанности переводчика калмыцкого языка в Усть-Каменогорской, затем в Бийской крепостях. Не исключено, что он был знаком с Наугату по прежней службе. По словам зенгорских зай-санов, в декабре 1756 г. Девятиеровский объезжал коши (временные стоянки) южных алтайцев и выдавал себя за посла «белого царя», чем «уповательно тех калмак возбуждал», требовал разные «взяты», грозил беженцам в случае неуплаты насильственным уводом на Волгу, где их «в холопы обратят и мучительски с ними поступят». Используя свое положение и угрозы, Девятиеровский получил «во взятах» троих «калмытских» детей, лошадей, жемчуг, меха, 4 лана серебра, всего на 761 руб. Помимо этого, отнял у торгоутского калмыка его детей – мальчика и девочку 11.
Вызванный в судебную комиссию Девя-тиеровский пытался решительно отмести от себя обвинения в самозванстве, угрозах и вымогательстве, мотивируя тем, что зенгор- цы неправильно истолковали его слова в силу «не весьма искусному знанию им кал-мацкого языка». Однако вряд ли комиссия сочла это показание убедительным. Девяти-еровский показал себя как опытный переводчик, автор переводов важнейших джунгарских и других документов: обращений алтайских зайсанов к императрице Елизавете Петровне и сибирской губернской администрации о приеме их в русское подданство, хана Амурсаны императрице об оказании помощи в борьбе с Цинами, а также жалоб зайсана Наугату о злоупотреблениях линейных офицеров 12. По-видимому, он также был переводчиком при тайной встрече посланников Амурсаны с Дегарригой весной 1757 г. Его поведение в процессе следствия и последующая судьба также свидетельствуют не только об умении защищать свои неблаговидные действия, но и квалификации опытного чиновника. Искушенный в юридической практике регистратор не подписывал допросные речи и отказывался отвечать на неудобные вопросные пункты, отрицал получение взяток, заявлял, что купил все у калмыков по «добровольной цене» 13.
Опасаясь разоблачения и притеснений со стороны военных, он подал рапорт на имя губернатора Ф. И. Соймонова, в котором просил перевести его в Тобольск, где обещал дать подлинные показания. Находясь в Тобольске в 1758–1759 гг., он инспирировал новую жалобу от имени Наугату, в которой обвинялись в получении взяток и незаконном приобретении детей, скота и имущества наряду с Дегарригой, его адъютантами и другие офицеры линейных крепостей. Как уже сообщалось, Наугату к этому времени уже не было в живых. Знал ли об этом Девя-тиеровский, можно только догадываться.
Среди обвиняемых им фигурировали подполковник Семен Колобок, секунд-майор Степан Волков, капитан Петр Чапчиков, поручики Петр Попов, Иван Коробейников и другие военные чины, а также гражданское население крепостей Колывано-Куз-нецкой линии. Среди них: 27 старших и младших офицеров, 19 низших воинских чинов (гренадеров, драгун, солдат, казаков), 3 разночинца, 4 крестьян, посадский, 2 свя- щенника, асессор, всего 58 чел. 14 Такая информированность свидетельствует о том, что Девятиеровский хорошо знал обстановку, возникшую на границе в 1756–1757 гг., широко пользовался сведениями волжских и алтайских зайсанов и фиксировал многие негативные факты.
Кроме того, Девятиеровский обвинил нового председателя следственной комиссии полковника Девилленева (Дивеленев), назначенного в связи со смертью генерала Рейдера и заменившего Дегарригу на его командном посту, в том, что комиссия «неправильное производство имеет» и что члены комиссии вместе с председателем «всегда у полковника Дегарриги дома обедали и старались того от явной погрешности избавить», а его Девятиеровского с зайсаном Наугатом стремятся подвергнуть «неправильному штрафу» 15.
Девятиеровский, очевидно, написал также донесение в Коллегию иностранных дел, в котором изложил в выгодном для себя свете версию произошедших событий и «неправильного» хода следствия. Не случайно в промемории Коллегии от 4 мая 1764 г. председателю следственной комиссии Девилленеву ставилось в вину то, что он намеренно затягивал судебный процесс: «говорил зайсангам что следствие продлится 2–3 года и не с одним а с тремя аудиторами <…> а без того их зайсангов отпустить нельзя. Неудивительно, они, видя в следствии продолжение, напоследок от всего отказались, желая через то скорее отпуск получить на Волгу в соединении их домами без которых они весма нужное имели на линии пропитание» 16.
Рапорт Девятиеровского вызвал у военной коллегии и губернатора Соймонова, известного в Сибири своей неподкупностью и борьбой с мздоимством, сомнения в правильности проведения следствия. Они предписали создать новую комиссию во главе с начальником Сибирских линий генерал-майором Фрауендорфом, находившимся в
Омской крепости. При этом было указано устроить очную ставку Девятиеровского с Наугатом (очевидно, о его выбытии и смерти на тот момент было неизвестно) и другими зайсанами.
Новая комиссия потребовала прибытия Девятиеровского в Омскую крепость для дачи нужных показаний. Но, как сообщал генерал Веймарн, возглавивший вскоре комиссию, несмотря на неоднократные требования, Девятиеровский, сначала ссылаясь на болезнь, а затем на «неправильное на него комиссии представление», отказался выехать на место проведения следствия. Оправдывая свое поведение, в доношении губернатору Соймонову регистратор-переводчик писал, что генерал-поручик Веймарн «учинял на него отяготительное по сему делу сообщение, касающееся крайнему его разорению и порабощению» и что он в своих «допросных речах» в Бийской крепости уже показал, что купил калмыцких детей, лошадей и меха у зенгорских старшин по добровольной цене, «видя при том сущую их в пропитании от жестоких морозов и воспиной болезни нужду» 17.
Но, несмотря на упорное нежелание предстать перед новым составом комиссии для дачи признательных показаний, Девяти-еровский был конвоирован в Омскую крепость, где началось новое судебное разбирательство. На нем вскрылись другие неблаговидные поступки, как переводчика, так и покойного «заявителя». На очной ставке алтайские зайсаны заявили, что Девятиеров-ский и Наугату «принуждали их все то писать что кому они в мену отдали обнадеживая, что все оное им зенгорцам со излишеством будет возвращено а как они зен-горцы ложно того показать не хотели то стращали их что зайсанг Наугат по приходу их на Волгу всех их в холопи раздаст а и до отправления их туда мучителски с ними поступать они будут и так они переводчик и зайсанг что хотели то все сами же да зен-горский писарь и писали» 18.
По-видимому, эти показания оказали решающее влияние на ход и результаты следствия. Несмотря на все запирательства и уловки, Девятиеровский был все же уличен во многих взятках, служебных злоупотреблениях и вынужден был подписать необхо- димые допросные листы. Комиссия, руководствуясь статьями 29 и 31 Генерального регламента и Военного артикула статьи 151, предписала ему «нещадное наказание
_ _ „ _ _ _ 19
плетьми и разжалование в солдаты»
.
Серьезным наказаниям подлежали и другие участники затянувшегося и запутанного дела. Наряду с возвращением джунгарам людей, лошадей, скота и других ценностей, уплатой пошлинных и «пошерстных» денег за необъявленных в таможне лошадей и уплатой судебных издержек, все участники судебного процесса понесли суровые взыскания. В зависимости от степени виновности обвиняемые (52 чел.) были разделены на три категории с указанием их вины и наказаний.
Самое большое наказание «за взятки и другие должностные преступления» понесли 29 чел. офицерского и рядового состава. Каждый из них подлежал персональному наказанию. Полковник Дегаррига, с учетом того, что он два года находился «на половинном жаловании без команды», на полгода переводился в рядовые с выплатой самого большого денежного штрафа. Его адъютанты Качерин и Нелюбов подлежали наказанию шпицрутенами и переводу в рядовые. Другие офицеры подвергались крупным денежным штрафам, рядовой состав – наказанию плетьми и взысканию пошлин за необъявленных лошадей.
Ко второй группе было отнесено 14 чел., в основном рядового состава. Им вменялось в вину необъявление покупных и выменен-ных у калмыков лошадей и неплатежей пошлин в таможню, которые они должны были внести в казну с учетом штрафных санкций.
В третью группу вошли отставные военные, разночинцы, крестьяне, посадский и два священника (16 чел.). Им также вменялись в вину взятки и неуплата пошлин в приобретении у калмыков скота, за что они подвергались штрафу и наказанию плеть- 20
ми
.
Но данное решение суда также в полном объеме не успело вступить в силу. В связи с восшествием на престол Екатерины II 22 сентября 1762 г. ею был издан «Всемило-стивейший указ», в котором было объявлено о смягчении наказаний в «неисправлении» служебных должностей. В соответствии с ним, виновные в должностных преступлениях подлежали «к лишению всех чинов от солдата до штабного чина по одному чину, а с штабских и выше до двух» и уменьшению наложенных штрафов и вычетов на одну треть 21.
В соответствии с этим указом, Военная коллегия и Коллегия иностранных дел 20 января 1764 г. внесли значительные коррективы в вердикт следственной комиссии. Военная коллегия постановила: «полковника Дегарригу от штрафов освободить», но на собрании штабных офицеров «учинить крепкий репроманд» и подвергнуть аресту на две недели 22.
Были смягчены наказания другим офицерам, за исключением адъютанта Кочерина, который уже был наказан шпицрутенами, но сохранял прежнюю офицерскую должность. С учетом совершенных им прежде должностных нарушений, он лишался всех чинов и подлежал увольнению из армии. Понижению в чине и вычету трети жалования на нужды госпиталя подлежали другие офицеры. Рядовой состав освобождался от штрафов, но подлежал наказанию плетьми 23.
Дело Девятиеровского было вынесено в отдельное судопроизводство и рассмотрено в Комиссии иностранных дел. В промемо-рии от 4 мая 1764 г., исходящей из комиссии, вина Девятиеровского во многом была сглажена. Ее составители исходили из того, что следствие производили «тамошние на линии офицеры, между которыми и переводчиком и ханским зайсаном Наугатом происходили частые несогласия, потому что присутствовавшие при следствии старались защищать и облегчать причастных к взяткам офицеров, а Девятиеровского под штраф подвести» 24.
В промемории также выражалось сомнение в принуждении Девятиеровского к даче взяток калмыков; указывались нарушения в ходе ведения следствия: умышленное его затягивание полковником Девилленевым, отсутствие важных свидетелей со стороны пострадавших беженцев, отмечены и другие смягчающие обстоятельства.
В то же время Девятиеровскому ставилось в вину, что «тому, находясь на службе, вступать в торг с калмыками не надлежало и допускать пререкания с комиссией», а также «ослушания» в отношении генерала Вей-марна, требовавшего его приезда в Омскую крепость для дачи необходимых показаний 25. С учетом названных факторов комиссия постановила: смягчить наказание военного суда, освободить регистратора от телесного наказания, записать в толмачи, посадив его при этом на месяц на гауптвахту и на неделю на хлеб и воду. Это наказание Девятиеровский отбыл в Астрахани, куда был направлен Коллегией иностранных дел служить в прежней должности у бригадира Бехтеева, отвечавшего за «тамошние калмытские дела» 26.
Таким образом, рассмотренные нами материалы военно-судебного производства, подвергают сомнению выводы С. Шашкова и приведенные им фактоы о наличии в Сибири «безудержного рабства» и административного произвола в отношении к народам, входившим в состав России, и сибирским «инородцам» в целом. Как показывают данные, изложенные в деле Дегарриги и его подчиненных факты служебного произвола, взяточничества, торговли людьми имели место на Сибирской линии, но они во многом были обусловлены чрезвычайными обстоятельствами, сложившимися в Горном Алтае, не носили массового системного характера и в значительной мере пресекались правительством, которое всегда было заинтересовано в постоянном увеличении податного российского населения, независимо от его этнической и религиозной принадлежности
ON THE QUESTION OF THE «SLAVE TRADE» IN THE SIBERIAN LINES
IN THE MIDDLE OF THE XVIII CENTURY