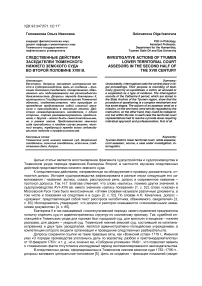Следственные действия заседателей Тюменского нижнего земского суда во второй половине XVIII в
Автор: Голованова О.И.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 22, 2015 года.
Бесплатный доступ
Бесспорно, допросы занимают центральное место в судопроизводстве. Цель их создания - фиксация показаний (свидетеля, потерпевшего, обвиняемого или подозреваемого) как разновидности доказательства. Допросы периода Екатерины II, хранящиеся в Государственном архиве Тюменской области, свидетельствуют, что процедура их проведения представляла собой сложный механизм и производилась в несколько этапов. Действия «командированного» заседателя, с одной стороны, строго регламентировались предписанием, с другой - могли быть самостоятельными, но в рамках закона. Представителям земского суда приходилось в каждом случае решать частный вопрос, требующий прежде всего индивидуального подхода и профессионализма.
Тюменский уезд, нижний земский суд, дворянский заседатель, сельский заседатель, источник, следственное дело, допрос
Короткий адрес: https://sciup.org/14937885
IDR: 14937885 | УДК: 93:347(571.12)“17”
Текст научной статьи Следственные действия заседателей Тюменского нижнего земского суда во второй половине XVIII в
Целью статьи является восстановление фрагмента судоустройства и судопроизводства в Тюменском уезде периода правления Екатерины Второй, в частности изучение следственных действий представителями нижнего земского суда.
К следственным действиям, направленным на обнаружение и проверку доказательств, относится допрос. История судопроизводства зафиксировала в разные эпохи следующие его самоназвания / названия: выпись, сказка, расспросные речи, допрос и современное название – протокол допроса. Так, Н.Г. Благова отмечает, что слово «выпись», помимо других значений, в судопроизводстве XVI–XVII вв. имело значение «запись показаний» [1, с. 52], слово «сказка» в Московской Руси тоже было многозначным: «Этими словами называли различные документы, в том числе и показания на следствии и в суде» [2, с. 52]. По словам А.Н. Качалкина, допрос – «документ, представляющий собой текст расспроса челобитчика, обвиняемого, свидетелей» [3, с. 83]. Исследователь утверждает, что допрос и расспрос оказываются «синонимичными названиями документов» [4, с. 85].
Екатерина II в так называемый «послепугачевский период» своего правления предприняла попытку отделить суд от административных структур по сословному признаку. Так, судебной инстанцией в Тюменском уезде для горожан был городовой суд, для крестьян и ямщиков – нижняя расправа, для дворян – уездный суд. Тюменский нижний земский суд, состоявший из капитана-исправника и двух-трех заседателей, являлся административно-полицейским учреждением, в компетенции которого входили организация и проведение следственных разбирательств.
Допросы сохранили ссылки на такие правовые акты, как «Воинский устав» 1716 г., Именной указ «О порядке производства уголовныхъ делъ по воровству, разбою и пристанодержателству» от 10 февраля 1763 г. и т. д., но и, конечно же, «Соборное уложение» 1649 г., что позволяет заявить о «тюменском» факте отсутствия в исследуемый период систематизированного законодательства.
В следственных делах, сформированных в Тюменском нижнем земском суде 1782–1796 гг., допросы занимают центральное положение [5]. Цель их создания – фиксация показаний (свиде- теля, потерпевшего, обвиняемого или подозреваемого) как разновидности доказательства. Допросы проводились в Тюменском уезде дворянскими или сельскими заседателями, в особых случаях – земским исправником. Документы свидетельствуют о различных правовых ситуациях, связанных с убийством людей, кражей имущества, побегом рекрутов или ссыльных, пожарами, различными несчастными случаями и т. д. Представителям земского суда приходилось в каждом случае решать частный вопрос, требующий в первую очередь индивидуального подхода.
Рассматривая допросы в совокупности всего следственного дела (тематического комплекса), обнаруживаем, что организация и проведение допроса предполагают большую подготовительную работу со стороны как членов присутствия земского суда (исправник, дворянские и сельские заседатели), так и канцелярских служащих (секретарь, канцелярист, подканцелярист, копиисты).
Расследование начиналось с инициативного документа (рапорт, сообщение, объявление), на основании которого составлялся очередной документ – «копия с журнала», то есть выписка из заседания с принятием решения о назначении того, кто будет выполнять следственные действия, например: «послат селского заседателя Ивана Sагорского дать ему о том наставление и оное дело представит при репорте» [6, с. 75]. В выписке предписываются основные «мероприятия», необходимые для раскрытия преступления, например: «начать производить следствие во первых допросит <…> и каким случаемъ из оного вышелъ и оказался в пригоне у дому Лесникова и какие по показанию ихъ заключатся люди оных немедленно сыскать и во всемъ касающемся до нихъ допросами а в случае разноречия или запирателства и очными ставками изследоват неупустительно и о комъ надлежитъ от волостнаго общества и лутчихъ людеи взять повалные обыски и все то произведенное обследование представитъ в сеи земскои судъ» [7, с. 138].
Следующим подготовительным этапом для проведения следственных действий являлось вручение «следователю» наставления (сопроводительного документа), составленного на основании «копии с журнала». Наставление не входило в состав следственного дела, однако могло случайно быть подшито в деле.
Существовали определенные требования и к ведению самой процедуры допроса, проследить которые можно, анализируя письменные источники: время составления, например «20го числа декабря»; место составления, например «на месте в тои деревне», «на месте Красносло-боцкои и другихъ по тракту до города Ирбита от самои Краснои слободы волости»; субъект или субъекты допроса, например «есашнои татаринъ Ингуня Логашанов», «жители государственные крестьяне Яковъ Вороновъ Федор Кокаревъ, Jванъ Воиновъ Болшоi. Тимофеи Воинов же. Максим Елкинъ. Степанъ Прокопьев Воинов j из новокрещенных Jванъ Матигоров» и т. д. [8].
Обязательной частью допроса было объяснение представителем власти цели допрашиваемой процедуры: в чем заключается обвинение, конкретизируется вопрос, перепроверяется информация и т. д., например: «в убивстве деревни Верхнеи Сидоровои у крестьянина Никиты Сидорова коровы»; «о убивстве мужа еiо»; «о умершемъ в городе Тюмени тои же округи Клепиковскои волости крестьянине Андрее Клепикове»; «против показания Тюменского мещанина Алекея Васютина» [9].
Во многих допросах зафиксирована ссылка на законодательный акт о добровольном признании вины (1763 г.). Данная процедура предъявлялась, как правило, тому, кто подозревался, или свидетелю, например: «со обявлением ему Наурусову: высочаишаго ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА состоявшагося 1763го года февраля 10го числа о доброволном признании винъ указа и со увещеванием судеиским» [10, с. 62–63].
Крайне любопытен «биографический» раздел, где фиксировалась следующая информация:
-
а) возраст субъекта допроса и его место жительства: «живет Тюменскои округи Тавдинскоj волости въ юртах Утяшевых в доме у тестя ево есашного татарина называемого по руски Фрола и по татарски Ахъвая Ахъманова а по ревизии состоитъ онъ въ юртахъ Киндерских», «природнои сибирякъ по минувшеи 4 ревизiи написаннымъ состоитъ по Жиляковскои волости в числе госу-дарственныхъ крестьянъ» и т. д.;
-
б) семейное положение, например «вдов», «женатъ» и т. д.;
-
в) наличие детей: «у него дочь девка Марфа дватцати лет», «детеи имеетъ Алекея 14 Степана 12 Федора 8 Василя 3 летъ дочери Парасковья 6 Федосья одного с половинои году» и т. д.;
-
г) отношение к грамотности: «россjискои грамоте читат и писат не ученъ», «грамоте по ма-хометанскому закону писат несколко умеитъ а читать не знает по руски говорит умеет же» и т. д.;
-
д) отношение к церкви: «у исповеди и святаго причастия бываетъ каждогодно в селе Со-зоновскомъ в церкви Екатерины Христовои мученицы», «на исповедь и ко святому причастию каждогодно ходитъ» и т. д.;
-
е) отношение к сборам в пользу государства (содержится не во всех допросных речах): «подушные денги и прочия указанные мирские поборы с трех душъ платитъ бездоимочно», «есакъ платитъ», «государственную подать платитъ безъдоимочно» и т. д.;
-
ж) о законопослушности: «напред сего въ воровствахъ с воровским в приводахъ и за то в телесныхъ публичных наказаниях не бывал кроме производимого в Тюменском нижнем земском суде дела прошлого 1785го года в марте месяце по сумнителству якобы потраве юртъ Киндер-ских ясашного татарина Кочаша Аитъпакова и из оного земскаго суда отосланъ былъ с производимым деломъ того жъ марта 28го числа при репорте в Тюменскую нижную расправу от которои по невинности ево отпущенъ по прежнему в домъ ево въ юрты Киндерские», «напред сего в во-ровствах с воровским с приводах и за то в телесных публичных наказаниях не бывал» и т. д.;
-
з) дополнительная информация о субъекте допроса: «скотоводство и хлебопашество про-изводитъ», «и находитца ныне по выбору общества в деревне Зырянскои уличным десятником» и т. д. [11].
Далее заседатель «подводит» субъекта допроса к указанию на время свершения преступления, например: «сего 794го года минувшаго маия 24го числа поутру однако уже по всходе солнца», «сего 1792 года декабря 7 числа на другои день праздника Николая Чюдотворца то есть во вторникъ днем», «сего 1793 года декабря 16 числа то есть в четверток в поздную паужну» [12].
Следующей частью допроса идет рассказ допрашиваемого. Как свидетельствует исследуемый материал, высказывания «следователя» и субъекта допроса строятся по форме «вопрос» -«ответ» участников процесса. Наблюдения показывают, что речь допрашиваемого, с одной стороны, спонтанная, с другой стороны, регламентирована «следователем», который имел, вероятно, перед собой подготовленный вопросник или список основных аспектов, изложенных в наставлении.
Для ответа на вопрос, регламентировалась ли речь допрашиваемого со стороны «следователя», разобьем допросные речи следственного дела о пожаре в Больших Акиярских юртах (1792 г.) на смысловые части. На восстанавливаемые нами вопросы «следователя», когда произошел пожар, кто и что видел, слышал, делал в момент пожара, в трех допросных речах наблюдаем свободный пересказ событий. На предполагаемые следующие вопросы «следователь» получает ответы, и этот диалог можно восстановить так (табл. 1):
Таблица 1 – Ответы допрашиваемых на вопросы следователя о деталях произошедшего пожара
|
Предполагаемый вопрос |
Допрос Юсупа Азанова, подозреваемого [13, с. 133] |
Допрос Аитпака Бикбулатова, свидетеля [14] |
|
1. Каким образом случился пожар? |
«каким образом в юрте ево Юсупа Азанова загорелась крышка того он не знаетъ» |
«каким образом у означенного татарина Юсупа Азанова загорелась юрта и учинился пожар того он Бикбулатов не знаит» |
|
2. Кого допрашиваемые подозревают в поджоге? |
«также и сумнителства в за-жженiи никакого не имеет» |
«также и сумнителства в зажженiи никакого не имеет» |
В допросных речах наблюдается повтор. Следовательно, речь допрашиваемого регламентируется вопросами заседателей (это не единичный случай).
Подтверждение истинности сказанного со стороны допрашиваемого и установление юридического факта производились с использованием следующих фраз: «в сем допросе чрезъ муллу показал самую правду», «в чем и утверждаюсь», «показал во всем следственно в чем под присягою себя и утверждаетъ», «во всем показали сходственно» и т. д.
Заключительным этапом допроса являлось рукоприложение допрашиваемого или лиц, которым он доверяет: «на подлинном приложена рука по татарски», «к сему допросу вместо ямщика Осипа Кухтерина ево просбою руку приложилъ отставнои канцелярист Егор Милкеевъ» и т. д.
Вынесение решения по тому или иному делу зависело в первую очередь от содержательной стороны допросов, которые представляли собой достаточно сложный и организованный механизм, включая подготовительную работу, работу, связанную непосредственно с процедурой допроса, а также переработку допросных речей. Кроме того, сама процедура допроса регламентировалась не только «вопросником», но и трафаретом документного жанра. В более сложных и «запутанных» происшествиях (в пределах своей компетенции) заседатель мог расширить круг допрашиваемых, перепроверить отдельные факты, применить различные методики дознания. Так, некоторые допросы «обременены» очными ставками или клятвенными речами. И от того, насколько правильно, корректно и ответственно выполнит их «следователь», зависел исход всего дела.
Таким образом, Тюменский нижний земский суд сам вел процесс расследования и сам выносил предварительные решения. В условиях существовавшей системы формальных доказательств судебная инстанция (нижняя расправа) являлась «мертвым» механическим органом -местом, где в основном судьи вершили дела и определяли судьбы людей только по документам, представленным земским судом.
Ссылки:
-
1. Благова Н.Г. Лексика и фразеология памятников русского права XVII века (На материале Уложения 1649 г.). СПб., 1998. С. 52.
-
2. Там же.
-
3. Качалкин А.Н. Жанры русского документа допетровской эпохи. Ч. 1. М., 1988. С. 83.
-
4. Там же. С. 85.
-
5. Документы Тюменского нижнего земского суда (1782–1796 гг.) : в 2 кн. / авт.-сост. О.И. Голованова ; под общ. ред. О.В. Трофимовой. Тюмень, 2008. Кн. 1: Тексты. 352 с.
-
6. Там же. С. 75.
-
7. Там же. С. 138.
-
8. См.: Там же.
-
9. См.: Там же.
-
10. Там же. С. 62–63.
-
11. См.: Там же.
-
12. См.: Там же.
-
13. Там же. С. 133.
-
14. Там же.
Список литературы Следственные действия заседателей Тюменского нижнего земского суда во второй половине XVIII в
- Благова Н.Г. Лексика и фразеология памятников русского права XVII века (На материале Уложения 1649 г.). СПб., 1998. С. 52
- Качалкин А.Н. Жанры русского документа допетровской эпохи. Ч. 1. М., 1988. С. 83
- Документы Тюменского нижнего земского суда (1782-1796 гг.): в 2 кн./авт.-сост. О.И. Голованова; под общ. ред. О.В. Трофимовой. Тюмень, 2008. Кн. 1: Тексты. 352 с