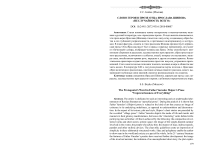Слово героя в прозе отца Ярослава Шипова "Неслучайность всего"
Автор: Бойко Светлана Сергеевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (44), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена такому интересному и малоизученному явлению в русской литературе, как «приходская проза». В ходе анализа показывается, что проза иерея Ярослава (Шипова) относится к искусству, создающему образ бы-тия в его глубинной упорядоченности, в противовес индетерминизму и деструкции. В плане фактуры, сюжета и стиля рассказам Шипова предшествует деревенская проза. Отец Ярослав рисует быт и нравы в мрачных проявлениях, но уходит от «бичующей» сатиры, изображая человека как брата. Этому способствует: ком-позиция сборников и рассказов; художественное пространство; образ простодушного рассказчика, включенного в события, людей, которые его наставляют; мане-ра сказа, несобственно-прямая речь, парадокс и другие стилевые приемы. Ясные этические ориентиры создают впечатление простоты искусно устроенных произведений. Сказ и многоголосье позволяют показать человека в мире и обществе как часть целого. В литературе XXI в. получили развитие черты поэтики о. Ярослава: образ включенного рассказчика, имитация незамысловатого рассказа, сюжет, вы-являющий глубинные связи явлений; имеются реминисценции его сюжетов.
Священник ярослав (шипов), деревенская проза, сказ, парадокс, художественное пространство и время, глубинная упорядоченность мира
Короткий адрес: https://sciup.org/14914678
IDR: 14914678 | DOI: 10.24411/2072-9316-2018-00007
Текст научной статьи Слово героя в прозе отца Ярослава Шипова "Неслучайность всего"
Ярослав Шипов, один из лауреатов Патриаршей премии по литературе в 2017 г, опубликовал первые рассказы в 1970-х, а в 1980-х выпустил четыре книги прозы [Залыгин 1977, 18; Шипов 1996, 11]. Проза его говорит о внутренней мотивированности мироздания. «Неслучайность всего» - так назван один из рассказов. Поэтика «глубинной упорядоченности мира» присутствовала в русской литературе XX в. [Хализев 1999, 71-72]. В XXI в. книга такого типа активно развивается [Леонов 2010, 89], и рассказы о. Ярослава появились у истоков этого этапа.
Литература в России XX в. стремилась создать художественный портрет современника. Из разных подходов к решению этой задачи интересен метод, предложенный, например, в прозе М. Зощенко 1920-х гг, погружающей читателя в «гущу советской обывательской жизни» [Ходасевич 1991, 529], как определил его Вл. Ходасевич.
Вопрос о том, «стоит ли “освещать”, “клопам на смех” ту неимоверную внутреннюю и материальную “бедность”», ставился прежде у Гоголя, Салтыкова, Островского, Чехова [Ходасевич 1991, 534]. Он вызван глубоким противоречием. С одной стороны - неприглядная картина нравов. С другой - писателю «чужда поза морализующего и “бичующего” сатирика», и любимый прием его - «говорить от лица героя» [Ходасевич 1991, 535].
Итак, речь от лица героя - поэтика сказа - позволила показать «жизнь в обстановке изумительной темноты» [Ходасевич 1991, 533] - и притом не клеймить несчастных, которые заблудились во мраке.
Удивительные достижения Зощенко 1920-х гг. редко досягаемы. «Создание характера словом героя требует от писателя внутренней определенности, ясного понимания сути действительности и общего смысла, которые несут в себе его характеры» [Белая 1983, 95].
Заблудший герой стал персонажем деревенской прозы. Здесь заблудшие ломают, уничтожают, оскверняют («Крепкий мужик» у В. Шукшина, браконьеры в прозе В. Астафьева, Б. Васильева, Ч. Айтматова и много других). Материальная жизнь близка к упадку
Реалии рассказов о. Ярослава (Шипова) знакомы читателю по деревенской прозе. Есть и сюжетные совпадения, предопределенные типичностью ситуаций. Так, в повести В. Распутина «Последний срок» сыновья Анны прежде смерти матери покупают водку на поминки, «а то ее завтра, если получку привезут, как пить дать не будет» [Распутин 1986, 20]; затем ее пьют. В рассказе о. Ярослава «Лютый» ради антиалкогольной кампании водку продают только по особым случаям. Сыновья, в ожидании смерти отца, запасаются и сразу приступают. Как и у В. Распутина, речь идет о человеке на пороге смерти, а пьянство лишь выявляет черты «неимоверной внутренней бедности» в этой среде.
Образы заблудших удаются, пока герои проявляют доброе начало, наряду со злым, как в «Последнем сроке», «словесный слой “общего”; словесный слой ведущего героя, человека, близкого “целому” <...> стоящего и в нем, и вне его; словесный слой “антимира” (“антигероя”)» [Белая 1983, 116]. Подобные же «ярусы» - повествование с разных точек зрения -увидим и в прозе о. Ярослава. «Опираясь <...> на опыт Чехова, Бунина <...> Ю. Казакова, В. Шукшина <...> пишут истории, случаи, события, нравственная, социальная оценка которых совершается внутри этого же жизненного материала...» [Курчаткин 1984, 233].
Многоголосье и его значение в прозе Я. Шипова отметил уже в 1982 г. его ментор по Литературному институту - Сергей Залыгин: «...молодая литература, кажется мне, несколько эгоцентрична, то и дело она начинается с “я” и “я” кончается: мои наблюдения, мои встречи <...> Но ведь “я” и “мое” - это еще далеко не все, особенно далеко не все в художественной литературе <...> Вот эта способность молодого писателя соединить то и другое - историю и собственный опыт - и подкупает меня...» [Залыгин 1981,4].
Своеобразие стиля, узнаваемого на всех этапах творчества, было определено как интонация рассказчика и персонажей Шипова: «Ирония и доброта, усмешка и горькое недоуменное “ах!” при виде несовершенства человеческой натуры - вот на чем замешана интонация Шипова» [Шугаев 1986, 266].
В рассказах Я. Шипова второго периода включенность рассказчика в события углубляется, разнообразие носителей интонации увеличивается.
Проза о. Ярослава обретает форму сказа. Повествование идет от первого лица. В роли рассказчика - незадачливый безотказный батюшка, который служит на дальних приходах. Он же - былой заядлый охотник. Рассказчик НЕ говорит о себе как о писателе - это роль иного толка.
Дальнюю землю герой описывает как свою, себя - как здешнего: «Плодовые деревья в нашем краю не растут. Километров на триста южнее - пожалуйста: есть и вишни, и яблони, а у нас - нет: вымерзают» [Шипов 2011, 50]. «А то еще по весне старый медведь налетел на колхозную пасеку, а она была у нас возле самой околицы» [Шипов 2011, 161].
Герой среди сограждан - свой: участник и свидетель событий. Деятельность его и других людей равно значительна: «Возвращаемся на колхозной машине из города: шофер, председатель и я - они ездили по своим служебным делам, я - по своим» [Шипов 2011, 115].
Начиная с ранних произведений Шипова, свойство его героев - многогранность, парадоксальное сочетание в человеке разных ипостасей. Верующая Лукерья («Венец творенья»), по словам соседа, «дамочка церковная, божественная» [Шипов 2011, 419], - но о своей работе сторожихи вдруг сообщает в духе казенной риторики: «Я охраняю стройку коммунизма» [Шипов 2011, 424]. Здесь тоже сходство с поэтикой В. Шукшина: «Клишированное мышление (слова-штампы) и, с другой стороны, естественная, ненарочитая, “осердеченная” лексика» [Белая 1983, 101].
Многогранность фигур показывает, что человек проявлен частично, потаенная ипостась может проступить, послужить к его оправданию.
Ипостаси совмещаются, создавая комический эффект. Рассказчику, как иерею, теперь нельзя стрелять. Но охотоведы упрашивают ехать на охоту («Медведи»), хоть бы и без ружья:
-
- А если без ружья, - спрашиваю, - то вы меня, что - в качестве привады ли берете?
-
- Нет, - отвечают серьезно, - в качестве единственного охотника. [Шипов 2011, 162-163]
Выяснилось, что лицензию по обстоятельствам можно оформить только на батюшку, а медведь уже убит охотоведом - «с испугу».
К роли священника в деревне может добавиться любая другая. Когда он селится в пустующей избе («Печное дело»), «трещиноватая печь, не топившаяся лет двенадцать <...> стала приходить в совершеннейшую негодность» [Шипов 2011, 26]. Знаменитый на округу печник подвел, и рассказчик сам сооружает «неизвестно что, но в размерах, заданных большим мастером под неведомую конструкцию» [Шипов 2011, 30]. Впоследствии печник анализирует: «...Вы пожертвовали теплом ради излишней прочности...» [Шипов 2011, 33]. Так герой попал в цех печников и расположил к себе коллегу.
Парадоксы и в сюжете, и на уровне стиля. Например, в каламбурах: дрова, опрокинутые в грязь («Дрова»), по морозу «превратились в полезное ископаемое» [Шипов 2011, 40]. В примерах народной этимологии - в «Уездном чудотворце» кучер в начале XX в. предсказывает: «Скоро раз-валюция будет» [Шипов 2011, 362]. Или в соседстве разных стилей, например книжного и разговорного: у колхозного электрика («Строители») «неблагоговейности тоже было - пруд пруди» [Шипов 2011, 37].
Важную роль у о. Ярослава играет композиция сборников. Отмечено, что рассказ «Равелин» писатель «всегда ставит в сильную позицию» [Крылова 2016, 47], открывая им цикл «Отказываться не вправе» и сборники второго периода.
В «Равелине» определяется подход к описанию человека: « <...> в жизни его воплотилось нечто, чего бы и мне хотелось, да вот не сподобился. Жизнь эта разделялась в моем восприятии надвое: самолеты и охота» [Шипов 2011, 4].
Две страсти - любовь к авиации и к охоте - рассказчик разделяет с героем. Военлет Ермаков воспитал столько пилотов, что его доставляли «всюду, куда только летали самолеты и вертолеты», и он охотился «едва ли не круглый год», а дичь «отдавал тем, у кого останавливался, мог даже приготовить - и очень неплохо <...> он считал, что достаточно ему удовольствия от охоты» [Шипов 2011, 9]. По Ермакову видно, что разные ипостаси человека дополняют, обогащают одна другую, если он не своекорыстен.
В «Равелине» заданы и черты образа пространства. Герои застают родные просторы одичалыми, пустеющими на глазах. Но разрушение недавней цивилизации, крайне несовершенной, может послужить к восстановлению живой, естественной жизни: «Дело в том, что торфяные карьеры, выработанные в тех местах, со временем наполнились водой, обросли кустарником и превратились в замечательнейшие охотничьи угодья» [Шипов 2011, 6].
В «Равелине» видно сходство между природой, которая способна ожить, предстать в некоем новом качестве, и человеком. В последние три дня жизни Ермакова совершается «запредельное чудо» [Шипов 2011, 4]. В болезни он вдруг преображается: «небритый и нечесаный доходяга превратился вдруг в седобородого старца с ясным взором» [Шипов 2011, 10].
Определена и роль рассказчика - посвященного слушателя, свидетеля и малозначительного участника: «Если о предыдущих событиях я знал в основном от охотников, то о чуде последних дней его мне рассказывал знакомый священник, а кое-что довелось свидетельствовать и лично» [Шипов 2011, 10].
Предметный мир деревни, разрушенной либо одряхлевшей, тоже может быть возрожден. Батюшка сооружает диковинную печь («Печное дело»), Ермаков - необычайный дом «наподобие немецких, но покрепче» [Шипов 2011, 4], который и прозвали равелином. Односельчане рассказчика, после перипетий с «шабашниками» («Строители»), сами построили «рядом с останками собора новый храм - хоть небольшой, деревянный, но вполне всамделишный» [Шипов 2011, 34].
Многогранность мира и героя показана как предпосылка перемен. Обновленный мир и преображенный человек бывают внешне неказисты -важно быть «вполне всамделишным», соответствовать назначению.
Способность человека, природы, предметного мира к преображению говорит о «глубинной упорядоченности» мира и о «приятии жизни как бесценного дара свыше» [Хализев 1999, 71]. Все это знаменует обновление литературы через восстановление врожденных, древних свойств книги [Бойко 2017а, 259].
Итак, особенности художественного мира, сказовая манера и черты героя-рассказчика определяются в первых рассказах цикла.
Далее о. Ярослав рисует плачевную картину быта и нравов. Говоря словами Вл. Ходасевича, показать «неимоверную внутреннюю и материальную “бедность”» без позы «морализующего и “бичующего” сатирика» позволяет слово от лица героев.
В описании пьянства голос рассказчика дополняют голоса из народа. Настал праздник Троицы - выпить нужно и можно («Святое дело»): «Всякий местный житель, конечно же, растолкует, что “помянуть родню - святое дело”. Из-за этой-то “святости” и водка, как здесь принято говорить, “от баб неруганная”» [Шипов 2011, 81].
Награжденный за труды, - понятно, выпивкой - работник начинает ползать по дороге («Земля и небо»). Высказываются об этом местные - флегматично, приезжие и рассказчик - с сочувственным недоумением:
«Наткнулись на несчастного ползуна <....>
-
- Сбился с курса, - определил староста.
Мы взяли человека под мышки, отволокли за угол и опустили на траву, сориентировав по указанию старосты:
-
- Во-он его дом, пущай туда и ползет.
Он и пополз себе» [Шипов 2011, ИЗ].
Случаи с плачевным концом описаны словами тех, кто страдает от последствий или при виде происходящего. Так, о гибели собутыльника («Святое дело») рассказывают удрученные друзья:
«Двое пьяненьких, до нитки вымокших мужичков бредут навстречу:
-Отец, горе у нас!.. Друг утонул... Пировали на берегу, а он говорит: “Топиться хочу”, -ив реку... Ну, мы - за ним: мол, у нас еще и выпивка есть, и закуска... “Ладно, - говорит, - давай допьем”. Вернулся, допили, а он опять в реку - шел, шел и утоп...» [Шипов 2011, 83]
Рассказ «Поминки» начинается мнением общества: «Схоронили молодого парнишку - перевернулся на тракторе: пьян быт, понятное дело» [Шипов 2011, 84]. Потом голос священника: «за три дня - четвертые похороны» [Шипов 2011, 84], затем все вспоминают в красках трагедию с угоревшим пьяным [Шипов 2011, 86]. В финале «отправляются искать по деревне трезвого шофера - и вдруг подкатывает почтовый фургон: “Батюшка, отпеть бы надобно”» [Шипов 2011, 87]. Резюмирует рассказчик: он отказываться не вправе.
Большинство несчастий жители воспринимают как случайность. Утратив связь с Богом, с цивилизацией, со здравым смыслом, герои впадают в нелепые суеверия. Царит, говоря словами Ходасевича, «обстановка изумительной темноты» [Шипов 2011, 533]. В поэтике это передается каскадами парадоксов, сюжетных и лексических.
Например, в средней России Пасха, а на Севере Троица (когда тепло) -повод выпить на кладбище («Святое дело»). Люди извращают смысл этих праздников. Не знают человеческих имен («Письма к лешему»): в церковной записке вместо Ирины - «Иринья» [Шипов 2011, 52]. Немало особых, советских имен: «А Энгельс - Геля, стало быть: хорошее имя - у нас Энгельсов много...» [Шипов 2011, 53].
Темнота связана с богоотступничеством, опасности которого не сознают. Между тем возле «логовища» знаменитой бабки «никто естественной смертью давно уже не помирает, и ни единого человека отпеть нельзя: сплошь самоубийцы» [Шипов 2011, 55].
Как и смерть по пьянке, суицид выглядит необъяснимой напастью. Но связь между состоянием духа героев, их поступками и дальними последствиями - видна из развития событий («За что?»): «В тридцатые годы церковь по бревнышку раскатали, перевезли из-за реки и сложили телятник.
Запустили телят - они сдохли. Запустили других - то же самое» [Шипов 2011, 155].
На стрелке, где прежде быт скит и та самая церковь, постоянны несчастные случаи. Водолаз в недоумении: «Я под этим холмом уже в третий раз <...> За что это на вас такая напасть?..» [Шипов 2011, 155]. Об ответе догадываются, но не принимают его в расчет. Утрачено понятие о связи событий, которая не всегда очевидна, - как эта связь между несчастьями на воде и церковным погромом полустолетней давности. В роли истолкователя событий здесь выступает рассказчик: многое надо пояснить для читателя.
Но в прозе о. Ярослава велика роль других героев-истолкователей, которые находятся внутри ситуации и знают ее лучше, чем рассказчик. Так, староста («Земля и небо») ориентировал пьяного: «Во-он его дом, пущай туда и ползет» [Шипов 2011, 113].
Даже в иерейской деятельности батюшку поучает местный житель («Дрова»): «Причем старик, хоронивший брата, сильно бранился: негоже, мол, батюшке бродить на лесоповал - он должен сидеть дома, дежурить, как врач “скорой помощи”. Старик, конечно, был прав» [Шипов 2011, 41].
Рассказчика такие герои наставляют: «Так и учился уму-разуму помаленьку» [Шипов 2011, 43], - заключает он.
В рассказе «Долг» в роли наставниц - старушки, прибиравшие храм. Крестилась больная многодетная мать, чудесно исцелена, но о Боге забыла сразу, а через несколько лет заболела вновь. Старушки - «...взялись растолковывать страдалице свои соображения, что чудо то свершено было даже не ради ее самой, а скорее - ради ее ребятишек <...> а ты - ни разу даже и лба не перекрестила... Теперь, конечно, опять помолиться надо бы, а стыдно пред Господом - до невозможности, аж жуть берет» [Шипов 2011,72].
Они изъясняют смысл событий, видят связь между ними, совершают необходимые действия, стыдятся проявленной неблагодарности.
Библейскую истину о роли человека в мироздании провозглашает электрик, сидя на столбе в поисках потерянной фазы («Коровы»): «-Так что: общественное хозяйство или частное - это, конечно, важно, но главное - люди. Вы ведь сами говорили, что скотина дана человеку под его ответственность, правильно?..» [Шипов 2011, 153].
Значение мудрых простецов в том, что они стремятся воспринимать смысл событий, вполне очевидный, и руководствоваться этим знанием, жить подлинной жизнью. В этом смысле у о. Ярослава простецов нет.
Есть персонажи, которые противятся истине. Так, жители не связывают чудовищную смертность среди сельских мужчин с повальным пьянством («Поминки»), ищут загадочных причин бедствия: «- Отчего на наше село нынче такая напасть - каждую неделю кто-нибудь да умирает, и в основном - мужики? <...> Может, нам - того... “сделано”?..» (87-88)
Истоки несчастий, будто бы случайных, видны. Беда происходит, когда нарушают порядок, забывают о личной ответственности.
Глубинная упорядоченность мира в таких сюжетах показана «от противного». Как с той больной: чуждая благодарности, она сразу и перестала прибегать к оказанной ей помощи, вернулась к состоянию, которое было причиной болезни («Долг»),
Упорядоченность мира видна напрямую в удивительных совпадениях. Старая женщина передает батюшке «завернутый в ветхую бумажонку наперсный крест» («Крест»): «Старуха рассказала, что когда-то в достопамятные времена через деревню гнали в тюрьму священника, и он оставил ей крест с наказом: передать батюшке, который первым явится в эти места. Почти шестьдесят лет она хранила сокровище в тайне от всех...» [Шипов 2011, 109].
Батюшка оказался в этой избе случайно; в метель на дороге застрял автобус, пассажиры пробились в ближайшую деревню, ему выпало именно в этот дом [Шипов 2011, 106]. Как и в реальной жизни, «благословение мученика было выполнено. Спустя шестьдесят лет, но выполнено» [Шипов 1996, 11].
Связаны события, разделенные во времени (обретение креста спустя 60 лет), в пространстве («Кошка»: кошка очутилась в 250 км от родного города, в деревне, где и спасла человека).
Название и сюжет рассказа «Неслучайность всего» обобщает тему.
Итак, образ глубинно упорядоченного мира создан в прозе о. Ярослава благодаря сюжету, выявляющему связи между событиями. Благодаря системе персонажей, склонных либо нет учитывать эти связи. Благодаря многоголосью и поэтике сказа: голоса персонажей и рассказчика вплетены в единую ткань. Показано, что человек в сообществе и в мире есть часть от целого.
Это позволило о. Ярославу описать темные стороны истории, быта, личности в контексте гармоничного, упорядоченного мироздания.
К настоящему времени его произведения стали предметом реминисценций. Так, в рассказе Ольги Рожнёвой «Рыбный пирог для тёщи» обыгран сюжет рассказа о. Ярослава «Три рыбы от святителя Николая». Деревенский священник тоже идет на рыбалку не для себя. У о. Ярослава батюшка по сердечной молитве наловил три рыбы для сельчан. У Рожнёвой батюшка пытался это сделать, но поймать не удалось. Зато сосед встретил его у дверей гостинцем из-под Астрахани - так и явились намоленные щуки. О значении прецедентного сюжета у Рожнёвой говорится прямо: герой пересказывает и обдумывает «рассказ отличного писателя, священника Ярослава Шипова» [Рожнёва 2015, 65].
И речевая манера рассказа «Три рыбы...» востребована: «Рыбный пирог...» входит в цикл О. Рожнёвой «Истории отца Бориса», часть которого тоже выполнена в технике несобственно-прямой речи. В обоих случаях речь передает самоиронию персонажа.
Свойства прозы о. Ярослава (Шипова) определили развитие подобной литературы на десятилетия.
Задача книги - правдивый рассказ. Сюжетные связи передают «не- случайность всего» - внутренний смысл мироздания. Восприятие его есть «созерцание поразительных действий Промысла Спасителя о нашем мире» [Шевкунов 2015, 636].
Рассказчик - свидетель и незначительный участник важных событий. Как у Нины Павловой, которая сама общалась с героями своих книг «Пасха Красная» и «Михайлов день». Как в книге о. Тихона (Шевкунова) «Не святые святые», где рассказы о старцах дополнены личными впечатлениями писателя.
Рассказчик погружен в «гущу обывательской жизни». Так это происходит и в «приходской прозе» [Леонов 2017, 26] о. Николая (Агафонова), о. Алексия (Лисняка) и многих других. Сказ, несобственно-прямая речь, многоголосье передают многообразие точек зрения в их взаимосвязи.
Видимость незамысловатого рассказа создается благодаря ясным ориентирам - различению добра и зла, образу простодушного рассказчика, имитации незамысловатого рассказа. При этом художественный текст организован искусно, что мы видим на уровне языка и стиля, пространства и времени произведения, системы персонажей, композиции.
Список литературы Слово героя в прозе отца Ярослава Шипова "Неслучайность всего"
- Белая Г. Художественный мир современной прозы. М., 1983.
- Бойко С. Василий Никифоров-Волгин -русский писатель из эстонской Нарвы//Вопросы литературы. 2017. № 2. С. 246-261.
- Бойко С. Книга «Отец Арсений». Тип авторства и рама произведения//Новый филологический вестник. 2017. № 2 (41). С. 29-38.
- Залыгин С. /Шипов Я. Каре. Бакенщик, который любил//Литературная Россия. 1977. № 15. 8 апр. С. 18.
- Залыгин С. О книге Ярослава Шипова//Шипов Я. Путешествие на линию фронта: рассказы и повесть. М., 1981. С. 3-4.
- Крылова С. Память войны в прозе Ярослава Шипова//Вестник Государственного гуманитарно-технологического университета. 2016. № 2.
- Курчаткин А. Изобретение велосипедов: о прозе Ярослава Шипова//Литературная учеба. 1984. № 2. С. 232-239.
- Леонов И. Современная духовная проза: типология и поэтика//Русский язык за рубежом. 2010. № 4. С. 89-95.
- Леонов И. Специфика изображения сопутствующего персонажа в современной приходской прозе (на материале творчества А. Шантаева и А. Лисняка)//Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 4 (70): в 2 ч. Ч. 2. C. 26-29.
- Рожнёва О. Небесные уроки. М., 2015.
- Хализев В. Теория литературы. М., 1999.
- Шевкунов Тихон, архимандрит. «Несвятые святые» и другие рассказы. М., 2015.
- Ходасевич Вл. Колеблемый треножник: избранное. М., 1991.