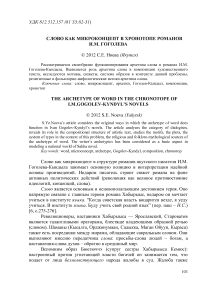Слово как микроконцепт в хронотопе романов И.М. Гоголева
Автор: Ноева Саргылана Еремеевна
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Культурологические интерпретации
Статья в выпуске: 2 (3), 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается своеобразие функционирования архетипа слова в романах И. М. Гоголева-Кындыла. Выявляется роль архетипа слова в композиции художественного текста, исследуются мотивы, сюжеты, система образов в контексте данной проблемы, религиозные и фольклорно-мифологические истоки архетипа слова.
Слово, микроконцепт, архетип, гоголев-кындыл, композиция, хронотоп
Короткий адрес: https://sciup.org/14238920
IDR: 14238920 | УДК: 812.512.157
Текст научной статьи Слово как микроконцепт в хронотопе романов И.М. Гоголева
Слово как микроконцепт в структуре романов якутского писателя И.М. Гоголева-Кындыла занимает основную позицию в интерпретации идейной основы произведений. Недаром писатель строит сюжет романа на фоне активных политических действий (революция как великое противостояние идеологий, концепций, слова).
Слово является основным и основополагающим достоянием героя. Оно напрямую связано с главным героем романа Хабырыыс, недаром он мечтает учиться в институте языка. "Когда советская власть воцарится везде, я уеду учиться. В институте языка . Буду учить свой родной язык” (пер. наш – Н.С .) [6, с.275-276].
Революционеры, наставники Хабырыыса — Ярославский, Староватов являются талантливыми ораторами, блестяще владеющими образной речью (словом). Шаманы (Кыcалга, Орджонумаан, Садыкка, Маган Ойуун, Кыраса) также есть посредники между мирами, обладающие сакральным словом. Они выполняют миссию передатчика слова : просьбы-слова людей – богам, а наставления-слова духов – обратно в срединный мир.
Вспомним образ Бюетюччэ (супруг сестры Хабырыыса Кемюс): настроенный против угнетающей власти богачей он занимается тем, что подает от лица безмолвствующего народа жалобы в суд. Жалоба также может рассматриваться как форма слова, видоизмененная в письменное обращение.
Образы гадальщика на карте, больного мэнэрик, женщины-чревовещательницы также выполняют функцию проводников слова , раскодировывающих знаки в слова. Особенность этих образов устойчиво проявляется в том, что они обладают возможностью передавать обращения извне (смысл карт, послания с ино-мира). Например, болезнь мэнэрийии (припадочное кликушество женщин, нервный припадочный крик, наитие злого духа на человека, обладающаго „открытым телом“) сопровождается в основном речью-причитанием, плачем больного от имени третьего лица – души умершего, абаасы, духа-юер [8, ст.1554]. Об удаганке Алысардаах говорится, что она умеет с помощью слова-заклинания останавливать кровь больного: “Здесь лежит моя тяжелобольная жена. У нее сильное кровотечение. Почтенная старуха заговаривает так, что кровотечение сразу останавливается” (пер. наш – С.Н. ) [6, с.10].
Слово-правда занимает противоположную позицию лже-слову (сплетне, различным слухам). В романе существует множество сюжетов, когда герои что-то слышат, обнаруживают в ненадлежащих местах письма (письмо можно рассмотреть как застывшее на бумаге слово), пишут жалобы, получают тайные записки. Разгадка тайны золотой коновязи, знакомой читателю понаслышке, опять же по слухам, сплетням (если быть точным, то подвыпивший Сата Байбал случайно рассказывает про золотую коновязь купцу Ньукуу), становится сюжетным ядром, вокруг которого выстраиваются образы, переплетаются различные сюжеты, перекликаются судьбы.
Мотив запрета голоса – стремление к подмене истинного слова лже-словом, вынуждение героя не говорить, слышать, видеть – представлен наиболее четко и приобретает функцию, противоположную диалогической. Вспомним сюжет в романе “Черный стерх”, когда Хабырыыса, героя-революционера, стремившегося к правде, запирают в амбаре и поджигают.
Распространяется ложный слух, что Хабырыыс, сожженный заживо, превратился в дух абаасы (оборотня). Причиной трагедии послужило опять же слово: Хабырыыс произнес на ысыахе речь, затронувшую честь некоторых богатых людей наслега, что вызвало их возмущение: «До сих пор ты злословил против нас, теперь мы отправим тебя в место, где ты будешь молчать . Там и можешь говорить, что заблагарассудится » (пер. наш – С.Н. ) [5, с.185]. Слова “кулгуй”, “чыыбыргаа”, “куолулаа” обозначают действие говорящего человека и в то же время обладают негативным стилистическим оттенком.
Другого героя романа – Нэмэлчэ, возлюбленного Чэрэлийэр, убивают люди купца Ньукуу, так как он оказывается случайным свидетелем их тайного разговора.
Ограничение слова представлено наиболее глубоко в легенде о Кыталык-Куо (Девушке Стерхе), организующем основное сюжетное ядро в романе “Черный стерх”. Птица-стерх выражает в песне радость жизни, красоту срединного мира, любовь. Пение – это отражающая эмоционально-окрашенные идеи, видоизмененная, интонационно обобщенная человеческая речь.
Вспомним Аппырыыс, несчастную жену Тойон Киси, которая всегда жила под гнетом мужа, не познала радости материнства. Ее сыновья все умирали младенцами, а Хабырыыса, младшего сына, она не имела счастье воспитывать сама. Несчастная Аппырыыс так и не увидела своего сына – Тойон Киси после рождения мальчика отдал сына на воспитание нищей старухе Хараанай (так вынуждены были поступать, чтобы спасти ребенка от злого духа, пожирающего детей). Тойон Киси вспоминает жизнерадостную молодую Аппырыыс, которая всегда была заводилой в осуохае, очаровывала всех своим звонким, чистым голосом.
Запрет права голоса ограничивает личный мир героев. В культуре народа саха певец, олонхосут представлен как выразитель менталитета народа. Олонхосуты Чоргулла, Дьюрюcютэр (“Хара кыталык”), Куйусутар (“Иэйэхсити кэлэтии”) – это глубоко несчастные люди, ставшие жертвами беспощадного государственного механизма. Образ олонхосута Чоргулла (он же Сымасыт) имеет двойниковый характер: противопоставляются ролевые функции данного образа. Способность к диалогу у Сымасыт и Чоргулла определенно различная: здесь усматривается двойная природа одного образа, состоящая из культурного героя (олонхосута) и его антипода-трикстера (заготовщика гнилой рыбы).
Рассмотрим семантику слов “чоргулла” и “сымасыт”, между которыми четко прослеживается явная бинарная оппозиция. Имя олонхосута Чоргулла исходит от корня “чоргуй”, что значит “(чуор, чоргуй) – громко звенеть, издавать громкий (звонкий) звук, кричать (об орле, кукушке и о многословном человеке), говорить речитативом, звонко говорить” [9, ст.3648]. Номинативная характеристика героя “Сымасыт” имеет явно пренебрежительное негативное значение (в старину сымасытом был человек, в основном низкого социального положения, занимающийся заготовкой рыбы. Рыбу квасили в ушатах или в ямах, где слежавшись, она приобретала противный гнилостный запах разложения). Номинация “Сымасыт”, как мы видим, в этом контексте имеет выраженную связь с закрытостью, помещением в яму, ограниченностью. Это тот случай, когда посредством номинативной характеристики выражается отношение героя к пространству. В данном случае автором противопоставляются открытые и закрытые реалии.
Однако потребность в диалоге не отпадает, а обретает иную форму. Загнанное в себя, не имеющее выхода слово героя становится “подпольным”. Хобороос-чревовещательница, героиня романа “Черный стерх”, не получив свободы говорить открыто, вынуждена была требовать внимание голосом абаасы, говорившего якобы из ее “чрева”.
Но и этот потаенный голос Хобороос выражает скрытую угрозу князю Ноолур и писарю Сиидэркэ. Попытка насильно выдать Хобороос замуж за глухонемого Аата Суох вызвана желанием запретить ее голос. “Вот за него и надо отдать, а коль заартачится – Аата Суох живо ее обуздает” (пер. – А. Ленская) [3, с.358]. Следует обратить внимание на контрастирующие функции героев, наполненные символическим содежанием: обладающая словом героиня и обделенный человеческого голоса Аата Суох олицетворяют вечное противостояние двух антагонистических сторон.
Хабырыыс, стремясь отгородиться от людской молвы, с помощью чревовещательницы Хобороос прикидывается невидимкой и передает свои послания-наказы посредством других людей. Отчетливо наговаривает судьбу Хабырыыса ворожей Сэрбэкэ: “Вот посмотри сам: возле твоего сына примет смерти нет, зато пламенем бушует злословье...” (пер. – Д. Чупрыни) [7, с.194]. Злое слово (проклятье) приравнивается смерти, и представляет реальную угрозу герою, который предпочитает быть невидимым (не существовать).
Герой с запрещенным правом голоса предстает как человек глубоко несчастный, отрешенный от всего мира, он отчуждается от людей, общества, от себя. Безмолвие есть страшная участь героя. Кулусун: «Поляна «Сердце» молчит . Покрыта черной пылью. Окружающий лес безмолствует . Потемнел . Вокруг все молчит ...» (пер. наш – С.Н. ) [2, с.84].
В поэтике романа «Черный стерх» из темы диалога выделяется мотив слухов, занимающий оппозиционное положение диалогу. Роман строится на основе “противостояния голосов”: оппозиция разнообразнейших слухов (сплетен, разговоров, диспутов, мнений) переплетается в сюжете романа-трилогии “Черный стерх”.
Легенда (слух) в структуре романа используется часто. Легенды о черном стерхе, чучуне, шамане Орджонумаан, удаганке Дьырылаан и других составляют важное сюжетное ядро романа. В его структуре часто используются подобные формулы: “Во время прилета весенних птиц в этом тихом наслеге разошлась страшная весть” или “Весть о том, что появился новый шаман, разнеслась из елани в елань”, или “О Хабырыысе уже успели разнестись диковинные рассказы”. Быстрота распространения вести отнюдь не зависит от тайной природы слуха: “Его рассказ, который он тайком поведал от тойона-хозяина, в один день дошел до всех”, “Писарь рассказал об этом старосте наслега, и его рассказ распространился в один день по всему наслегу”.
Одно звено лже-слова порождает много сплетен и превращается в длинную цепь слухов: “Улус заполнился такими рассказами, дошли слухи и до исправника”. Лже-слова, наполненные вымыслом и фантазией, и слова, носящие правдивую информацию, жителями наслега особо не разграничиваются: “Назавтра услышали еще более пугающую весть: Черный Чеечеен с Теллярисом отправились к могиле великого шамана поклониться, и увидели – старец камлал рядом с могилой наяву”. “ Весть о том, что шаман исцелил сумасшедшего, разошлась по всему улусу”. “Пошли разговоры о том, что глава-тойон в это году сам организует ысыах-праздник”. Чем меньше вероятность правдивости слуха, тем шире радиус его распространения: “Пугающая весть о том, что сын головы улуса Хабырыыс сгорел в амбаре и превратился в призрак, распространилась по всему улусу” или: “Рассказ о том, что у старухи Хараанай поживает чертенок разошелся из семьи в семью”.
Объяснение феномена слуха в романах можно найти в словах писателя: “Обычно в небольшом селении сплетни распространяются больше всего” (пер. наш – С.Н. ). Оппозиция “большая сплетня” и “маленькая деревушка” особо подчеркивается писателем: контраст “большого” и “маленького” усиливает восприятие трагедийности бытия, так как внешний хаос (хаос слова) является индикатором внутреннего хаоса в человеческой душе. Проблема диалоговых отношений в этой маленькой деревушке высока: коллизия между новой властью и представителями старой идеологии, вражда между князцом, писарем, купцом Ньукуу и Тойон Киси, противостояние бедного слоя населения богачам, непонимание между сыном и отцом.
И в то же время стоит обратить внимание на такой аспект, как особое отношение к Слову. “Беспорядок” во владении словом есть пренебрежение традицией, культурой. Владение словом воспринимается как нечто сакральное. Возможность говорить изначально дана богом только избранным, например, шаману. Но вопреки воле богов людям суждено было менять уклад жизни, традиции, нарушать табу.
Исполнены глубокого смысла слова татарки Фатимы: “Раньше не было никого прямодушней и скромней якутов. А теперь все горлохваты ! Раньше я не слыхала, чтобы якут выступал на собрании . О, великий Аллах! Подумать только – девчонки, гимназистки писк подняли ” (пер. – А. Ленская) [3, с.7]. Понятие “слова”, особо акцентированное автором в данном контексте, приобретает смысловую нагрузку как основа порядка, гармонии, и наоборот, отчуждение Слова от человека характеризует хаос (бескультурье, распад, революцию).
По степени достоверности слова (слуха) оцениваются все происходящие вокруг персонажей действия. Когда Хабырыыс сообщает радостную новость об установлении советской власти бедняку Кимбилэрдогоор, тот принимает это известие настороженно: “Да властей у нас сколько! И не сосчитаешь! А кто его знает! Неизвестно, может это правда, а может быть и нет!?..” (пер. наш – С.Н. ) [6, с.200]. Стоит подчеркнуть, что номинативная характеристика данного персонажа Кимбилэрдогоор играет не меньшую роль в трактовке проблемы диалога – выражение “Ким билэр, догоор” можно перевести как “А кто его знает”. Имя здесь выполняет функцию защиты человека от воздействия лже-слов. Защищается от человеческого слова и Тыасыт, наиболее близкий к природе, сохранивший чистоту разума и помыслов. Он любовно именует природу Матушкой: “Матушке нашей я вполне доверяю. А вот к людям веры нет. Природа не соврет, не обманет, а люди без этого жить не могут” (пер. – А. Ленская) [3, с.23].
Старушку Огдооччуйа, помогающую всем страждущим, поминает добрым словом скупой на благодарность Тойон Киси: «Милый она человек, пусть ее возблагодарит бог, за то, что она не испугалась людской молвы, не насторожилась сплетен, и совершила благое дело!». И вправду, бабушка Огдооччуйа, имевшая удивительную способность отличать правду от лжи, действовать по велению сердца, достойна благодарности.
Бинарную оппозицию по отношению к “слову” занимает архетип “сердца”. В самых критических ситуациях, когда герой оказывается между смертью и жизнью, он действует по велению сердца. О сакральном значении сердца в жизни человека рассуждает герой Хабырыыс: “Верно, бедное сердце обязано кого-то, что-то любить, сердце оно и есть, пока любит” (пер. наш. – С.Н .) [6, с.3].
Архетип сердца выступает в романах писателя тем ориентиром, который указывает единственно правильный путь. "Если не веришь, послушай, как бьется у меня сердце. Ему в груди тесно, и оно готово вырваться наружу. Так сердце бьется только у живых” (пер. – Д. Чупрыни) – это слова Хабырыыса своей любимой девушке, слова человека, которого все принимают за оборотня, включая родного отца [7, с.165]. Последним аргументом его правдивости является его бьющееся сердце, и это доказательство того, что Хабырыыс жив (не погиб!) в конце концов, принимает Хобороос.
Ориентиром для любящих друг друга молодых людей служит верное сердце:
“- Хабырыыс, я знала, что ты придешь…
- А как?
-
- Сердце мое подсказало. Я была уверена, что ты жив.
-
- И это тоже подсказало твое сердце?
-
- Конечно, сердце… Лучше почувствовать своим сердцем, чем увидеть” [6, с.69].
Адьарай – тиран, стремящийся завладеть несметными богатствами страны Солнца. На вопрос Учителя, почему завоеватели солнечной страны испытывают сильную страсть к золоту, Адьарай отвечает: “Правильно спрашиваешь. У нас всех болит сердце. Лишь только золото может вылечить наш недуг” (пер. наш – Н.С. ) [7, с.180].
Не менее интересно заявление Фомы-Богомола своему другу Кыраса: “Твой кут-душа находится в сердце”.
Б.П. Вышеславцевым в труде “Этика преображенного Эроса” (1931) рассматривается символика сердца, где он определяет основную константу архетипа “сердца”: “В нем (в сердце – С.Н. ) выражается сокровенный центр личности. Сердце есть нечто более непонятное, непроницаемое, таинственное. Скрытое, чем душа, чем сознание, чем дух. Оно непроницаемо для чужого взора и, что еще более удивительно, для собственного взора. Оно так же таинственно, как сам бог, доступно до конца только самому Богу” [1, с.274].
Таким образом, наряду с хронотопическими образами, особенностями сюжета и композиции, художественной символики, диалогизм является существенной стороной гоголевской поэтики. Своеобразие архитектоники романов позволяет утверждать, что картина мира в произведениях И.М.
Гоголева построена по диалогической модели. Доминирующим аспектом поэтики романов является межличностная коммуникация: между индивидами, народами, культурными мирами, в процессе которой устанавливаются постоянно видоизменяющиеся и обогащающиеся "диалогичные отношения”.
Список литературы Слово как микроконцепт в хронотопе романов И.М. Гоголева
- Вышеславцев. Б.П. Этика преображенного Эроса. -М.: Республика, 1994. -367 c.
- Гоголев И.М. Иэйэхсити кэлэтии. -Якутск: Кн.изд-во, 1993. -272 с. (на якут. яз.)
- Гоголев И.М. Месть шамана: Роман. Пер. с якут. -М.: Сов. писатель, 1992. -416 с.
- Гоголев И.М. Третий глаз. -Якутск: Бичик, 1999. -240 с. (на якут. яз.)
- Гоголев И.М. Хара кыталык. -Якутск: Кн.изд-во, 1977. -358 с. (на якут. яз.)
- Гоголев И.М. Хара кыталык. -Якутск: Кн.изд-во, 1982. -288 с. (на якут. яз.)
- Гоголев И.М. Черный стерх: Роман. Пер. с якут. -М.: Советская Россия, 1990. -272 с.
- Пекарский Э.К. Словарь якутского языка: В 3 т. Т.2 -М.: Изд-во АН СССР, 1958.
- Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. 2-е изд. Т.3.-М.: Изд-во АН СССР, 1958.