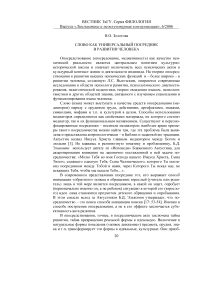Слово как универсальный посредник в развитии человека
Автор: Золотова Наталия Октябревна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 6, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120415
IDR: 146120415
Текст статьи Слово как универсальный посредник в развитии человека
СЛОВО КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОСРЕДНИК В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА
Опосредствование (опосредование, медиативность) как качество психической реальности является центральным понятием культурноисторической школы и означает включеннсть всех психических актов в культурный контекст жизни и деятельности индивида. На теорию опосредствования в развитии высших психических функций и – более широко – в развитии человека, созданную Л.С. Выготским, опираются современные исследования в области психологи развития, психологического диагностирования, педагогической педагогики, теории овладения языком, психолингвистики и других областей знания, связанного с изучением становления и функционирования языка человека.
Слово (язык) может выступать в качестве средств опосредования (медиаторов) наряду с орудиями труда, действиями, артефактами, знаками, символами, мифами и т.п. и культурой в целом. Способы использования медиаторов определяются как свойствами материала, их которого состоит медиатор, так и их функциональным назначением. Существуют и персоно-фицированные посредники – носители медиаторов: наиболее яркие примеры такого посредничества можно найти там, где эта проблема была выявлена и представлена антропологически – в Библии и заданной ею традиции. Августин назвал Иисуса Христа главным медиатором между Богом и людьми [1]. Не вдаваясь в религиозную тематику и проблематику, Б.Д. Эльконин использует цитату из «Исповеди» Блаженного Августина, для акцентирования внимания на лаконично поставленной в ней задаче посредничества: «Молю Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа, Сына Твоего, сидящего одесную Тебя, Сына Человеческого, которого Ты поставил посредником между Тобой и нами, через Которого Ты искал нас, не искавших Тебя, чтобы мы искали Тебя…».
В современном представлении посредник тот, кто выражает способ инициации «обратного» поиска и обращения: взрослый (учитель или родитель) лишь в той мере является посредником, в какой он ищет, опробует (первоначально именно он, а не ребенок) ситуацию в которой его (взрослого) идея сама становится предметом детского обращения и опробывания. В этом смысле вслед за Августином Б.Д. Эльконин утверждает, что посредничество – это поиск способа инициации поиска [17: 53-54]. Именно в способе построения опосредования, а не в его эффекте заключается субъективность акта развития.
В опосредствовании, точнее, в посредническом акте заключена тайна развития, тайна превращения реальной формы в идеальную. Включение в натуральные формы поведения («живое движение») предмета, орудия, знака и т.п. трансформирует эти формы в идеальные, культурные. Они приоб- ретают вид предметных, орудийных, знаковых, вербальных, символических – в широком смысле инструментальных форм действия и деятельности. Именно такое включение происходит в совместном, совокупном действии развивающегося субъекта с Другим – посредником [5]. Таким образом, место «между» идеей и реалией должно быть занято кем-то, кто является посредником и «передает» ребенку идеальную форму. Л.С. Выготский писал: «Путь от вещи к ребенку и от ребенка к вещи лежит через другого человека» [2: 846]. В контексте бытового описания взаимоотношений «родители – ребенок» идеальная форма – это образец взрослого поведения и отношения к жизни: таким я пока не являюсь, но хотел бы стать со временем, а если я уже сейчас чувствую, что мы с родителями одинаковые, то мне некуда «расти». Историю психического развития ребенка можно свести к другому высказыванию Л.С. Выготского: «Путь через другого человека – центральная трасса развития практического интеллекта… Речь играет здесь первостепенную роль» [Ibid].
Однако, несмотря на определенность социального места и наличных средств функционирования посредника часто не удается передать ребенку идеальную форму, а это значит, что идея не «переправляется» из взрослой жизни в детскую. Опосредствующему надо найти способ видения опосредуемого, т.е. инициировать его поиск этого способа, соотнести свою и его позиции и в результате «дать» ему его позицию именно как положение в мире, а не случайно и сиюминутно занимаемое место [17: 52].
Акт посредничества подразумевает совокупное действие, и в этом смысле он больше, чем ассимиляция, усвоение. Это сотворчество , которое начинается с самого трудного – порождения языка, собственного медиатора – средства общения. Наиболее наглядно такое сотворчество выступает в порождении младенцем знаков (различных видов плача, движения руки и тельца, в котором выражаются его интенции), понятных взрослому. В.П. Зинченко и Б.Д. Эльконин подчеркивают: творчество и сотворчество – это не механические акты, они невозможны без страсти (страстотерпия, претерпевания, страдания). Если перевести это на язык психологической педагогики М. Монтессори, то родитель, педагог – не только носитель образца, идеальной формы, но и источник смысла, страсти, возникающих у ребенка в посредническом действии [5].
Мы полагаем, что в процессе становления языковой личности опосредствование психики строится в первую очередь при помощи единиц ядра лексикона, а языковой образ посредника, эмоционально «помеченный», запечатлевается и «просвечивает» в ядре ментального лексикона взрослого человека всю его жизнь (см.: [6]). Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на реакции испытуемых преклонного возраста, на фоне ассоциативного разнообразия которых сохраняются слова, зафиксированные в качестве реакций в эксперименте с детьми раннего и дошкольного возраста [11; 12; 14; 15]. В ситуации овладения неродным языком в условиях учебного билингвизма в реакциях испытуемых наблюдается определенный на- бор лексических единиц иностранного языка, с которыми обучаемые встретились впервые, сохраняемый на протяжении всего исследуемого автором возрастного диапазона (с первого по пятый курс) с неизменно высоким коэффициентом актуальности [7].
В работе О.В. Ивановой [7] с опорой на идею посредничества Б.Д. Эльконина предпринята попытка обосновать роль преподавателя неродного / иностранного языка как посредника (Другого), организующего взаимодействия обучающегося индивида с языковой стихией. Личность преподавателя предлагается рассматривать как важный фактор, обеспечивающий возможность проникновения слова иностранного языка через границу, отделяющую чужое слово от своего (в понимании М.М. Бахтина).
Идея посредника, посредническая функция слова используется в органической психологии, продолжающей осмысление сделанного Л.С. Выготским и его предшественниками, современниками и последователями. Слову здесь (наряду со знаком, символом, мифом) отводится роль медиатора, с помощью которого осуществляется формирование функциональных органов индивида [3]. В.П. Зинченко считает, что функциональные органы, психологические функциональные системы следует рассматривать как материал (материю), из которого в конце концов конструируется духовный организм [4: 227].
С этой точки зрения, ядро ментального лексикона может рассматриваться и как специфическое новообразование, функциональный орган, появляющийся в онтогенезе и служащий материалом и средством для формирования нового функционального органа-новообразования в следующем акте функционального развития. По существу, как считает В.П. Зинченко, мы имеем дело с саморазвитием, понимаемым как открытый процесс: он открыт к усвоению все новых и новых медиаторов и их разновидностей [3: 145]. Примерами новых медиаторов, построенных на основе ядра ментального лексикона, может служить детское словотворчество, поэтическое мышление и другие творческие акты.
Концепция функциональных органов индивида достаточно хорошо развита в отечественной физиологии и в психологической теории деятельности, а строгое определение понятия функционального органа как «всякого временного сочетания сил, способных осуществить определенное достижение» принадлежит А.А. Ухтомскому [16]. Он объективировал субъективное, психическое в «теле» функциональных органов индивида, которые считал не менее реальными, чем морфологически сложившиеся образования. И если в ходе эволюции изменения по существу не коснулись морфологических признаков человека – таких, как, например, строение человеческой руки, то в усовершенствовании тех орудий, которыми рука действует (т.е. орудий труда), они проявились наиболее ярко.
Здесь нельзя не упомянуть о парадоксах детского развития, о которых писали В. Штерн, Ж. Пиаже, И.А. Соколянский и многие другие. Д.Б. Эль-конин говорил, что парадоксы в детской психологии – это загадки разви- тия, которые ученым еще предстоит разгадать. Свои лекции в Московском университете Д.Б. Эльконин неизменно начинал с характеристики двух основных парадоксов детского развития, заключающих в себе необходимость исторического подхода к пониманию детства [10]. Первый был назван им парадоксом природы, предопределяющим историю детства: человек, появляясь на свет, наделен лишь самыми элементарными механизмами для поддержания жизни, на момент рождения у ребенка отсутствуют какие-либо готовые формы поведения. Как правило, чем выше стоит живое существо в эволюционном ряду, тем дольше длится его детство, тем беспомощнее это существо при рождении. В ходе истории материальная и духовная культура человечества непрерывно обогащалась, за тысячелетия человеческий опыт увеличился многократно. Но, как ни странно, за это время новорожденный ребенок практически не изменился. В этом заключается второй парадокс детства по Д.Б. Эльконину. В беспомощности человеческого существа он видел величайшее приобретение эволюции: именно эта «отвя-занность» от природной среды: «свобода», пластичность, готовность к изменчивости позволяет в дальнейшем человеку «стать всем» – заговорить на любом языке, овладеть любой культурной формой поведения и деятельности, присвоить любую форму опыта (см.: [10; 13]).
Формирование новых способностей человека происходит в результате специфической деятельности объединения различных физиологических механизмов в единую функциональную систему, называемую А.Н. Леонтьевым, вслед за А.А. Ухтомским, «функциональным органом». Об этом писал А.А. Леонтьев в одной из своих ранних работ, опубликованных в начале нынешнего века [8]. К числу таких функциональных органов относят движения, действия, образы восприятия, человеческую память, мышление, знание, сознание, эмоции, включая любовь, и многое другое, возникающее в активном взаимодействии со средой. По сути дела, к числу таких органов можно отнести все феномены психической жизни человека, в том числе и язык, формирование и развитие которого происходит при непременном участии единиц ядра ментального лексикона.
Возвращая понятие функционального органа в современную науку, В.П. Зинченко трансформирует замечательную идею Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития ребенка» в идею о перспективе бесконечного развития человека, его духовного (само)развития. Исследователь предлагает рассматривать развивающуюся личность человека как живой организм, приобретающий в ходе своего духовного развития (роста) все новые и новые функциональные органы (психологические функциональные системы в терминах Л.С. Выготского), наделенные телесными свойствами и качествами, например, биодинамической, чувственной, аффективной тканью [3: 103, 148, 182].
Восхождение к духовности, по В.П. Зинченко, опосредствовано различными формами внешней и внутренней активности субъекта: коммуникацией, жизнедеятельностью, поведением, рефлексией и т.д. Помимо форм активности имеется особый класс медиаторов, к которым относятся, прежде всего, знак, слово, символ и миф. Таким образом, важнейшей характеристикой живой системы (человека, социума) оказывается возможность создания ею в процессе ее становления и развития недостающих ей органов [Op. cit: 148]. Без общения с медиаторами, по мнению В.П. Зинченко, не будет взращивания сознания, свободного поступка, ответственной деятельности.
Заслуживает внимания наблюдение И.Л. Медведевой, касающееся того факта, что мысль В.П. Зинченко о роли слова как медиаторе духовного развития созвучно тому, что А.А. Залевская называет двойственной медиативной функцией слова, благодаря которой человек имеет доступ к упорядочению собственного внутреннего мира и к тому, что связывает его с социумом [9: 18].
Сказанное можно в полной мере отнести и к ситуации овладения языком в раннем детстве: «вырастающий» в первые годы жизни функциональный орган человека – ядро его ментального лексикона – «проживает» вместе с ним все этапы развития: от детства до зрелости и старости, а его медиаторы – единицы ядра лексикона – «присваиваются» личностью с помощью посредника, который находится с ним в эмоциональном контакте, в качестве средств выхода на образ мира и организации речевого и неречевого поведения, являясь необходимым условием оперирования языком в речемыслительной деятельности и общении. Тема слова как средства опосредования психической жизни человека, представляется неисчерпаемой.