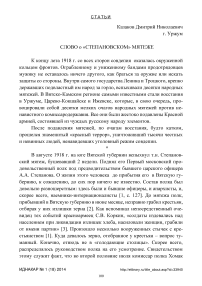Слово о "степановском" мятеже
Автор: Казаков Дмитрий Николаевич
Журнал: Иднакар: методы историко-культурной реконструкции @idnakar
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 (18), 2014 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/170150686
IDR: 170150686
Текст статьи Слово о "степановском" мятеже
ИДНАКАР № 1 (18) 2014
ИДНАКАР № 1 (18) 2014
связь с КОМУЧем в Самаре, и Архангельском, захваченным белой армией с помощью интервентов, а также аналогичными мятежами в Ижевске2, Яранске, Санчурске и Царево-Кокшайске. В последнем власть также оказалась в руках представителей партии эсеров. В Яранске 3 и Царе-во-Санчурске вспыхнули мятежи офицеров, и здесь с надеждой ждали прихода степановцев [5, с. 78-81].
При слабой советской власти и народной поддержке степановцы, при своей малочисленности, быстро установили власть в трех уездах – Уржумском, Малмыжском и Нолинском. Достоверно известно, что в их планах был захват г. Котельнича с железнодорожным мостом и дальнейшее соединение с мятежниками в Архангельске [6]. По отношению к бывшим представителям советской власти и управления на местах степановцы оказались настоящими демократами – все решалось на народных сходах. Никаких расстрелов, никаких бессудных казней как при большевиках. Вооруженный инцидент произошел только в г. Нолинске. Местные коммунисты особенно зверствовали здесь над крестьянским населением. Руководителя нолинской «чрезвычайки» Жидялиса даже в кругах советской власти шепотом называли бандитом [7]. Такой ужас внушал всем этот человек. На свое счастье он был далеко от Нолинска во время мятежа, но вернулся после его подавления. Степановцы вступили в город тихо ночью, и коммунисты не успели сбежать. Они знали, что пощады им за все совершенные злодейства не будет, заперлись в здании исполкома и открыли огонь по незваным гостям. Степановцы открыли ответный огонь. Долгая перестрелка не принесла никаких результатов: коммунисты были надежно укрыты за каменными стенами бывшего духовного училища. Тогда сте-пановцы подожгли здание и взяли всех вышедших из него живьем. Руководитель нолинских большевиков Андрей Вихарев переоделся в женское платье и пытался бежать, но был пойман и растерзан населением. В свое время он успешно помогал Жидялису, по приказу комиссара Азина, приезжавшего в город, участвовал в арестах мирного населения, которое бралось в заложники с возможными последующими расстрелами. Тело его изрубили на куски и бросили в воды реки Вои, омывавшей город [6]. Остальные были отравлены в тюрьму до решения народного схода [8, л. 1-4
об.]. В советское время раздули миф, что все они погибли в горящем здании. Что самое смешное, в городе до сих пор стоит памятник «погибшим».
В воскресение 11 августа председатель лебяжского волисполкома Шерстенников добровольно «сдал» село с его пристанью и высоким мысом над Вяткой. Он не поленился для этого съездить в Уржум и привести с собой десяток степановцев с 4 пулеметами [3]. В селе Лебяжье, по воспоминаниям очевидцев, степановцы застали на пристани пароход с красноармейцами [9] и посадили их до решения народного суда в «кутузку» [10, л. 13-15]. В сельсовете они застали врасплох местного военного комиссара и жестоко избили его, после чего тот скрылся и прятался в окрестностях Лебяжья до прихода красноармейцев [11].

А. Вихарев - «нолинский палач»
Здесь, как и в других местах, степановцы собрали народ на сход, агитируя за свою власть и призывая вступить в их отряд. Позднее, очевидец вспоминал: «… Лебяжане стояли, понурившись, переминаясь с ноги на ногу. Оратор разливался соловьем, сулил всякие блага. Но призывы его так и повисли в воздухе. Желание вступить в банду изъявили лишь несколько богатеев да пропойцев. Остальные молчали, не трогались с места. Только когда степановцы что называется « с ножом приступили к горлу», какой-то дед дипломатично высказался: «Мы что, мы ничего, как Елькино порешит…» [12]. Несколько человек – 2 степановца и 2 лебяжанина из сыновей лебяжских торговцев были отправлены в д. Елькино соседней волости, жители которой слыли самыми рассудительными в округе. Новобранцам выдали военную форму, винтовки, дали самогону на дорожку, и вся честная компания весело покатила в Елькино, по пути агитируя встречных путников «за белую армию». Но дойти им до деревни было не суждено. У д. Филатово незадачливые посланцы угодили прямо в руки красноармейцев, незадолго до этого высадившихся с пароходов у Елькино, и без лишних разговоров были расстреляны в овраге за деревней [13].
Небольшой отряд степановцев был по Вятке отправлен в Кукарку, но там потерпел неудачу – боцман, который вел корабль, оказался слишком «сознательным» по отношению к Советам, завел свое судно на мель, где степановцев окружили местные крестьяне, лояльные к советской власти, и уговорили их сдаться. Тем ничего другого не оставалось [14]. В 1930-е годы местные ребятишки нашли в прибрежной пещерке, неподалеку от этого места, настоящее сокровище - штук 15 винтовок и даже вдоволь настрелялись из них, пока оружие не было у них отобрано взрослыми [15]…
Эмиссары «правительства» Степанова были отправлены с агитацией и на юг уезда, например, в села Марисолу и Хлебниково, а, возможно, и в другие села. Позднее чекисты нашли «пособников» мятежников также в Кукнурской и Параньгинской волостях; в приговорах, вынесенных им значилось, что они «оказывали помощь белогвардейцам» [16]. Известно, что в Марисоле степановцев поддержало население, в т.ч. духовенство. Вот что рассказывал о событиях в селе очевидец Б.И. Шабалин:
«…Из Уржума поскакали во все волости уезда нарочные, требуя поддержки власти Степанова. Двое нарочных верхом прискакали в Мари-солинскую волость. В селе Марисола волость образовалась после Октября
1917 года, примерно в апреле 1918 года. До 1917 года село Марисола и окрестные деревни входили в состав Кузнецовской волости. Нарочные встретились с секретарем волисполкома, членом партии эсеров Шишиги-ным Николаем Ивановичем, с попом Андреем, и они обещались провести собрание мирян прихода в церкви с поддержкой новой власти Степанова. Большинство крестьян были недовольны продразверсткой и, как могли, прятали хлеб. На следующий день по звону колоколов собрался сход прихожан. Председателем собрания был избран поп Андрей, секретарем Шишигин Н.И., и собрание решило поддержать власть Степанова в Уржуме. Среди выступивших на сходе были дьяк Шабалин Иван Андреевич, протодьякон Соколов, который выступил с резкой критикой власти большевиков. Его язык был резкий, прямой, он говорил то, что думал» [17].

Овраг у деревни Филатово - место расстрела повстанцев. Современный вид.
Эмиссары степановского «правительства» побывали во многих волостях Уржумского уезда, устанавливая свою власть. Но были они не везде.
В Кокшинской волости они, по всей видимости, не появлялись; иначе бы местный коммунист М. Шамов своих мемуарах непременно вспомнил о них, так как был работником волисполкома [18]. Выходит, Кокшинской волости мятеж не коснулся. Известно только, что к мятежникам присоединился бывший учитель Лажской школы Аристарх Сгибнев. Он имел чин прапорщика и, видимо, после разгрома мятежа ушел вместе с отрядом Степанова. В начале 1919 г. имя его публиковалось на страницах Уржумской уездной газеты в списке разыскиваемых офицеров, имевших отношение к мятежу [19].
Власть мятежников была очень недолгой, да и не везде они встречали понимание со стороны крестьянства. Многие были одурачены большевистскими декретами и встречали эмиссаров нового правительства с оружием в руках. Так было в с.Токтайбеляк Уржумского уезда, где местный комбед вооружил крестьян и бросил их на отряд степановцев [1]. Впрочем, в последующие годы Гражданской войны они крепко пожалели об этом и повернули оружие уже против советской власти.
Советская власть приняла все меры для скорейшего подавления мятежа. Из Вятки на юг были направлены несколько пароходов с красноармейцами-интернационалистами и несколько канонерок из Вятских Полян. Разгромить мятежников удалось без труда. Именно красноармейцы с этих пароходов расстреляли лебяжских агитаторов, ехавших в Елькино. Первый населенный пункт на пути следования пароходов из Вятки, в котором была степановская власть – Лебяжье, был захвачен с ходу, несмотря на его удобное возвышенное расположение над р. Вяткой4. Накануне часовые обстреляли подозрительный пароход, повернувший назад, и не удосужились даже проверить, ушел ли он окончательно. Пароход же притаился за ближайшим мыском [12]. Утром, накануне нападения Красных, все сте-пановцы в Лебяжье были либо пьяные, либо сонные. Спали даже часовые. У одного часового красные, подойдя вплотную, просто отобрали винтовку. Он спал так крепко, что даже не слышал боя. После короткой перестрелки степановцы в панике драпанули в прибрежные кусты. Красные решили опробовать привезенные с собой пушки и грохнули из них по реке. Из прибрежных кустов сразу показались лодки со степановцами, направлявшиеся прочь от берега. Все эти лодки были разбиты канонадой в щепки
-
[2 0]. Эти же пушки были использованы при взятии Нолинска. Здесь боя не было. Степановский отряд в панике покинул город. Бежали мятежники и из Уржума. Серьезное сражение произошло только в селе Шурма, на краю Уржумского уезда. Сражение было неравным, т.к. на стороне красных был численный перевес и вооружённые корабли. Так был бесславно и практически без упорного сопротивления подавлен степановский мятеж. Остатки отряда, вместе со своими лидерами Степановым, Березинским и Депрей-сом, ушли в г. Казань. Позднее сам Степанов погиб под г. Чебоксары, а его бойцы воевали в армии Колчака [21, с. 119-135]. В отношении пленных степановцев красные, в своих лучших традициях, не церемонились: сразу в расход. Так было в с. Лебяжье. Все пленные здесь были сразу расстреляны бессудно у стен церкви. Потом выловили еще нескольких офицеров в соседних деревнях. Их тоже расстреляли прямо на месте [11, 22, 23].
Одним из участников степановского мятежа был житель с. Лаж Кокшинской волости Андрей Иванович Лобанов. Участником он стал невольным, т.к. являлся служащим Уржумской почтово-телеграфной конторы, выполнял свою работу по долгу службы, вне зависимости от собственных политических пристрастий. За это и был расстрелян во время «красного террора». В этом смысле судьба его является примечательной, и хотелось бы рассказать о ней подробнее.
О жизни его известно мало. Если бы не «участие» в Степановском мятеже, имя его и вовсе кануло бы в Лету. Даже его следственное дело с несколькими справочками и тремя фотографиями – малоинформативно [24]. Известно, что в селе Лобанов имел большой дом, 2 мельницы и 200 десятин земли, которые обрабатывались трудом наемных рабочих. Участвовал в двух войнах – Русско-японской и германской, о чем свидетельствовали три фотографии его фронтовых друзей, позднее изъятые чекистами при обыске и пришитые к «делу». В 1916 г. Андрей Иванович был демобилизован и вернулся в родные края. Эти обстоятельства подтверждают документы: 2 справки за 1916 г. – «Реестр живого инвентаря» с перечислением трех лошадей по кличке Лысый, Лира и Бурый, и «Книга поденных рабочих».
Точно не известно, когда А.И. Лобанов стал работать в Уржумской почтово-телеграфной конторе, но в советское время он был на хорошем счету, даже посылался на Съезд делегатов почтово-телеграфных служа- щих. Об этом говорит Удостоверение от 29 июля 1918 г., подписанное самим губернским комиссаром: «Предъявителю сего почтово-телеграфному служащему Уржумской почтово-телеграфной конторы Андрею Иванову Лобанову, возвращающемуся к месту служения с Съезда делегатов почтово-телеграфных служащих, Коллегия почт и телеграфа Вятской губернии просит администрацию Волго-Вятского пароходства и советской власти оказать возможное содействие к беспрепятственному следованию к месту служения и тем дать ему возможность своевременно явиться на службу».
Бумага эта была написана незадолго до драматических событий, развернувшихся в Уржумском уезде в августе 1918 г. Степановцы, захватывавшие населенные пункты, активно пользовались телеграфом. Так было и в Уржуме, и в Лебяжьем. Известно, что в те дни в Лебяжьем житель соседней Рождественской волости и будущий ее председатель В. Быстров, зайдя на почту, связался с Уржумом, чтобы выяснить положение дел, и получил телеграмму следующего содержания: «В Уржуме власть уже другая и у вас в Лебяжье тоже, надеемся, что вы последуете нашему примеру. Сейчас же, даже ночью, мобилизуйте способных носить оружие в возрасте от 15 до 70 лет. Вооружите их винтовками, вилами, топорами и т.д. Ставьте на дороги, по берегу реки заградительные отряды. Задерживайте подозрительных людей, не пропускайте идущие вниз пароходы» [14]. В. Быстров никому не показал эту бумагу; просто положил ее в карман и ушел.
Так Андрей Иванович, хотел он того или нет, передав телеграмму, стал участником мятежа. По законам военного времени за это полагалось только одно наказание - расстрел. Прекрасно понимая, что ждет его за соучастие в мятеже, он, после разгрома степановцев, ушел из Уржума вместе с ними и оказался в Казани, занятой тогда белочехами. С ним скрылось еще 9 человек служащих Уржумской почтово-телеграфной конторы во главе с заведующим. Степановцы оставили Уржум 20 августа, а 27 августа 1918 г. в газете «Известия Вятского губернского исполнительного комитета» печаталось объявление о розыске служащих Уржумской почтово-телеграфной конторы, перечисленных поименно с тем, чтобы «по розыске представить их в штаб командира Вятского района» [25]. Представить, разумеется, не для разговора по душам. Примечательно, что фа- милия Лобанова среди них не упоминалась...
Вскоре Белые были разбиты и в Казани, но Андрею Ивановичу вновь удалось спастись от расправы. Белые вновь отступали, на этот раз на Урал и в Сибирь. Уезжать куда-то в неизвестные края Лобанову не хотелось, и он решает вернуться домой, в Лаж, где у него оставалась семья и большой уютный дом. Возможно, как многие тогда, он надеялся, что все забудется и простится за прошествием долгого времени. Но осенью в Лаж нагрянули чекисты. В стране вовсю разгорался «красный террор», когда людей хватали за малейшее подозрение в контрреволюции и после недолгого фиктивного следствия обычно расстреливали. Поэтому нужды в ведении следствия не было вообще. Зачем нужно следствие, если людей арестовывают без всякого повода? Следствие велось чисто формально, на очень примитивном уровне, и обычно в вину обвиняемому вменялось все, что угодно, все, что взбредет в голову следователю. Так были расстреляны, например, два священника с. Лебяжье, вся вина которых свелась к тому, что они, якобы, ушли из села вместе со степановцами. И тут на поверхность всплывают вещи, прямо противоположные обвинению: во-первых, они уехали из Лебяжья еще до разгрома степановцев и прихода туда красных, а, во-вторых, никто из степановцев не ушел из Лебяжья - они все были перебиты в ожесточенном бою, а остальные расстреляны у стен церкви. Выходило, что обвинение липовое. И все же тех священников расстреляли [26].
Был арестован и Лобанов. В его доме при обыске были найдены и изъяты 2 упомянутых документа и три фотографии. Он имел 200 гектар земли, 3 лошади, 2 мельницы, нанимал рабочих. Эксплуататор! А это уже вина.
Следствие, видимо, практически не велось; в деле не сохранилось ни одной бумажки - ни одного ордера, ни одного протокола допроса, ничего! Лишь 11 ноября 1918 г. следователь уездной ЧК вынес расстрельное постановление: «Производил следствие по делу гр. Лобанова Андрея Ивановича по обвинению его в Белогвардейском движении, при чем оказалось что гр. Лобанов действительно примкнул к белогвардейцам, при появлении таковых. <В> Казан он уехал вместе с ними и поступил там на службу, после занятия Казан советскими войсками гр. Лобанов уехал из Казани и приехал обратно село Лаж с целью скрыться от наказания. Обществом он не был послан Казан эта ложь что и подтверждает местные крестьяне окрестных деревень. Кроме этого занимался эксплуатацией. Содержал 2 мельницы и около 200 десятин земли. Так что это является ложь что он бедность. Заключаю, что он является вредным для советской власти и окружным путем идет против советов. А потому постановил Лобанова Андрея Ивановича расстрелять» [26].
В народе рассказывают, расстреляли Лобанова недалеко от родных мест, возле тракта, причем палачи цинично заставили его выкопать могилу себе самому. А на следующий день… пришла бумага с отменой приговора [27]. В деле А.И. Лобанова такого документа нет, да и не было, скорее всего. Можно, правда, предположить, за Лобанова мог кто-то заступиться из сильных мира сего (как это произошло в случае со священником с. Шурма Михаилом Романовым, ранее служившем в том же селе Лаж и арестованным в те же дни), но опоздал. Скорее всего, это только народная легенда. Так закончил свою жизнь этот человек. Виной его стало то, что он имел больше, чем другие, и то, что честно выполнял свой служебный долг.
В 1919 г., наученные горьким опытом, коммунисты издали постановление о добровольной сдаче оружия населением. В противном случае его владельцев ждали крупные неприятности, вплоть до расстрела. 13 января состоялся волостной съезд комитетов бедноты Кокшинской волости, на который прибыли два военных комиссара с одинаковой фамилией Лаптевы. На съезде бедняки, несмотря на протесты зажиточных крестьян, выразили солидарность новому советскому постановлению и вынесли свое: «Мы, бедняки Кокшинской волости, заслушав доклады военных комиссаров товарищей П.Г. Лаптева и А.Е. Лаптева о сдаче оружия, обязуемся узнавать, что если у кого-либо имеется оружие, донести до сведения военного комиссариата, сознавая, что оружие на фронте для защиты трудового народа от хищников капиталистов всех стран мы обязуемся оказывать всякое содействие в получении оружия от населения. Да здравствует вооруженная Красная армия, укрепляющая власть бедноты».
Постановление, впрочем, мало помогло. В том же году полыхнуло мощное крестьянское восстание в селе Байса, был убит жестокий комиссар Груздовский, грабивший и поровший крестьян. Неравная народная война с властью большевиков продолжалась..
ИДНАКАР № 1 (18) 2014