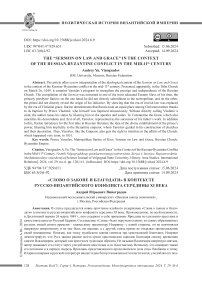"Слово о законе и благодати" в контексте русско-византийского конфликта середины XI века
Автор: Виноградов А.Ю.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Политическая история Византийской империи
Статья в выпуске: 6 т.29, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье предлагается новое прочтение идейного содержания «Слова о законе и благодати» в контексте русско-византийского конфликта середины XI века. Произнесенное, по всей видимости, в Десятинной церкви 26 марта 1049 г., оно содержит в себе программу Ярослава по усилению престижа и самостоятельности Русской Церкви. Составление «Слова» было поручено одному из самых образованных русских людей своего времени - княжескому пресвитеру Илариону: с одной стороны, он не подчинялся напрямую митрополиту и не мог быть им наказан, а с другой, князь прямо не открывал происхождение своей инициативы. Показав, как эпоху иудейского закона сменила эра христианской благодати, Иларион демонстрирует, что Русь заняла равное место среди христианских народов благодаря своему крещению князем Владимиром, который сам крестился чудесным образом. Не называя Владимира напрямую святым, автор повышает его статус через уподобление апостолам и св. Константину Великому, что освящает также его потомков и в первую очередь Ярослава, представленного продолжателем дела отца. Вдобавок к этому Иларион впервые в русской литературе вводит идею богоустановленности власти князя, уподобляя его подспудно византийскому императору, на которого Ярослав ориентировался и в своем строительстве храмов и их украшении. Таким образом, Ярослав, подобно василевсу, получает и право вмешиваться в дела Церкви, что и произошло весьма вскоре, в 1051 году.
Ярослав владимирович, иларион русин, «слово о законе и благодати», русская церковь, византийская империя
Короткий адрес: https://sciup.org/149147537
IDR: 149147537 | УДК: 94“04/14”:929.651 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2024.6.9
Текст научной статьи "Слово о законе и благодати" в контексте русско-византийского конфликта середины XI века
DOI:
Цитирование. Виноградов А. Ю. «Слово о законе и благодати» в контексте русско-византийского конфликта середины XI века // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2024. – Т. 29, № 6. – С. 128–141. – DOI: jvolsu4.2024.6.9
Введение. «Слово о законе и благодати», один из самых необычных литературных памятников Древней Руси, неоднократно привлекало внимание исследователей. Однако им и по сей день нелегко вписать его в исторический контекст, без которого затруднительно понять адекватно идеи текста. Причиной этому во многом неясность с обстоятельствами создания памятника.
Методы. Исследователи применяли различные методы и выдвигали разные гипотезы относительно времени и места изначального произнесения «Слова». Наиболее сильным аргументом касательно последнего представляется обращение Илариона к гробнице Владимира, которая находилась в Десятинной церкви 1, прямо призываемой здесь во свидетели и заново освященной митрополитом Феопемптом после полной росписи в 1039/40 г. [13]. В последнее время активно обсуждается предположение, что с этими торжествами связан первый вариант «Слова на обновление Десятинной церкви», прославляющего освящение Руси мощами св. Климента [22, c. 35–43, 63, 136–142, 184; 15].
Сложнее вопрос о времени создания «Слова». Оно было составлено после освящения упомянутой в нем церкви Благовещения на Золотых воротах Киева в конце 1030-х гг. [6] и до смерти супруги Ярослава Ирины-Ингигерды 10 февраля 1051 г., прославляемой здесь как живая. Значит, оно возникло до поставления Илариона в митрополиты (вскоре после 1 марта 1051 г.), то есть тогда, когда он еще был пресвитером храма свв. Апостолов в резиденции Ярослава на Берестове (ПСРЛ, т. 1, стб. 155–156; т. 2, стб. 144).
Н.Н. Розовым «Слово» было определено как пасхально-благовещенская проповедь (на основании использования в нем служб этим праздникам): ее произнесение может быть датировано 26 марта 1049 г., в день Пасхи и сразу после Благовещения [23, p. 147–148] 2. Это объяснило бы и произнесение пасхальной проповеди не в кафедральном соборе Св. Софии (или благовещенской – не в храме на Золотых воротах): на 1049 г. приходилось десятилетие переосвящения Десятинной церкви – династической усыпальницы Рюриковичей. В таком случае составление «Слова» непосредственно предшествует русско-византийскому церковному конфликту, который начался с избрания Илариона в митрополиты Киевские в 1051 г. собором русских епископов по инициативе Ярослава, вопреки существовавшей практике присылки первоиерарха Росии из Константинополя [7], и закончился согласием князя принять митрополита-грека Ефрема, прибывшего на Русь, как выяснилось недавно, не позднее ноября 1052 г. [14]. Это обстоятельство заставляет нас заново посмотреть на текст «Слова» как непосредственного предшественника данного конфликта.
Анализ. Текст. Текстуальное единство и стратификация «Слова о законе и благодати» (критическое издание – [19, с. 78–108]) и даже его авторство, в том числе для различных частей, становилось предметом научной дискуссии [18; 34]. Однако даже возможное добавление отдельных слов и фраз не меняет общей структуры и смысла текста, а его «мно-гослойность» может частично объясняться превращением проповеди в письменное произведение. Формально оно делится на 3 части: собственно «Слово», «Похвалу Владимиру» и «Молитву». Для нас существенно, что «Похвала», в отличие от «Молитвы», почти единодушно считается оригинальной частью памятника 3: она не могла существовать отдельно от предшествующего текста, дающего ей теоретическое обоснование, а тот, в свою очередь, не имеет собственного финала. Этот факт позволяет нам анализировать «Слово» (без «Молитвы») как единую структуру. Анализ его содержания производился исследователями неоднократно (лучший разбор – [21, c. 100–114]), и мы не претендуем здесь на особую новизну – для нас важнее проследить, как идеи Илариона вписываются в церковную политику Ярослава.
«Слово», судя по упоминанию присутствующих свидетелей, предназначалось для произнесения, хотя фраза «ни къ невѣдущиимъ бо пишемь» указывает на его письменную подготовку [27, c. 48] или, скорее, редактирование. Оно представляет собой типичную для Византии гомилию на богословскую тему, основанную на иллюстрациях и цитатах из Библии и христианской истории, которые перемежаются авторскими ремарками. Набор exempla во многом определяет структуру текста: пролог, ветхозаветная часть (дети Авраама, благословение сыновей Исаака и Гедеон), новозаветная часть (беседа с самарянкой, жизнь Христа от воплощения до Воскресения, Его чудеса, пророчества об Иерусалиме и их исполнение, отослание учеников на проповедь), торжество христианства и «Похвала Владимиру» (история князя, собственно похвала, перечисление свидетелей его благочестия, обращение к Владимиру во гробе), завершающаяся «Молитвой».
Текст «Слова», особенно в первых 3 разделах, построен преимущественно на антитезах или, точнее, парах ветхо- и новозаветных параллелей. В прологе противопоставляются «Богъ Израилевъ – Богъ христианескъ», оправдание «прежде... скрижальми и зако-номъ» – спасение «послѣжде... Евангели-емь и крещениемь», «законъ... прѣдътечя... и слуга благодѣти и истинѣ – истина... и благодѣть, слуга будущему вѣку», «прѣжде стѣнь – потомь истина» (здесь и далее текст «Слова» цитируется по: [4, с. 26–56]). Это задает основную тему «Слова» – переход от закона, ассоциирующегося с прошлым и иудеями, к благодати, связанной с будущим и христианами.
В истории детей Авраама, кроме этого, противопоставляются «Агаръ раба съ сыномъ еѣ Измаиломъ – и Исаакъ, сынъ свободныа, наслѣдникъ», которые в конце толкуются как прообразы иудеев и христиан. К этой паре добавляется параллель между историей детей Авраама и действиями Бога:
Авраамъ убо от уности своеи Сарру имѣ жену си, свободную, а не рабу – Богъ убо прѣжде вѣкъ изволи и умысли сына своего въ миръ послати и тѣмь благодѣти явитися.
Сарра же не раждааше... заключена бѣ Божи-имъ промысломъ на старость родити – Безвѣстьная же и таинаа прѣмудрости Божии утаена бяаху ангелъ и человѣкъ.
Сарра же глагола къ Аврааму: ...вълѣзи убо къ рабѣ моеи Агари и родиши от неѣ – Благодѣть же глагола къ Богу: ...съниди на гору Синаи и за-конъ положи.
Послуша Авраамъ рѣчи Саррины и вълѣзе къ рабѣ еѣ Агарѣ – Послуша же и Богъ яже от благодѣти словесъ и съниде на Синаи.
Роди же Агаръ раба от Авраама – Изнесе же и Моисѣи от Синаискыа горы законъ.
По сихъ же уже стару сущу Аврааму и Саррѣ, явися Богъ Аврааму – Вѣку же сему къ коньцу приближающуся посѣтить Господь человѣчьскааго рода и съниде съ небесе, въ утробу Дѣвици въходя.
Тогда убо отключи Богъ ложесна Саррина – И присѣтивьшу Богу человѣчьска естьства, явишася уже безвѣстнаа и утаенаа и родися благодѣть.
И ако отдоися отрочя Исаакъ и укрѣпѣ, сътвори Авраамъ гоститву велику – Егда же уже отдоися и укрѣпѣ и явися благодѣть Божиа всѣмъ человѣкомъ въ Иорданьстѣи рѣцѣ, сътвори Богъ гоститву и пиръ великъ.
По сихъ же... Сарра... рече къ Аврааму: От-жени рабу и съ сыномъ еѣ, не имать бо наслѣдовати сынъ рабынинъ сына свободныа – Видивши же свободьнаа благодѣть чада своа христианыи оби-димы от иудѣи, сыновъ работнааго закона, възъпи къ Богу: Отжени иудѣиство и съ закономъ расточи по странамъ...
И отгнана бысть Агаръ раба съ сыномъ еѣ Измаиломъ, и Исаакъ, сынъ свободныа, наслѣдникъ бысгь Аврааму, отцу своему – И отгнани быша иудѣи и расточени по странам, и чяда благодѣтьнаа христиании наслѣдници быша Богу и Отцу.
Несмотря на несколько странный образ Благодати, тождественной Христу («Благодѣть же глагола къ Богу: Аще нѣсть врѣмене сънити ми на землю и спасти миръ...») и подающей советы Богу (причем даже не Богу-Отцу), основная мысль этой части «Слова» ясна: эпоха господства «рабов»-иудеев, обижавших «свободных» христиан, закончилась: «И уже не гърздится въ законѣ человѣчьство, нъ въ благодѣти пространо ходить». Противопоставление иудеев христианам и закона благодати продолжается примером благословения Иаковом своих сыновей: «Събысться благословение Манасиино на июдеихъ – Ефремово же на христьяныих. Манасиино бо старѣишиньство лѣвицею Иаковлею благословлено бысть – Ефремово же мнишьство десницею».
В последнем ветхозаветном exemplum, истории Гедеона, вводится новая тема – смена места поклонения Богу: «Прѣжде бо бѣ въ Иеросалимѣ единомь кланятися – нынѣ же по всеи земли». Эта тема продолжает развиваться в новозаветной части «Слова», начинающейся с беседы с самарянкой: «ни во горѣ сеи, ни въ Иеросалимѣхъ поклонятся Отцу – но будуть истиннии поклонници, иже поклонятся Отцу духомь и истиною». Дополнительно подчеркнуто здесь Божье откровение не мудрым (= иудеям), но младенцам (= язычникам): «утаилъ еси от прѣмудрыихъ и разумныихъ – и открылъ еси младенцемь».
Далее, после небольшого догматического введения, следуют 17 оппозиций «яко человѣкъ – яко Богъ» из Нового Завета: от воплощения до Воскресения, где в конце автор возвращается к теме не принимающих Христа иудеев, которая продолжается перечислением не оцененных ими благодеяний («Христосъ слѣпыа ихъ просвѣти... – Они яко злодѣа мучивше...», «Приде бо Спасъ – и не приать бысть от Израиля») и притчей о винограднике. Затем две эти темы, смены места поклонения Богу и противления Ему иудеев, соединяются воедино в перечислении пророчеств об Иерусалиме и Израиле. Заканчивается новозаветная часть рассказом об отослании учеников на проповедь народам (то есть язычникам) вместо неблагодарных иудеев: «Нъ ново учение – новы мѣхы, новы языкы!»
И здесь происходит логичный переход к рассказу о распространении христианства в мире. Но одновременно Иларион вводит тему христианской Руси:
Вѣра бо благодѣтьнаа по всеи земли прострѣся и до нашего языка рускааго доиде.
И законное езеро прѣсъше – евангельскыи же источникъ наводнився и всю землю покрывъ, и до насъ разлиася.
Се бо уже и мы съ всѣми христиаными сла-вимъ Святую Троицу – и Иудеа молчить.
Противопоставление Руси иудеям имеет здесь, однако, не конкретный смысл, но, как и выше, общий, всехристианский: «Христос сла-вимъ бываеть – а иудеи кленоми», «языци при-ведени – а иудеи отриновени». Следующая же тема противопоставления язычества и христианства звучит уже более актуально для Руси:
И уже не идолослужителе зовемся – нъ христиании, не еще безнадежници – нъ уповающе въ жизнь вѣчную.
И уже не капище сътонино съграждаемь – нъ Христовы церкви зиждемь.
...уже не закалаемь бѣсомъ другъ друга – нъ Христос за ны закалаемь бываеть и дробимъ въ жертву Богу и Отьцю.
И уже не жерьтвеныа крове въкушающе, погыбаемь – нъ Христовы пречистыа крове въку-шающе, съпасаемся.
Пустѣ бо и прѣсъхлѣ земли нашей сущи, идольскому зною исушивъши ю́ – вънезаапу потече источникъ евангельскыи, напаая всю землю нашу.
И потыкающемся намъ въ путех погыбели... мо-ляше идолы... – посѣти насъ человѣколюбие Божие.
И уже не послѣдуемь бѣсомъ – нъ ясно сла-вимъ Христа Бога нашего.
Далее следуют еще 8 подобных оппозиций и 15 пророчеств о прославлении Бога всеми народами.
Введя Русь в контекст распространения христианства по всей земле, автор предлагает новую параллель:
Хвалить же похвалныими гласы Римьскаа страна Петра и Паула, имаже вѣроваша въ Исуса Христа, Сына Божиа; Асиа и Ефесъ, и Патмъ Иоанна Богословьца, Индиа Фому, Египетъ Марка – Похвалимъ же и мы, по силѣ нашеи, малыими похвалами великаа и дивнаа сътворьшааго нашего учителя и наставника, великааго кагана нашеа земли Володимера.
Это уже не противопоставление, но сопоставление Владимира, как просветителя Руси, с апостолами, которые были просветителями христианских стран (и в посвященной которым церкви Иларион служил). Параллели и антитезы служат теперь для начала похвалы Владимиру-Василию:
Не въ худѣ бо и невѣдомѣ земли владычьство-ваша – нъ въ Руськѣ, яже вѣдома и слышима есть всѣми четырьми конци земли.
Тогда начатъ мракъ идольскыи от нас отхо-дити – и зорѣ благовѣриа явишася.
Тогда тма бѣсослуганиа погыбе – и слово евангельское землю нашю осиа.
Капища разрушаахуся – и церкви постав-ляахуся.
Идолии съкрушаахуся – и иконы святыих являахуся.
Бѣси пробѣгааху – крестъ грады свящаше.
Ини, видѣвше его, не вѣроваша – ты же, не видѣвъ, вѣрова.
Вѣдущеи бо законъ и пророкы распяша и – ты же, ни закона, ни пророкъ почитавъ, Распятому поклонися.
От общих антитез автор переходит к конкретному сравнению Владимира с Константином Великим (а Ольги – с Еленой):
Подобниче великааго Коньстантина, равно-умне, равнохристолюбче, равночестителю служи-телемь его!
Онъ съ святыими отци Никеискааго Събора закон человѣкомъ полагааше – ты же съ новыи-ми нашими отци епископы сънимаяся чясто, съ многымъ съмѣрениемь съвѣщаваашеся, како въ человѣцѣхъ сихъ ново познавшиихъ Господа за-конъ уставити.
Онъ въ елинѣхъ и римлянѣх царьство Богу покори – ты же в Руси: уже бо и въ онѣхъ и въ насъ Христос царемь зовется.
Онъ съ материю своею Еленою крестъ от Иерусалима принесъша и по всему миру своему раславъша, вѣру утвердиста, – ты же съ бабою твоею Ольгою принесъша крестъ от новааго Иерусалима, Константина града, и сего по всеи земли своеи поставивша, утвердиста вѣру.
Понимая, что столь смелое сравнение может вызвать сомнения у слушателей, Иларион старается подкрепить его перечнем свидетелей благоверия Владимира. Среди них автор называет как воздвигнутую тем Десятинную церковь Богородицы, так и продолжающего его дело и строительство сына Ярослава-Георгия, «не рушаща твоих уставъ – нъ утвержающа», «ни умаляюща твоему благовѣрию положе-ниа – но паче прилагающа, не казяща – нъ учи-няюща». Здесь проповедник незаметно переходит к похвале Ярославу, перечисляя уже его постройки: Св. Софию, другие церкви и сам город Киев, Золотые ворота и храм Благовещения на них, упоминание которого позволяет Илариону закончить этот раздел херетизмами.
Полностью раскрыв тему своей проповеди, Иларион продолжает свое обращение к Владимиру, но усиливает его эффект призывом встать из гроба – стоявшего, очевидно, рядом с проповедником – и увидеть Ярослава, Ирину-Ингигерду, внуков, правнуков и город Киев с его храмами и священным убранством. Затем автор возвращается к похвале Владимиру, опять в виде двух херетизмов с рядом антитез:
Не мертвыа тѣлесы въскрѣшав – нъ душею ны мертвы, умерьшаа недугомь идолослужениа въскрѣсивъ.
Съкорчени бѣхомъ от бѣсовьскыа льсти – и тобою прострохомся и на путь животныи на-ступихомъ.
Слѣпи бѣхомъ сердечныими очима, ослѣплени невидѣниемь, – и тобою прозрѣхомъ на свѣтъ три-солнечьнаго Божьства.
Нѣми бѣхомъ – и тобою проглаголахомъ.
Наконец, Иларион призывает Владимира, «въ владыкахъ апостола», помолиться о своей земле, народе и особенно о сыне Ярославе, завершая «Слово» текстом такой молитвы, чья принадлежность оригинальному тексту памятника вызывает дискуссии (см. выше). Поэтому мы не будем ее анализировать – она почти не содержит древнерусской специфики, кроме общих прошений типа «ратныа прогоня, миръ утверди, страны укроти, глады угобзи, владыкѣ наши огрози странамъ, боляры умудри, грады расили, Церковь твою възрасти» и указания на опасность ересей и, вероятно, ислама – «ни послѣдовахом лъжууму коему пророку, ни учениа еретичьскаа держимъ».
Контекст. Анализ структуры «Слова» ясно выделяет две базовые его идеи. Первая часть текста, посвященная переходу от иудейского закона к благодати, которой обладают христианские народы, имеет скорее теоретический, чем практический характер: никакой актуальной опасности иудейство для Руси середины XI в. не представляло [21, c. 112–113]. Она, однако, важна для актуализации второго тезиса Илариона – о вхождении Руси в число христианских народов благодаря просвещению через князя Владимира, который представлен здесь единственным ее крестителем. Данное утверждение подкрепляется сравнением Владимира с апосто- лами – просветителями христианских стран: Петром и Павлом (Рим), Иоанном Богословом (Асия, Эфес и Патмос), Фомой (Индия) и Марком (Египет). Важно отметить, что Рим и Александрия были в XI в. полностью самостоятельными Церквами-патриархатами, для авторитета которых апостольское основание играло ключевую роль.
В этом смысле примечательно отсутствие в данном списке апостола Андрея, хотя предание об основании им Церкви Византия-Константинополя ко времени произнесения «Слова» уже окончательно утвердилось [21, с. 118, прим. 33]. А ведь проблема апостольского основания кафедры в полемике о праве самостоятельного поставления на нее архиерея поднималась и в середине XI в. [24], и позднее, в 1147 г., при поставлении Клима Смолятича главой св. Климента (ПСРЛ, т. 2, стб. 340–341). Возможно, Иларион сознательно избегал обсуждения этого важного для Константинополя и щекотливого для Руси вопроса, напирая на уподобление Владимира всем апостолам вообще.
Антивизантийские тенденции текста не раз становились предметом дискуссии: в них даже видели указание на его составление накануне русско-византийской войны 1043–1046 гг. [27, c. 11–12]. Действительно, «Слово» упорно молчит о византийских василевсах, в том числе родственниках Владимира, и даже об Анне Багрянородной, зато подчеркивает славу воевавших с империей Игоря и Святослава: «...вънука старааго Игоря, сына же славнааго Святослава, иже въ своа лѣта владычествующе, мужьствомъ же и храборъствомъ прослуша въ странахъ многах, и побѣдами и крѣпостию поминаются нынѣ и словуть. Не въ худѣ бо и невѣдомѣ земли владычьствоваша, нъ въ Руськѣ, яже вѣдома и слышима есть всѣми четырьми конци земли». Впрочем, такое молчание может быть вызвано просто тем, что Ярослав происходил не от Анны. Нигде у Илариона христианские народы не приравниваются и к современному ему «Византийскому содружеству наций» – напротив, среди апостольских «оснований» фигурируют Индия и Египет, а первое место занимает Рим, чья юрисдикция простиралась на всю Западную Европу.
С другой стороны, не просто позитивные, а даже восторженные упоминания
«новааго Иерусалима, Константина града» и «благовѣрьнии земли Гречьскѣ, христолюбиви же и сильнѣ вѣрою», откуда Владимир принял христианство [21, c. 108–109] (хотя и без конкретных деталей) никак не указывают на прямой конфликт Киева и Константинополя в момент создания «Слова». Напротив, здесь подчеркнуто христианское совершенство Византии, которое постиг Владимир: «како единого Бога въ Троици чтуть и кланяются, како въ них дѣются силы и чюдеса и знамениа, како церкви людии исполнены, како веси и гради благовѣрьни вси въ молитвах предстоять, вси Богови прѣстоять». Это утверждение не очень подходит для периода русско-византийского конфликта 1043–1046 годов.
Подтекст . Итак, согласно Илариону, Русь не просто приобщилась к христианской ойкумене, как это показано уже в «Слове на обновление Десятинной церкви» (1039 г.?), но и обладает теми же правами, что и остальные христианские страны. А поскольку Русь Иларион понимает и как народ («Вѣра… и до нашего языка рускааго доиде»), и как государство («Не въ худѣ бо и невѣдомѣ земли владычьствоваша, нъ въ Руськѣ»), то речь идет о ее правах на свою Церковь, созданную по этнополитическому признаку (как в Первом Болгарском царстве). Эти права дает Руси Божья благодать, которая отменяет все остатки мешающего ей закона: «крещение благодатьное обидимо бяаше от обрѣзаниа законьнааго, и не приимаше въ Иеросалимѣ христианьскаа церкви епискупа необрѣзана». Риторический стиль Илариона не позволяет уточнить, что именно он под этим равноправием подразумевал: полную автономию или хотя бы право самостоятельного выбора первоиерарха и создания новых кафедр. Впрочем, такая идея не выражена expressis verbis, очевидно, чтобы не вступать пока в прямой конфликт с Царьградом. В этом смысле выбор Илариона как ее глашатая был вполне расчетлив: с одной стороны, он, как княжеский пресвитер, был, видимо, не подвластен напрямую митрополиту [10], а с другой, в случае отпора греков Ярослав всегда мог сделать вид, что это была частная инициатива: использование сторонних клириков для проповеди «революционных» идей было хорошо известно в Византии 4.
Но кто же был адресатом «Слова»? Из числа живых Иларион упоминает только Ярослава-Георгия, его жену, детей и внуков. Не исключая возможности недовольства славянского клира своим подчинением греческим иерархам, воспринимать «Слово» как побуждение Ярослава к более решительным действиям по приданию самостоятельности Русской Церкви все же сложно: усилением ее позиций и престижа он занимался уже с конца 1020-х гг. (масштабное каменное строительство и фресковые росписи в разных городах, введение славянского богослужения, переписывание славянских книг, учреждение школ, попытки создания местных культов, «христианизация» династии) – за идеями «Слова» стоял, очевидно, сам князь. Торжественная проповедь в Десятинной церкви, тем паче пасхальная, должна была произноситься в присутствии митрополита, но неизвестно, знали ли русский язык митрополиты Фео-пемпт и Иоанн (занимал Киевскую кафедру до 1051 г.) и могли ли они что-то понять из текста Илариона даже в переводе. Однако слова пролога: «Ни къ невѣдущиимъ бо пишемь, нъ прѣизлиха насыштьшемся сладости книж-ныа», подразумевают обращение автора к знатокам, способным оценить его богословские и церковно-политические аргументы, то есть к клирикам Киевской митрополии, которых он пытается убедить в равночестности Русской Церкви всем остальным.
В литературе уже был выделен ряд цитат и аллюзий Илариона на памятники греческой христианской письменности [2; 20; 32]. Он был, по всей видимости, и автором проложного сказания об освящении храма св. Георгия в Киеве, центральный сюжет которого построен на знакомстве с византийским «Сказанием о Великой церкви» [12]. Но и в «Слове» мы можем отыскать аллюзию на знаменитый светский текст – литературную эпитафию императора Никифора II Фоки (963–969), написанную митрополитом Иоанном Милитинским ок. 971 г. в связи с русско-византийской войной 5 (косвенно упомянутой и у Илариона). Эта аллюзия содержится в уникальном обращении Илариона к лежащему во гробе Владимиру (подчеркнуты прямые параллели, а курсивом выделены косвенные).
Восстань же ныне, царь!
Пехоту собери, стрелков и всадников
И войско все свое фаланги и полки,
Ибо идет оружье русское на нас,
К убийству жадно рвутся скифов племена
Твой град – добыча всех племен, которых в страх
Когда-то повергал один лишь образ твой,
Что был начертан у ворот Византия .
Нет! Не останься равнодушным. Камень сбрось ,
Teбя гнетущий. Ты камнями всех зверей
Разноплеменных прогони и на скале
Нам основание незыблемое дай.
Когда ж не хочешь из гробницы ты восстать ,
Подай хоть голос племенам из-под земли,
Быть может, он один их в бегство обратит
Когда ж и это невозможно, то прими
Нас всех в свой гроб, ведь, кроме собственной жены,
Всех победил ты, и у мертвого тебя
Довольно сил, чтоб толпы христиан спасти .
И славныи градъ твои Кыевъ величь-ствомъ, яко вѣнцемь, об-ложилъ, прѣдалъ люди твоа и градъ святыи, всеславнии, скорѣи на помощь христианомъ Святѣи Богородици, еи же и церковь на Великы-ихъ вратѣх създа…
Въстани, о честнаа главо, от гроба твоего !
Въстани , оттряси сонъ !
Нѣси бо умерлъ, нъ спиши до обьщааго всѣмъ въстаниа.
Въстани, нѣси умерлъ!..
Виждь же и градъ , величьством сиающь, виждь церкви цвету-щи, виждь христиань-ство растуще, виждь град , иконами святыихъ освѣщаемь и блиста-ющеся, и тимианомъ обухаемь, и хвалами божественами и пѣнии святыими оглашаемь…
Радуйся, въ владыкахъ апостоле, не мертвыа тѣлесы въскрѣшав , нъ душею ны мертвы, умерьшаа недугомь идолослуже-ниа въскрѣсивъ !..
Помолися о земли своеи и о людех, въ нихъже благовѣрно владычьствова, да съхранить á въ мирѣ и благовѣрии прѣданѣѣмь тобою, и да славится въ нем правовѣрие, и да кленется всяко еретичь-ство, и да съблюдеть я Господь Богъ от всякоа рати и плѣнениа
Смысл обращения к погребенному правителю в «Слове», конечно, иной: не скорбь об умершем монархе-герое, без которого подданные не могут спастись от бед, но радость о деле усопшего государя, которое продол- жают его потомки. В результате у Илариона получилась своеобразная инвектива против василевса и похвала собственным правителям в духе Лиудпранда Кремонского. Неизвестно, поняли ли такой намек греки, даже киевские, но для русских слушателей и читателей это обращение ко Владимиру представляло ясное обоснование программы Ярослава по усилению независимости Руси.
«Слово» имеет еще одно важное церковнополитическое измерение. Здесь впервые на Руси проявилась идея освящения Церковью княжеской власти, которая в ее собственной репрезентации проявляется сравнительно редко. Иларион также не вносит сюда религиозный элемент напрямую (кроме именования Ярослава «благоверным»). Однако у него, опять же в обращении к Владимиру, появляется важная идея назначения Богом князя для справедливого правления: «...сынъ твои Георгии, егоже сътвори Господь намѣстника по тебѣ твоему владычьству , не рушаща твоих уставъ, нъ утвержающа, ни умаляюща твоему благовѣрию положениа, но паче прилагающа, не казяща, нъ учиняюща». К этому добавляется идея вручения Богом князю управления подданными: «Паче же помолися о сынѣ тво-емь, благовѣрнѣмь каганѣ нашемь Георгии, въ мирѣ и въ съдравии пучину житиа прѣплути и въ пристанищи небеснааго завѣтрия пристати, неврѣдно корабль душевны и вѣру съхраньшу, и съ богатеством добрыими дѣлы, безъ блазна же Богомъ даныа ему люди управивьшу». Конечно, тут еще далеко до византийской идеи сакральности монаршей власти, но уже близко к общеевропейской идее христианского правителя, который поставлен Богом управлять подданными и должен укреплять собственную Церковь [29].
Прославление Владимира как крестителя Руси в «Слове» имеет важное значение и для конструирования самого образа князя. Проповедник не называет его напрямую святым, но именует блаженным, причем неоднократно, и подобным св. Константину («Подобниче великааго Коньстантина») и даже апостолом («въ владыкахъ апостоле»). Не мы молимся за Владимира, но он молится за нас: «помолися о земли своеи и о людех, въ нихъже благовѣрно владычьствова… по-молися о сынѣ твоемь…» Так, не претендуя прямо на «канонизацию» Владимира и создание его культа 6, Иларион конструирует образ равноапостольного предка правящей династии. Подобные попытки характерны и для других славянских стран: в Чехии это был культ свв. Людмилы и Вячеслава, уже известный на Руси в то время (и актуальный также для младшего сына Ярослава с этим именем) [17, c. 84–86], а позднее в Сербии – образ св. Стефана Неманьи, основателя «светородной» династии [1]. Равноапостоль-ность отца «освящала» Ярослава и его семью. В такую программу «освящения» династии вписывается и предпринятое в 1044/5 г. открытие и загадочное крещение костей дядьев Ярослава: Ярополка и Олега Святославичей, с целью их захоронения в Десятинной церкви Владимира, игравшей роль династической усыпальницы [28]. В этом смысле показательно молчание «Слова» о Борисе и Глебе [21, c. 74–75], чей культ Ярослав начал формировать лишь в 1050–1051 гг. [8], что позволяет предположить произнесение слова до этого момента. Нельзя исключать, что до конца 1040-х гг. князь еще делал ставку на «беатификацию» своего отца Владимира, чей образ, однако, оказался слишком противоречив для канона святости, а его обращение к «канонизации» Бориса и Глеба было спровоцировано во многом усилением их местного культа в Вышгороде. В пользу попыток прославления Владимира-Василия как святого в середине XI в. говорит и упоминание святых «Василья и Бориса и Глеба» в новгородской берестяной грамоте № 906 третьей четверти XI в. [30, c. 6]), и слова «Памяти и похвалы князю русскому Владимиру» Иакова Мниха (после 1051 г.): «Не дивимся, възлюбленеи, аще чюдес не творить по смерти, мнози бо святии праведнеи не створиша чюдес, но святи суть» [4, c. 320, 322], отражающие сомнения части людей в святости князя. Илариона и Иакова объединяет и образ Владимира как единственного крестителя Руси, на чем первый строит свою идею ее равночестности другим христианским народам. Однако для этого пришлось создать и особый рассказ о крещении самого Владимира.
Недавно нами была предложена иная реконструкция этапов формирования нарративов об этом событии [11], которую вкратце можно описать следующим образом. На самой ранней стадии (рубеж X–XI вв.) крещение киевского князя представлялось условием для заключения его брака с Анной Багрянородной (и даже требованием со стороны императоров) в связи с договором о помощи русского войска против Варды Фоки – эту традицию отражают независимые друг от друга Асохик и Яхъя Антиохийский, а также отчасти Титмар Мерзебургский и русская летопись. На следующей стадии в русской традиции, вероятно, под влиянием корсунских клириков, игравших важную роль до бегства Анастаса Десятинного с Болеславом в 1018 г. (после чего они более вообще не упоминаются), место похода в Малую Азию в нарративе о браке (и отчасти крещении) Владимира занял поход на Корсунь – эта связка событий отразилась в «Своде 1072 г.» («Свод 1060-х гг.» по А.А. Гиппиусу) и (без крещения князя) у Иакова Мниха, однако древняя связь крещения Владимира с его браком в летописи показывает, что традиция эта старше середины XI столетия. Параллельно этому не позднее середины XI в. развилась другая традиция, где крещение Владимира «патриотически» отрывалось от брака с византийской принцессой и похода на Корсунь и появился нарратив о поисках им истинной веры еще до крещения и даже о божественном обращении (у Иакова Мниха и в «Чтении о Борисе и Глебе» Нестора), который отразился у Иакова и в «Слове о законе и благодати», и – в развернутом виде – в последующем летописании, где появляется история испытания вер (ср. вероятный намек Илариона на опасность ислама). Составитель «Свода 1072 г.» («Свода 1060-х гг.»), дополнив эту историю «испытания вер» новыми «христианскими» сюжетами (вставками в рассказ о посольствах и беседой с Философом), соединил ее со старой корсунской версией крещения Владимира, добавив повествование о крещении киевлян (возможно, также более раннего происхождения). «Начальный свод» 1090-х гг. еще сильнее «христианизировал» этот нарратив 1060-х – начала 1070-х гг., дополнив «церковными» вставками, а редактор «Повести временных лет» маргинализировал альтернативные предания о крещении Владимира в Киеве и Василеве.
Получается, что из первоначального нарратива о крещении Владимира два его ключевых элемента – отправление русского войска в Византию (вначале в виде похода в Анатолию, а затем – на Корсунь) и женитьба князя на византийской принцессе – были элиминированы между 1018 г. и 1060-ми гг., то есть как раз при Ярославе. Вместо них были введены мотивы самостоятельного обращения Владимира и собственного поиска им истинной веры, которую он находит в Византии. Впервые они фиксируются именно у Илариона, который, вероятно, и сформировал эту концепцию:
Въсиа разумъ въ сердци его, яко разумѣти суету идольскыи льсти и възыскати единого Бога... Паче же слышано ему бѣ всегда о благовѣрьнии земли Гречьскѣ, христолюбиви же и сильнѣ вѣрою... И си слышавъ, въждела сердцемь, възгорѣ духомъ, яко быти ему христиану и земли его. Еже и бысть.
Уже отсюда, видимо, эти идеи (ср. также сравнение Владимира и Ольги с Константином и Еленой) попали к Иакову Мниху, а уже после смерти Ярослава – в «Свод 1072 г.» («Свод 1060-х гг.»). Но у Иакова, писавшего после 1051 г. (возможно, в рамках той же церковной программы Ярослава), образцом для князя становится не столько далекая Византия, сколько его родная бабка Ольга, а также усилен момент чудесного:
Взиска спасения и прия о бабѣ своей Олзѣ, како шедши къ Царюграду, и прияла бяше святое крещение, и пожи добрѣ предъ Богомъ, всими добрыми дѣлы украсившися, и почи с миромъ о Христѣ Исусѣ и въ вѣрѣ блазѣ. То все слышавъ князь Володимеръ о бабѣ своей Олзѣ, нареченѣй въ святомъ крещении Елене, тоя и житие подража, такоже и святыя царици Елены, матере великаго царя Коньстантина житию ревнуя въ всемъ. И раз-горяшеся Святымъ Духомъ сердце его, хотя святого крещения. Видя же Богъ хотѣние сердца его... просвѣти сердце князю Рускыя земля Володимеру прияти святое крещение.
Причины такой «патриотической» замены очевидны: это желание оторвать крещение Руси и начало Русской Церкви от политической конъюнктуры русско-византийских отношений и стремление заменить старый, «византийско-династический» нарратив новым, прославляющим Владимира Святославича и его наследников как инициаторов христианизации Руси и создателей ее Церкви.
Заключение. Мы не знаем в восточнохристианской средневековой письменности текстов, которые столь упорно подчеркивали бы равные права своей Церкви просто так, вне полемического контекста. Напротив, хорошо известны произведения, где подобные аргументы приводятся в конфликте относительно прав местной Церкви. Прежде всего, это многочисленные произведения, доказывающие как равночестность Константинопольской Церкви Римской, так и древность и апостольское происхождение других кафедр [31]. Новация Илариона в сравнении с ними – это упор не на доказательства древности или канонического равенства местной Церкви (их у него быть просто не могло), а на богословско-экклезиологические аргументы.
С.Ю. Темчин [25] обратил внимание на чуть более поздний грузино-антиохийский конфликт 1057 г., где Георгий Святогорец вынужден был защищать перед антиохийским патриархом право Мцхетского католикосата на самостоятельное избрание и поставление первоиерарха следующими аргументами:
И кто неразумные те умышленники твои или что так неразумным почислил ты род грузинский, правый и невинный? Вот, я, негоднейший и смиреннейший из всех братьев моих, я дам тебе за всех их ответ, дай достать книгу Хождения апостола Андрея и оттуда известишься о искомом вами... Святый владыко, ты говоришь, что-де на престоле главы апостолов Петра сижу, мы же первозванного и брата своего призвавшего – часть и паства, и им обращенные и просвещенные, и один из святых двенадцати апостолов – о Симоне говорю Канани-те – в нашей стране похоронен в Абхазии, которая Никопси называется. Этими святыми апостолами мы просвещены. А как Единого познали мы Бога, уже не отрекались, и никогда в ересь не уклонялся род наш, и всех отступников и еретиков мы анафематствуем и проклинаем. На этом основании православия и на заповедях и проповедях святых тех апостолов мы тверды… Святый владыко, <вы>, которые нас незнающими и легкими видите, а себе мудрыми и тяжкими сделали, было время, что во всей Греции не сыскать было православия, и Иоанн, готский епископ, в Мцхете был рукоположен в епископа, как написано в Великом Синаксаре.
Здесь не только древность местной Церкви, но и, как у Илариона, вся христианская история страны, включая ее свободу от ересей, становится аргументом в пользу церковной самостоятельности. В начале XII в. составитель «Повести временных лет» также введет в текст летописи легенду о посещении апостолом Андреем Руси и благословением места будущего Киева [5].
Еще одну важную параллель идеям Илариона о равночестности восточных славян грекам мы находим в основанном на гомилиях Златоуста «Учительном евангелии» Константина Пресвитера (893/4 г.), которое было составлено в период утверждения самостоятельной Болгарской Церкви: «не грьци бо тъчья обогатиша ся отцьмь симь. нъ и словѣньскыи родъ. мьнимыи и попранъ бысть всѣми» [26, с. 421] 7.
Итак, «Слово о законе и благодати» содержит в себе программу Ярослава по усилению престижа и самостоятельности Русской Церкви. Судя по сумме данных, оно было произнесено в Десятинной церкви между 1046 и 1051 гг., вероятнее всего, 26 марта 1049 года. Составление «Слова» было поручено одному из самых образованных русских людей своего времени – княжескому пресвитеру Илариону: с одной стороны, он не подчинялся напрямую митрополиту и потому, видимо, не мог быть им наказан, а с другой – князь прямо не открывал происхождение своей инициативы. Описав, как эпоху иудейского закона сменила эра христианской благодати, Иларион показывает равное место Руси среди христианских народов благодаря ее просвещению князем Владимиром, который сам пришел к идее креститься. Не называя Владимира напрямую святым, автор повышает его статус через уподобление апостолам и св. Константину Великому, что освящает также его потомков и в первую очередь Ярослава, представленного продолжателем дела отца. Иларион впервые в русской литературе проводит и идею бо-гоустановленности власти князя, уподобляя его подспудно византийскому императору, на которого Ярослав ориентировался в своем строительстве храмов [9] и их украшении (ср. фрески со сценами константинопольских праздников в Св. Софии Киевской). Таким образом, Ярослав, подобно василевсу, получает право вмешиваться и в дела Церкви, что произошло весьма вскоре, в 1051 г., после смерти митрополита Иоанна.
ПРИМЕЧАНИЯ
-
1 Этот факт опровергает предположение А.Н. Ужанкова [25] о произнесении «Слова» в связи с освящением храма Благовещения на Золотых воротах в Киеве. Д.С. Лихачев [16, c. 50–51] считал, что «Слово» было произнесено на хорах Св. Софии Киевской, где имеются фресковые сцены, упомянутые у Илариона, однако сюжетными росписями была покрыта и Десятинная церковь [13].
-
2 Гипотеза А.А. Алексеева [3] о произнесении «Слова» на праздник Рождества Богородицы построена всего лишь на одной цитате.
-
3 Редкое исключение – Л. Мюллер [21, c. 98], который, однако, не привел существенных аргументов в пользу их отдельного создания.
-
4 Ср., например, «Житие Иоанна Готского» (гл. 3), где приехавший по приглашению императрицы Ирины из хазарской Таврики епископ, не имеющий канонического рукоположения, проповедует почитание икон в иконоборческом Константинополе еще до VII Вселенского Собора.
-
5 Далее цитируется текст, приводимый Иоанном Скилицей (Обозрение истории 14, 23).
-
6 Гипотеза А. Поппэ [33] о желании Иларио-на ввести в церковный календарь память князя Владимира под 15 июля не находит подтверждения в тексте.
-
7 Любезно указано Р.Н. Кривко.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей.
Список литературы "Слово о законе и благодати" в контексте русско-византийского конфликта середины XI века
- Адашинская А. А. Функции парного культа Симеона и Савы сербских: от афонского монашества до национальных святых // Европа святых. Социальные, политические и культурные стороны святости в Средние века. СПб.: Алетейя, 2018. С. 177-207.
- Акентьев К. К. «Слово о законе и благодати» Илариона Киевского. Древнейшая версия по списку ГИМ Син. 591 // Истоки и последствия: Византийское наследие на Руси: сб. ст. к 70-летию чл.-кор. РАН И.П. Медведева. СПб.: Византинорос-сика, 2005. С. 116-151. (Византинороссика; 3).
- Алексеев А. А. О времени произнесения «Слова о законе и благодати» митрополита Ила-риона // Труды Отдела древнерусской литературы. 1999. Т. 51. С. 289-291.
- Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1: XI-XII века. СПб.: Наука, 1997. 542 с.
- Виноградов А. Ю. Апостольский авторитет, власть над телом и Рим как арбитр: спор о бане на востоке и западе Европы // Анатомия власти: государи и подданные в Европе в Средние века и Новое время. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2021. С. 281-296.
- Виноградов А. Ю. О дате строительства, украшения и освящения Св. Софии Киевской // Лазаревские чтения 2021. М.: КДУ 2024. С. 28-43.
- Виноградов А. Ю. О праве избрания митрополита Киевского // Polystoria: Митрополиты, мудрецы, переводчики в средневековой Европе. М.: Издат. дом НИУ ВШЭ, 2024. С. 48-67.
- Виноградов А. Ю. Особенности борисоглебских торжеств в свете византийской традиции // Slovene. 2012. Т. 1. № 2. С. 117-134.
- Виноградов А. Ю. Происхождение и судьба византийских строителей Владимира Святославича и его сыновей: «константинопольское» и «неконстантинопольское» в зодчестве Руси конца Х -середины XI века // Искусство византийского мира 2: сб. ст. памяти О. С. Поповой. М.: Гос. ин-т искусствознания, 2023. С. 38-69.
- Виноградов А. Ю. Роль архиепископа Нифонта в новгородских событиях 1136 г. // Slovene. 2022. Т. 11. С. 472-486.
- Виноградов А. Ю. Роль брака в формировании преданий о крещении Владимира Святославича // Восточная Европа в древности и средневековье. 2024. № 36. С. 30-35.
- Виноградов А. Ю., Гиппиус А. А., Кизюке-вич Н. А. Надпись на плинфе из Гродно (Пс 45: 6) в контексте византийско-русских эпиграфических связей // Slovene. 2020. Т. 9. № 1. С. 412-422.
- Виноградова Е. А. О датировке фресок Десятинной церкви в Киеве // Искусство византийского мира 2. Сборник статей памяти О. С. Поповой. М.: Гос. ин-т искусствознания, 2023. С. 70-90.
- Гиппиус А. А. К прочтению надписи № 1541 Софии Киевской // Восточная Европа в древности и средневековье. XXVIII Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто. Москва, 20-22 апреля 2016. M.: Ин-т всеобщ. истории РАН, 2016. С. 79-81.
- Гиппиус А. А. Несколько конъектур к «Слову на обновление Десятинной церкви» (к реконструкции древнейшей русской гомилии) // У истоков и источников: на международных и междисциплинарных путях. Юбилейный сборник в честь Александра Васильевича Назаренко. М.: Ин-т рос. истории РАН; Центр гуманит. инициатив, 2018. С. 90-102.
- Лихачев Д. С. «Слово о законе и благодати» Илариона // Альманах библиофила. 1989. Вып. 26. С. 45-55.
- Лосева О. В. Русские месяцесловы XI-XIV вв. М.: Памятники ист. мысли, 2001. 420 с.
- Молдован А. М. Молитва в структуре Синодального списка сочинений Илариона // Slovene. 2018. Т. 7. С. 8-26.
- Молдован А. М. «Слово о законе и благодати» Илариона. Киев: Наукова думка, 1984. 238 с.
- Молдован А. М., Юрченко А. И. «Слово о законе и благодати» Илариона и «Большой Апологетик» патриарха Никифора // Герменевтика древнерусской литературы. Сборник 1: XI-XVI вв. М.: Тип. М-ва культуры СССР, 1981. С. 5-19.
- Мюллер Л. Понять Россию: Историко-культурные исследования. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 432 с.
- Назаренко А. В. «Слово на обновление Десятинной церкви», или к истории почитания святителя Климента Римского в Древней Руси. М.; Брюссель: Ассоциация Святой Троицы Московского Патриархата, Свято-Екатерининский мужской монастырь, 2013. 223 с.
- Розов Н. Н. Синодальный список сочинений Илариона - русского писателя XI в. // Slavia. 1963. T. 32. P. 141-175.
- Темчин С. Ю. О реакции Константинополя на поставление Киевского митрополита Илариона // Именослов. История языка. История культуры. СПб.: Алетейя, 2010. С. 180-192. (Труды Центра славяно-германских исследований; 1).
- Темчин С. Ю. Поставление киевского митрополита Илариона в свете грузинского Жития Георгия Святогорца // Bibel, Liturgie und Frömmigkeit in der Slavia Byzantina: Festgabe für Hans Rothe zum 80. Geburtstag. München; Berlin: Peter Lang, 2009. S. 345-358. (Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe; 3).
- Тихова М. Старобългарското учително евангелие на Константин Преславски. Freiburg: Weiher, 2012. XCVII, 474, [10] с. (Monumenta linguae slavicae dialecti veteris; 58).
- Ужанков А. Н. «Слово о законе и благодати» и другие творения митрополита Илариона Киевского. М.: Академика, 2013. 350 с.
- Успенский Ф. Б. Крещение костей Олега и Ярополка в свете русско-скандинавских культурных взаимосвязей // Норна у источника Судьбы: сб. ст. в честь Елены Александровны Мельниковой. М.: Индрик, 2001. С. 407-414.
- Чичуров И. С. Политическая идеология средневековья (Византия и Русь). М.: Наука, 1991. 176 с.
- Янин В. Л., Зализняк А. А. Берестяные грамоты из раскопок 1999 года // Вопросы языкознания. 2000. № 2. С. 3-14.
- Brandes W. Apostel Andreas vs. Apostel Petrus? Rechtsräume und Apostolizität // Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte. 2015. Bd. 23. S. 120-150.
- Müller L. Des Metropoliten Hilarion Lobrede auf Vladimir den Heiligen und Glaubensbekenntnis. Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1962. 229 S.
- Poppe A. [Ch.] VIII. The Sainthood of Vladimir the Great: Veneration in-the-Making // Christian Russia in the Making. Aldershot, Ashgate/Variorum, 2007. P. 1-52.
- Ziffer G. The Shadow and the Truth: On the Textual Tradition of the Sermon on Law and Grace Attributed to Metropolitan Hilarion // Harvard Ukrainian Studies. 2007. Vol. 29, No. 1-4. P. 19-30.