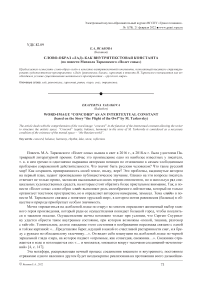Слово-образ «лад» как внутритекстовая константа (по повести Михаила Тарковского «Полет совы»)
Автор: Ясакова Екатерина Александровна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 1 (78), 2022 года.
Бесплатный доступ
Предлагается осмыслить слово-образ «лад» в качестве внутритекстовой константы, позволяющей писателю структурировать художественное пространство. «Лад» (равновесие, баланс, гармония) в повести М. Тарковского понимается как необходимое условие существования ментального пространства - «русского мира».
Лад, равновесие, гармония, ритм, озеро, снег, отражение
Короткий адрес: https://sciup.org/148324018
IDR: 148324018 | УДК: 82.09
Текст научной статьи Слово-образ «лад» как внутритекстовая константа (по повести Михаила Тарковского «Полет совы»)
Мечта «прокатиться на долбленой лодке по озеру» во многом определяет жизненный выбор главного героя произведения, который ради ее осуществления покидает большой город, чтобы поселиться в таежном поселке. Осуществление мечты возможно только при условии, что Сергею Скурихи-ну удастся обрести такое внутреннее состояние, при котором возможны «покой, тишина, разговор с тайгой». Томительное, долгое ожидание этого состояния в воображении персонажа связано с одной и той же картиной: «…Представляю берег, идущий в какой-то счастливой растерянности снег, и я бреду с ружьем по обледенелому галечнику…». Он видит себя плывущим на долбленой лодке по черной зеркальной глади озера, на которое падают «огромные, как созвездия, снежинки…». Снежинки отражаются в воде и поглощаются ею: «… и множатся, множатся вокруг тысячами соединений-исчезновений» [4, с. 147].
Эта метафора, раскрывающая вечный процесс соединения внешнего и внутреннего, постоянное отражение одного явления в другом будет неоднократно реализована на протяжении всего дальнейше- го повествования. Такие превращения характерны не только для мира природы, но и для мира людей. Так, молодой учитель Сергей Иванович должен еще привыкнуть к своему новому «отражению» – жителю поселка Сереже, а «мокрая, снежная, ветреная» деревенская жизнь отражается, «обхватывает, облегает, пронзает» жизнь потаенную, которая скрытно от посторонних глаз течет в его душе. Постепенно у Сергея Скурихина появляется чувство родства с жителями поселка, предки которых от века жили на берегу Енисея, ходили по пояс в снегу таежными тропами. У него так же горит от ветра и мороза лицо, и так же скрипит под ногами снег… Герой повести шаг за шагом приближается к осуществлению своей мечты – прокатиться по озеру на долбленой лодке-ветке, которая требует умения балансировать.
Герой придает особый смысл своему походу на таежное озеро. Здесь для него нет мелочей ни в одежде, ни в снаряжении. Однако, главное – все же душевное равновесие, порядок и согласие – « лад » (курсив наш. – Е.Я.). Это слово-образ в дальнейшем будет использовано автором многократно.
С того момента, как Сережа поставил ветку на воду, все вокруг преобразилось и приобрело особый смысл, даже капелька воды – «алмазная бусинка» в маленькой трещине на носу лодки. Герой старается уловить ритм в окружающем мире, подчинить свои действия « ладу », его законам. Устанавливая равновесие, Сергей чрезвычайно внимателен и сосредоточен, он напрягает все чувства и использует все приобретенные ранее знания и навыки.
Постепенно между героем, лодкой, водой, землей и небом устанавливается органическая связь («лад» ). Характерно, что для точного выражения этой связи в тексте используются речевые обороты из области физиологии: «И к Сереже прилило какое-то кишошное (курсив наш. – Е.Я.) наслаждение, чувство мышечного слияния (курсив наш. – Е.Я.) с текучей стихией, и сладостные жилы потянулись из-под ложечки к темной воде» [4, с. 271]. Сережа в этот момент наделен таким сверхвиде-нием, сверхзнанием и сверхсилой, что был способен успокоить пошатнувшуюся землю и « лад но уравнять с ней лодку… и если надо – он и до горизонта свяжет-уберет болтанку своим сухожильным хватом» [Там же, с 272].
Гармония, установившаяся в итоге, осмысляется автором как неземная. Этому впечатлению способствует ряд деталей, связанных с представлениями лирического героя о счастье: «Все было прекрасно и хотелось плыть и плыть в этот лад , и не хватало только снега, медленно падающего с неба. Это были счастливые раздумья» [4, с. 273]. Однако именно в эти мгновения приходит мысль о том, что помимо нашего желания, даже подкрепленного всеми физическими и душевными силами, есть еще нечто, чему должен подчиниться человек.
Картина скользящей по озерной глади лодки потрясает своей художественной выразительностью, лирической мощью. Нос лодки напоминает Сереже «луковку храма», а само движение происходит уже как бы не по воде, а по небу. Мгновение перерождается в вечность, как перерождаются, одновременно оставаясь собой, капельки воды, соприкаснувшиеся с озером. И герой породнился с ними, почувствовав их пронзительную космическую чистоту, позволив соприкоснуться каплям воды со своим телом.
Пространство, в котором оказался герой, было так огромно, что ему пришлось призвать на помощь внутреннее зрение, закрыть глаза, чтобы в полной мере «впитать одушевленность и холодящее дыхание простора» [Там же]. И как награда, «как милость, пошел с неба редкий и очень крупный снег». Крупные, похожие на большие звезды хлопья снега, тихо летящие вниз, зримо подтверждают установившийся « лад », т. к. связывают два мира – земной и небесный.
В это время на озеро садятся утки, спасающиеся от орлана, и Сергей разрушает гармонию, теряет равновесие и оказывается в воде из-за охватившего его охотничьего азарта: «Сереже хотелось добить утку, чтоб не мучилась, да и просто ощутить в руке добычу…». Однако, даже оказавшись по пояс в воде, Сергей не хочет признавать поражение, все в нем протестует против этого: «При всей дикости происходящего не уходило чувство, что все исправимо, что можно вернуть то прекрасное, которое он так глупо и просто не оправдал».
Здесь ключевое слово – «не оправдал». Внезапно налетевший шквал, вдруг народившаяся волна разрушают « лад ». Это расплата за минутную самоуверенность, тщеславие, чувство превосходства человека над миром, открывшимся перед ним в изумительной нежности и беззащитности.
Вода вмиг превратилась в злую, бесцеремонную, жестокую, бездушную стихию, схватка с которой была предопределена. Сережа окончательно теряет равновесие: нелепо и беспорядочно барахтается в воде. Автор в этой сцене использует лексику, которая подчеркивает напряженность смертельной схватки. Теперь вода «с ножевой бесцеремонностью лезла под мышки», одежда и «удобные вещи» тянули на дно, а петля от фотоаппарата затягивалась на шее. В тексте используются контекстные синонимы «тянула», «лезла», «топила». А поведение героя подчёркивается при помощи неоднократно повторяемого глагола «барахтался» и слов «судорожно», «беспорядочно», «пугающе». Человек быстро терял силы, погружаясь в толщу «холодцовой» воды. Утраченный « лад » грозил обернуться гибелью.
Автор использует развернутые метафоры, которые подчеркивают напряженность поединка со смертью. Одна из них содержит синекдоху: человек – рот («И только огромный рот дыхательной судорогой цеплялся за воздух…); другая метафора является двойной: человек – сердце, сердце – «биение поршня в цилиндре, когда поддали топлива». Автор обращает внимание, что в мгновения, когда в мире нарушается равновесие, становится важнее физическое, телесное, материальное («Отчаянная борьба материй. Рук, легких, воды, льда – они главный смысл, а он при них добавкой и ничего не значит…»). Однако исход поединка решает другое – чудесным образом оказавшийся поблизости мальчик со своим верным псом. Семиклассник Коля Ромашов – достойный сын своего отца-охотника, для него тайга, Енисей, озеро – тот «русский мир», то родное, что досталось по наследству от предков. Не случайно именно он вновь возвращает « лад » в мироздание. Не зря человек «… карабкался и соскальзывал с куска сырого неба (курсив наш. – Е.Я.), за который держался, как за лаз…». И в это мгновение стих шквал, «и медленно стал падать снег. Громадные снежинки летели на черную воду, и мысли-ощущения, говорили, что это тот снег, которого он ждал» [4, с. 277].
Человек не может только созерцать, он должен подчиняться движению жизни, действовать, «и в этой безостановочности, неутолимости была та же справедливость, что и в полнейшем покое». Правильное, разумное движение не разрушает « лад », но иногда одно нечаянное, непродуманное, спонтанное действие может обернуться катастрофой для человека, страны и даже всего мироустройства. Эта мысль не нова в мировой и русской литературе, но М. Тарковский находит новые художественные аргументы, чтобы ее выразить.
В последней главе раскрывается смысл названия произведения – «Полет совы». Выпавший снег и попавшая в тенета полярная сова – эти события связаны в тексте. Птица, запутавшаяся в сети, рождает у лирического героя чувство умиления и сострадания. Спасая сову, Сережа восстанавливает равновесие в мире. Полярная сова – совершенное природное создание, хрупкое, невесомое, воздушное, «прибор для опоры о небо». Человек освобождает ее и подбрасывает прямо в прекрасную сизо-синюю высь, и она совпадает с нею, потому что небо – это ее стихия, ее Родина.
В заключительных главах повести образ «лада» связан с темой Божьего промысла. В тот момент, когда пошел снег, исчезло ощущение груза, ледяной обнаженности и сковывающего холода. Человек не в силах установить « лад » в мироздании. Но он может помочь в этом своей молитвой. «Если есть вера. И земля, за которую больно». «Пресвятая Богородица, доживу ль до Покрова Твоего?» – молится заглянувший туда (курсив наш. – Е.Я.) Сережа.
М. Тарковский в своем творчестве продолжает «великий подвиг», которые несли «наши поэты-прозаики, подобные Чехову». Эти слова, как нельзя лучше, характеризуют творческую манеру нашего современного писателя, который продолжает традицию своего великого предшественника, а также Бунина, Паустовского и других создателей лирической прозы ХХ столетия. И к нему в полной мере можно отнести и другие слова М.М. Пришвина, размышлявшего о природе своего дара: «Мост от поэзии в жизнь – это благоговейный ритм, и отсюда возникает удивление. Но бойся, поэт, делать себе из этого правило и ему подчиняться: ты слушайся только данного тебе музыкального ритма и старайся в согласии с ним расположить свою жизнь» [Там же, с. 391].
Список литературы Слово-образ «лад» как внутритекстовая константа (по повести Михаила Тарковского «Полет совы»)
- Вальянов Н.А. Запад VS Восток: проблема диалога в повести М. А. Тарковского "Полет совы" // Филологические открытия. 2018. № 6. С. 32-38.
- Жиндеева Е.А., Мартынова Е. А., Чванова А.В. Лейтмотив ка внутренняя константа авторского понимания происходящего и читательская рефлексия от узнанного // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2013. № 3. С. 249-251.
- Леонов И.С., Корепанова В.А. Поэтика православной прозы XXI века: моногр. Ярославль: Ремдер, 2011.
- Пришвин М.М. Сказка о правде. М.: Молодая гвардия, 1973.
- Тарковский М.А. Енисей, отпусти!: рассказы, повести, очерки. М.: Вече, 2020.