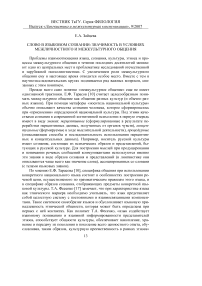Слово в языковом сознании: значимость в условиях межличностного и межкультурного общения
Автор: Зайцева Елена Анатольевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 9, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120467
IDR: 146120467
Текст статьи Слово в языковом сознании: значимость в условиях межличностного и межкультурного общения
По мнению Е.Ф. Тарасова [10], специфика общения при использовании конкретного национального языка состоит в особенностях построения речевой цепи, осуществляемого по грамматическим правилам этого языка, и в специфике образов сознания, отображающих предметы конкретной языковой культуры. Т.А. Фесенко [17] замечает, что при характеристике языка как этнического маркера необходимо учитывать, что язык представляет собой целостную систему с постоянными и взаимосвязанными компонентами. Такое системное своеобразие языков и обусловливает языковую принадлежность этнической общности, которая может быть определена при первых с ней контактах. Как полагает Т.А. Фесенко, «язык содействует взаимному пониманию и взаимной информированности представителей этноса, способствует общности культуры, обеспечивает накопление, хранение и передачу из поколения в поколение всего ценностного опыта, обусловливая, таким образом, культурную преемственность в рамках этноса»
[17: 119]. Т.е. для достижения взаимопонимания коммуникантам необходимо обладать общностью знаний об используемом языке и общностью знаний о мире в форме образов сознания. Следовательно, причиной неизбежного непонимания при межкультурном общении будет служить несовпадение этих образов у носителей разных языков, т.е. различие национальных сознаний коммуникантов.
Следует в то же время подчеркнуть, что при особом внимании к взаимопониманию при межъязыковом / межкультурном общении пока что из поля зрения исследователей выпадает вопрос: действительно ли вызываемые одними и теми же словами образы сознания одинаковы у всех носителей некоторого языка и соответствующей культуры? Иными словами, при обсуждении проблем межкультурного общения обычно исходят из языкового сознания носителей языка «вообще», «в целом», однако можно предположить, что слова могут различаться по степени их освоенности отдельными людьми; соответственно образы сознания в пределах одной культуры также могут несколько различаться. Иначе говоря, несовпадение образов сознания у носителей одного языка может приводить к затруднениям при межличностном общении.
Словосочетание «языковое сознание» в последние годы активно применяется в психолингвистических работах и используется для обозначения тематики психолингвистических симпозиумов и конференций, а также сборников научных трудов (см., например, [19–25]). Обращаясь к работам разных ученых, мы обнаруживаем, что термин «языковое сознание» понимается далеко не однозначно. Этот факт говорит о том, что понятие, скрытое за ним, расплывчато и влечет за собой широкий круг вопросов и проблем.
Такой неоднозначности способствует сам термин, представляя собой сочетание слов, относящихся к различным, хоть и сближающимся областям: психологии и лингвистике. И, как полагают многие ученые, среди которых Е.Ф. Тарасов, «главное в этой дихотомии “сознание и язык”, естественно сознание» [11: 26].
Но и понятие сознания не находит однозначно признанной трактовки. Например, согласно С.Л. Рубинштейну [6], сознание – это психическая деятельность, состоящая в рефлексии мира и самого себя, а «единицей» сознательного действия является целостный акт отражения объекта субъектом, включающий единство двух компонентов: знания и отношения. По А.Н. Леонтьеву [4], сознание – это открывающаяся субъекту картина мира, в которую включен он сам, его действия и состояния. Образы сознания, по мнению А.Н. Леонтьева, как совокупность перцептивных и концептуальных знаний личности об объекте реального мира для своего ментального существования у личности и, в первую очередь, в обществе требуют ов-нешнений, доступных для стороннего наблюдателя. Эти овнешнения могут быть предметами, действиями, словами, которые А.Н. Леонтьев также квалифицирует как предметы. А.Н. Леонтьев развил и обосновал идею об ос-
___Выпуск « Лингвистика и межкультурная коммуникация », 9/2007___ новополагающем значении предметной деятельности в развитии сознания. По его мнению, основной характеристикой деятельности является ее предметность. Образ возникает в условиях активной ориентировки субъекта в предметной ситуации; образ несет в себе ту систему объективных отношений, в которых существует отражаемый им предмет; образ субъективно обусловлен, он зависит от потребностей, мотивов, установок, эмоций; формирование и развитие образа осуществляется посредством важнейших психических процессов (ощущение, восприятие, память, воображение, мышление), реализующих сознание как осмысленное отражение мира.
Тейяр де Шарден [12] наделяет сознание такими качествами, как способность мыслить, творить, производить ментальные операции абстрагирования, обобщения и рефлексировать.
Н.В. Дмитрюк подчеркивает, что «сознание как форма отражения мира существует и имеет смысл только в обществе, и как общественный феномен (являясь социально опосредованным отражением действительности) сознание осуществляется человеком, является продуктом деятельности его мозга. В процессе исторического развития общества формирующиеся идеи, взгляды, отношения складываются и существуют в сознании и представлении конкретных людей как свойство индивидуальной психики. Вместе с тем общественное сознание, складываясь из суммы представлений конкретных индивидов, способно так или иначе влиять на психическое развитие индивида, на формирование его мировоззрения, субъективноличностных и социальных установок, то есть его индивидуального сознания в целом» [1: 21–22].
Т.Н. Ушакова обобщает: «с сознанием связываются высшие формы психического функционирования: способность к мысли, разумности, творчеству, рефлексии, способность понимать скрытые свойства мира, вырабатывать абстрактные отвлеченные и обобщенные представления, формировать моральные понятия, нести ответственность за свои действия, способность осуществлять масштабные действия с привлечением значительных природных и человеческих ресурсов» [15: 15]. Полагая, что одна из основных функций языкового сознания – выражение себя вовне и принятие на себя языковых воздействий, Т.Н. Ушакова делает вывод, что «языковое сознание» равнозначно «речевому сознанию». Рассматривая речевое сознание как вид языкового сознания, Т.Н. Ушакова [15; 16] говорит о его существовании в жизни, отмечая, что любое состояние нашего сознания с той или иной степенью совершенства подлежит вербальному выражению. Это и наша бытовая речь, и произведения писателей, поэтов, литераторов, ученых, философов. Работа профессионалов слова (а мы добавим: и непрофессионалов) состоит в том, чтобы выразить в слове свое понимание, мысль, чувство, т.е. состояние сознания. Сознание людей, бесспорно, и на себе испытывает словесное воздействие. Т.А. Фесенко [18] включает в языковое сознание лингвокогнитивную компетенцию индивида, обеспечивающую стратегию поиска оптимальных вариантов вербализации, а также этнокуль- турно маркированную ассоциативную компетенцию носителя языка, благодаря которой осуществляется ассоциирование вербального материала с фрагментом реального мира и коммуникативной ситуацией.
И.А. Стернин [9] предлагает разграничивать языковое, коммуникативное и когнитивное сознание, и, соответственно, выделяет три возможных уровня их исследования: традиционное лингвистическое, психолингвистическое и нейролингвистическое описание. Языковое сознание понимается исследователем как совокупность психических механизмов, «часть сознания», обеспечивающая процесс речевой деятельности индивида. В этом случае исключается интегративная функция слова как овнешнителя вер-бально-авербальных образов сознания и практически исключается детерминирующая роль деятельности по отношению к порожденному ею общению и сознанию.
Языковое сознание в условиях глобализации рассматривают многие ученые (см., например, [5; 7; 13]). Н.В. Уфимцева [14], также рассматривающая языковое сознание в условиях глобализации, отмечает, что глобализация ведет к устранению культурного многообразия мира. Н.В. Уфимцева основывается на экспериментальных исследованиях А.Г. Сонина [8], доказавшего, что в современной культуре вербальный знак постепенно утрачивает свои позиции как главное средство передачи информации и заменяется полимодальным текстом, в котором доминантным является изображение, служащее заданным контекстом для восприятия слова.
Таким образом, вслед за А.А. Залевской [2] отметим, что термин «языковое сознание» довольно часто используют как синонимичный терминам « речевое сознание» и «языковое мышление »; под языковым сознанием нередко понимают то, что точнее следовало бы называть « метаязыковым сознанием», и т.д. Перечисленные термины, по мнению А.А. Залевской, используются один вместо другого и из стилистических побуждений, хотя их следовало бы четко разграничивать, поскольку каждый из них не только предполагает определенный ракурс рассмотрения того, что получает выход на уровень актуального сознавания, но может также быть связанным с той или иной научной концепцией. В связи с этим А.А. Залевская [2] предлагает, прежде всего, исходить из того, что речемышление протекает на различных уровнях осознаваемости. В работах А.Н. Леонтьева и А.А. Леонтьева разграничиваются четыре уровня осознаваемости: актуальное сознава-ние, сознательный контроль, бессознательный контроль и неосознаваемое; имеет место постоянная динамика переходов между этими уровнями.
В процессах речемышления и общения особую роль играет переживание понятности, достаточными для которого могут быть перцептивно-когнитивно-аффективные опоры, не находящие выхода в вербализацию и осознавание, но мгновенно «подпирающие» понимание. А.А. Залевская [3: 31] подчеркивает, что переживание понятности и вербальное описание того, что именно понято, – разные процессы . Принципиальное различие между ними обусловливается, по мнению исследователя, следующим. Для
___Выпуск « Лингвистика и межкультурная коммуникация », 9/2007___ акта мгновенного переживания понимания достаточен выход на табло сознания очень ёмких единиц внутренней речи, понятной « для себя » за счет многомерности образов сознания и их включенности в индивидуальный образ мира. Для вербального описания понятого, особенно если оно сразу ориентировано «для других», необходимо от континуальности, многомерности, объемности, предметности, эмоционально-оценочной окрашенности образов сознания в их множественных связях и отношениях перейти к использованию дискретных языковых единиц , к тому же комбинируемых по определенным прескриптивным правилам. Каждому известно, что даже когда более или менее развернутое вербальное описание понятого делается «для самого себя», мы неоднократно уточняем, детализируем, пересматриваем эти описания. Такие процессы надстраиваются над первичным по своей функции актом переживания понимания и включают рефлексию и интерпретацию с постоянным контролем того, насколько удачно дискретные языковые единицы способны отобразить многомерный континуум понятого или задуманного.
Т.Н. Ушакова [15] констатирует, что обширные области функционирования языкового сознания можно характеризовать как динамическую форму его проявления, и обозначает еще одну область его проявления, а именно – рождение в психике субъекта из совокупности действия языка, речи и сознания новых структурных образований, описываемых с использованием различной терминологии: языкового тезауруса, вербальных сетей, семантических полей.
Е.Ф. Тарасов [11], пытаясь дать ответ на вопрос «где же возникают новые знания?», замечает, что новые знания могут возникать при формировании образов сознания в предметной деятельности, в ходе которой субъект деятельности воздействует на предметы-объекты. Они реагируют на это воздействие и реакции позволяют субъекту судить о свойствах объектов, языковые знаки выполняют функцию носителя знаний. Т.е. язык выполняет роль лишь средства организации фиксации, переработки и хранения знаний, полученных в предметной деятельности [11: 26-27]. Сами тела знаков никаких знаний существенных для общения не содержат, для каждого человека предмет является знаком только потому, что с ним ассоциированы знания, которые хранятся только в сознании человека и больше нигде. Последнее высказывание хорошо согласуется с замечанием А.А. За-левской, что в публикациях последнего десятилетия все чаще высказываются сомнения в том, что язык может рассматриваться как самодостаточная сущность. Вместо этого звучат предположения, что язык паразитирует на невербальных средствах репрезентации мира у человека; он не может ничего значить сам по себе, без опоры на перцептивные и когнитивные процессы и на эмоционально-оценочные переживания индивида. В этой связи важно прежде всего подчеркнуть, что переход на антропоцентрическую парадигму (если он не просто декларируется, а действительно реализуется) несомненно требует рассмотрения языка как одного из психических
___Выпуск « Лингвистика и межкультурная коммуникация », 9/2007___ процессов, который может протекать только во взаимодействии с другими психическими процессами. В свете сказанного языковое произведение оказывается ключом к множеству далеко не всегда поддающихся вербализации продуктов различных процессов переработки индивидом его разностороннего опыта взаимодействия с окружающим миром [2: 37]. Важная роль уделяется в этом случае слову.
Итак, слово выступает в качестве средства фиксации продуктов различных процессов переработки индивидом своего опыта взаимодействия с окружающим миром. А.А. Залевская [2] разграничивает две ситуации: слово для самого себя и для общения с окружающими. Для индивида слово является средством выявления некоторого фрагмента его собственного опыта, имеющего смысл в текущий момент. Этот принцип «сиюминутности» актуализируется в определенном ракурсе, который варьируется, обусловливая глубину, яркость множественных объектов, качеств, признаков, переживаний, связей, отношений, вызванных исходным импульсом – словом .