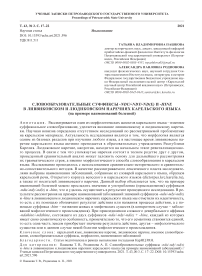Словообразовательные суффиксы -ndu/-ndy/-nd(e) и -hine в ливвиковском и людиковском наречиях карельского языка (на примере наименований болезней)
Автор: Пашкова Т.В., Родионова А.П.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 3 т.43, 2021 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается один из морфологических аспектов карельского языка - именное суффиксальное словообразование, уделяется внимание ливвиковскому и людиковскому наречиям. Научная новизна определена отсутствием исследований по рассматриваемой проблематике на карельском материале. Актуальность исследования видится в том, что морфология является одним из базовых разделов при изучении любого языка, а в настоящее время ливвиковское наречие карельского языка активно преподается в образовательных учреждениях Республики Карелия. Людиковское наречие, напротив, находится на начальном этапе ревитализационно-го процесса. В связи с тем что упомянутые наречия состоят в тесном родстве друг с другом, проведенный сравнительный анализ может заложить основу для дальнейшего рассмотрения их грамматического строя, а именно морфологического способа словообразования в карельском языке. Исследование проводилось с использованием сравнительно-исторического и сравнительно-сопоставительного методов. В качестве рассматриваемого лексического пласта исследователями выбраны наименования заболеваний, собранные из словарей карельского языка, образцов карельской речи, Открытого корпуса вепсского и карельского языков (dictorpus.krc.karelia.ru), а также от носителей ливвиковского наречия. Данный выбор объясняется тем, что на примере именований болезней можно проследить значение и употребление (присоединение) суффиксов -ndu/-ndy/-nd(e) и -hine, что и удалось осуществить в результате проведенного исследования. В результате рассмотрения на примере наименований заболеваний значений суффиксов -ndu/-ndy/-nd(e) и -hine в ливвиковском и людиковском наречиях карельского языка мы отметили их идентичность, то есть с их помощью обозначают результат действия или названия процесса действия, а с помощью суффикса -hine - названия живых и мифических существ (в конкретном случае - заболеваний мифологического происхождения). При присоединении сложного девербального аффикса -ndahine/-ndtihine, состоящего из двух суффиксов -ndu/-ndy/-nd(e) + -hine, каждый из которых имеет свою семантическую особенность, примечательно то, что его семантика становится единой, то есть одна часть лексем приобретает значение результата действия, другая - мифологического существа или в данном случае некой болезни мифологического происхождения.
Карельский язык, ливвиковское наречие, людиковское наречие, именное словообразование, словообразовательные суффиксы, морфология, наименования заболеваний
Короткий адрес: https://sciup.org/147227337
IDR: 147227337 | УДК: 811.511 | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.596
Текст научной статьи Словообразовательные суффиксы -ndu/-ndy/-nd(e) и -hine в ливвиковском и людиковском наречиях карельского языка (на примере наименований болезней)
Словарный фонд любого языка непрерывно меняется: устаревшие слова уходят из активного обихода, а на их место приходят новые. Этот процесс непрерывен. Пополнение лексического состава происходит разными путями: заимствование из других языков, образование новых лексем на базе уже бытующего в языке словарного материала, появление новых значений слов и др. Исследователи отмечают, что морфологический способ словообразования в карельском языке является достаточно продуктивным [4], [5]. Посредством суффиксации в языке появляются новые имена существительные, имена прилагательные, глаголы, наречия. Присоединенный к коренному слову суффикс может изменить его значение (в данном случае речь идет о словообразовании), а может только придать ему определенный оттенок (в данном случае речь идет о формообразовании) [5: 123].
К проблеме именного суффиксального образования в карельском языке обращались некоторые ученые (см., напр.: [4], [5], [14], [15] и др.), однако глубокого исследования этого раздела морфологии не проводилось, в отличие от фонетики карельского языка, а также других разделов морфологии, которые достаточно хорошо изучены (синтаксис карельского языка также слабо изучен) (см., напр.1: [3], [6], [7], [8], [9], [10], [11]). На материале собственно карельского наречия (северно-карельских диалектов) к данной проблеме обращался П. М. Зайков [4], [17]. В грамматике тверского карельского новописьменного языка И. П. Новак представлены основные правила и нормы некоторых грамматических аспектов, включая морфологический способ образования имен [5]. О девербальных и деноминальных именах в ливвиковском наречии карельского языка упоминается в учебных пособиях и учебниках Л. Ф. Маркиановой [14], [15], а также в некоторых работах финляндских исследователей [12], [16]. Суффиксальное образование в галлезерском диалекте людиковского наречия карельского языка изложено только в работе П. Виртаранта [19].
***
В рамках данного исследования мы обратимся к морфологическому способу образованию имен, а именно имен существительных, акцентируя внимание на двух суффиксах: -ndu (и его фонетических вариациях) и -hine в контексте наименования заболеваний в ливвиковском и людиковском наречиях карельского языка.
В научных и учебных изданиях значение суффиксов -ndu/-ndy в ливвиковском и -nd(e) в лю-диковском наречиях определено как результат действия или название процесса действия [2: 314], [15: 56–57], [19: 51]. По мнению Д. В. Бубриха, эти суффиксы являются сложными по происхождению и не поддаются должному анализу [1: 117]. Однако Л. Хакулинен отмечает, что по происхождению суффикс -nta/-ntä, очевидно, тот же, что и отыменный -nta/-ntä, то есть его прежнее значение могло быть деминутивным [13: 199]. Среди наименований заболеваний в рассматриваемых наречиях карельского языка можно выделить следующие лексемы:
-
1) (ливв.) ryvindy ~ rygindy ‘кашель’ (Нек-кула, Рыпушкалица); ryvindeä läžiy, kai ailastau rygihez ‘кашляет, все колет из-за кашля’ (Сямо-зеро); häi gu otti poroškan, sit heitti ryvindän ‘он выпил порошок, и сразу кашель прошел’ (Вид-лица)2; (люд.) rügind, rüginde3 ‘кашель’, rügind muokiččou ‘кашель мучает’, rügindän d’älgez loga ‘после кашля выделяется мокрота’4 (в ливви-ковском и людиковском наречиях кашель обозначают отглагольными существительными: (ливв.) ryvindy ~ rygindy, (люд.) rügind < (ливв.) rygie → rygi - ; (люд.) rügidä → rügi - ‘кашлять’ + суф. (ливв.) -ndy , (люд.) - nd(e) с обозначением процесса действия);
-
2) (ливв.) raippuandu ‘радикулит’ (Ковера, Кор-бинаволок, Лахта, Ляпякке, Мегрозеро, Печная Сельга, Царь-порог, Юргилица)5 (в ливвиков-ском наречии радикулит обозначают отглагольным существительным: raippuandu < raipata → raippua- ‘схватить (о боли в пояснице) + суф. -ndu с обозначением процесса действия), ср. люд. raippaiduz6;
-
3) (ливв.) palandu ‘ожог’ (Большие Горы)7 (в ливвиковском наречии ожог обозначают отглагольным существительным: palandu < palua → pala- ‘обжечься’ + суф. -ndu со значением результата действия). В новом электронном финско-русско-людиковском словаре можно встретить наименование ‘ожог’ в качестве сложного слова palandkoht8, состоящего из отглагольного существительного paland ‘ожог’ и koht ‘место’;
-
4) (ливв.) pakundu ‘эпилепсия, падучая’ (Большие Горы, Ковера, Корбинаволок, Лахта, Ляпяк-ке, Мегрозеро, Печная Сельга, Царь-порог, Юр-гилица)9 (в ливвиковском наречии эпилепсию обозначают отглагольным существительным: pakundu < pakkuo → pakku- ‘падать, упасть’ + суф. -ndu со значением результата действия).
Обратимся к значениям и происхождению суффикса -hine в ливвиковском и людиковском наречиях карельского языка. Исторически образования на -hinen(-hise-) находятся в связи с внутреннеместными падежами, для которых является характерным чередование согласного s c согласным h, то есть с инессивом на *-s-na/*-s-na, -ssa/-ssa, элативом на s-ta/-s-ta и иллативом на *-he-n, se-n. Это объясняет значение образований на -hinen(-hise-): они указывают не просто место, а место внутри чего-либо (ср. (фин.) maahinen ‘гном’ – maassa ‘в земле’, vetehinen ‘водяной’ – vedessä ‘в воде’) [1: 92]. Посредством суффикса -hine со значением названия мифологических существ образуются следующие наименования болезней:
-
1) (ливв.) vigahine ‘недуг, приставший от земли, воды, леса, колодца и т. д.’ (Сямозеро), vigahine heittyi (esimerkiksi, kaivosta) ‘болезнь утихла (например, от колодца)’ (Тулмозеро)10 (в ливви-ковском наречии деноминальное наименование vigahine образовано от словообразовательной основы имени существительного viga → viga-‘изъян, недуг, причина’ + суф. -hine);
-
2) (ливв.) muahine ‘некая болезнь кожи, которая может, по суеверным представлениям, пристать в бане или от земли’11, muahin’e (Салми), (Неккула, Рыпушкалица), muahiine, muahin’e (Олонец); (люд.) muahine, muahin’e ‘какая-то экзема, воспаление, которая могла пристать от бани, умывальника к рукам, ногам’ muahine tarttu kylys libo käzäštäs ‘экзема пристает в бане или от умывальника’12 (ср. (фин.) maahinen, maahiainen13 [21: 14]). В словаре Т. Вуорела финская лексема maahinen трактуется как ‘по поверьям, кем-то насланные плохие кожные болезни’ [20: 260]. В ливвиковском и людиковском наречиях карельского языка наименование muahine является дериватом от словообразовательной основы имени существительного mua ‘земля’ + суф. -hine , посредством которого образуются названия живых и мифических существ: напр. (ливв., люд.) meččähine ‘леший’. Также предполагается, что лексема muahine может быть образована из двух слов: mua ‘земля’ и alahine ‘нижний’ (ср. эст. maa-alused, mailased, maaljad ‘подземные существа; кожные болезни, насланные ими’)14;
-
3) (ливв.) kylyhine ‘хворь от бани’ (Сямозеро) kylyhine on virujaz ‘хворь от бани у больного’ (в ливвиковском наречии деноминальное наименование kylyhine образовано от словообразовательной основы имени существительного kyly → kyly- ‘баня’ + суф. -hine)x 5
В ливвиковском и людиковском наречиях карельского языка зафиксированы лексемы рассматриваемого пласта лексики, в которых прослеживается сложный девербальный аффикс [13: 213] -ndahine/-ndahine (-ndu/-ndy/-nd(e) + -hine), история которого уходит своими корнями в далекое прошлое, поскольку он продуктивен во всех карельских наречиях, а также встречается в других прибалтийско-финских языках (ср. (фин.) -ntainen/-ntainen [13: 213]):
-
1) (ливв.) satundahine ‘ушиб’ (Салми, Сямо-зеро); (Неккула, Рыпушкалица) satandahiine jälg on rožaz ‘на лице остался след от ушиба’16 (лексемы образованы от словообразовательной основы глагола sattuakseh → satta- ‘ушибаться’ + суф. -ndahine) (ср. (ливв.) sattavuo ‘ушибаться’, satattua ‘повредить, ушибить’);
-
2) (ливв.) hierondahin’e ‘натертость’ (Салми), hierondahine (Сямозеро)17 (лексемы образованы от словообразовательной основы глагола hieruo ^ hiero- ‘тереть’ + суф. -ndahine);
-
3) (ливв.) palandahin’e ‘ожог’ (Неккула, Ры-пушкалица, Салми), (Сямозеро) palandahine sproavih ‘ожог прошел’18 (лексемы образованы от словообразовательной основы глагола palua → pala- ‘обжечься’ + суф. -ndahine );
-
4) (ливв.) heitändähine ‘от чего-то приставшая болезнь (мифологическое)’ (Сямозеро) kibei on vies heitandahine ‘болячка - это от воды приставшая болезнь’; (Неккула, Рыпушкалица) viez on heitändähiine ‘от воды приставшая болезнь’19 (лексемы образованы от словообразовательной основы глагола heittiä → heitä- ‘прекращать, переставать’, напр., kiviständän heittämine ‘прекращение боли’ с присоединением сложного суффикса -ndahine ) (ср. (ливв.) heittyo ^ heitty-‘(о болезни) пристать от чего-то’). Можно предположить, что ранее глагол heittiä имел идентичное с глаголом heittyö значение ‘(о болезни) пристать от чего-то’, но в дальнейшем утратил его;
-
5) (ливв.) jiäksindähine ‘болезнь, полученная от земли, воды, воздуха’ (Коткозеро)20 (лексема образована от словообразовательной основы глагола jiäkšie → jiäkši- ‘свято обещать, зарекаться’ + суф. -ndahine );
-
6) (ливв.) tartundahine ‘болезнь, приставшая от сил или явлений природы; некая заразная болезнь’ (Сямозеро) veiz on tartundahine, pidäy proškennoa pyydeä ‘от воды болезнь, нужно прощения просить’21 (лексема образована от словообразовательной основы глагола tartuo → tartu-‘передаваться от одного к другому (о болезни)’ + суф. -ndahine );
-
7) (люд.) tulendahine ‘болезнь, приставшая от сил или явлений природы’ [19: 32] (Галле-зеро) kell ol’i tulendahine, mečannena, prost’it ‘у кого была приставшая болезнь, от леса болезнь, просишь прощения’ [18: 263] (лексема образована от словообразовательной основы глагола tulda → tule- ‘приставать (о болезни, недуге’) + суф. -ndahine ).
ВЫВОДЫ
Таким образом, рассмотрев значения суффиксов -nduZ-ndyZ-nd(e) и -hine в ливвиковском и людиковском наречиях карельского языка на примере наименований заболеваний, отметим их идентичность, то есть с помощью суффиксов -nduZ-ndyZ-nd(e) обозначают результат действия или названия процесса действия, а с помощью суффикса -hine - названия живых и мифических существ (в данном случае – заболеваний мифологического происхождения). При присоединении сложного девербального аффикса -ndahineZ-ndahine, состоящего из двух суффиксов -nduZ-ndyZ-nd(e) + -hine , каждый из которых имеет свою семантическую особенность, примечательно то, что его семантика становится единой, то есть одна часть лексем приобретает значение результата действия (например, palandahin’e ‘ожог’, hierondahin’e ‘натертость’), другая – мифологического существа или в данном случае некой болезни мифологического происхождения (например, jiäksindähine ‘болезнь, полученная от земли, воды, воздуха’, tulendahine ‘болезнь, приставшая от сил или явлений природы’, tartundahine ‘болезнь, приставшая от сил или явлений природы; некая заразная болезнь’).
Можно предположить, что данное явление связано напрямую со значением глаголов, от которых они образованы. Стоит обратить внимание на то, что при сборе языкового материала из опубликованных источников и от информантов нами было идентифицировано большее количество примеров из ливвиковского наречия. Это связано с тем, что в людиковском наречии рассматриваемые наименования заболеваний образованы посредством других суффиксов, а не исследуемых в данной статье (напр., (ливв.) raippuandu ‘радикулит’ ср. (люд.) raippaiduz ‘радикулит’). Некоторые лексемы в людиковском наречии, в отличие от ливвиковского, образованы путем словосложения, а не с помощью суффиксов (напр., (ливв.) palandu ‘ожог’ ср. (люд.) palandkoht ‘ожог’). Несмотря на это рассмотренные нами примеры наименований заболеваний на людиковском материале помогают проследить значение и употребление исследуемых суффиксов. Проведенное исследование можно продолжить, изучив употребление суффиксов -nduZ-ndyZ-nd(e) и -hine, а также сложного аффикса -ndahineZ-ndahine на примере других пластов лексики и получив таким образом представление о частотности их употребления и значениях.
University (Petrozavodsk, Russian Federation)
DERIVATIONAL SUFFIXES -NDU/-NDY/-ND(E) AND -HINE
IN THE LIVVI AND LUDIC DIALECTS OF THE KARELIAN LANGUAGE (in the names of illnesses and diseases)
Karelian oral language, and the Open Corpus of Veps and Karelian languages (VepKar), as well as the corresponding lexical units collected from the speakers of the Livvi dialect. This choice of study material can be explained by the fact that the analysis of the names of illnesses and diseases makes it possible to trace the meaning and usage (attachment) of the suffixes -ndu/-ndy/-nd(e) and -hine , which the authors managed to achieve as the result of the study. Having examined the suffixes -ndu/-ndy/-nd(e) and -hine in the names of illnesses and diseases from the Livvi and Ludic dialects of the Karelian language, the authors concluded that they had identical meanings: the suffixes -ndu/-ndy/-nd(e) denote the result of an action or an action process, while the suffix -hine denotes the names of living and mythical creatures or phenomena (in this particular case, mythological diseases). It is interesting to note that when a complex deverbal affix -ndahine/-ndähine comprised of two suffixes ( -ndu/-ndy/-nd(e) + -hine) , each with its own semantic specifics, is added, they acquire the same semantic meaning: one part of lexemes starts meaning the result of an action, while another – a mythological creature or, as in this case, a certain mythological disease.
Список литературы Словообразовательные суффиксы -ndu/-ndy/-nd(e) и -hine в ливвиковском и людиковском наречиях карельского языка (на примере наименований болезней)
- Бубрих Д. В . Историческая морфология финского языка. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1995. 186 с.
- Бубрих Д. В. Прибалтийско-финское языкознание: Избранные труды / Под ред. Г. М. Керта, Л. И. Сувиженко. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2005. 382 с.
- Зайков П. М. Глагол в карельском языке. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2000. 293 с.
- Зайков П. М. Грамматика карельского языка: фонетика и морфология. Петрозаводск: Периодика, 1999. 120 с.
- Новак И. П. Грамматика тверского карельского языка. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2020. 177 с.
- Новак И., Пенттонен М., Руусканен А., Сиилин Л. Карельский язык в грамматиках. Сравнительное исследование фонетической и морфологической систем. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2019. 479 с.
- Патроева Н. В ., Пашкова Т. В . К вопросу о коннекторах сложного предложения (на примере ливвиковского наречия карельского языка) // Вестник угроведения. Ханты-Мансийск, 2020. Т. 10, № 3. С. 517-526. DOI: 10.30624/2220-4156-2020-10-3-517-525
- Пашкова Т. В., Родионова А. П. К проблеме классификации типов основ и спряжения глаголов в ливвиковском и людиковском наречиях карельского языка // Вестник угроведения. Ханты-Мансийск, 2020. Т. 10. № 4. С. 692-700. DOI: 10.30624/2220-4156-2020-10-4-692-699
- Пашкова Т. В ., Родионова А. П. О временной парадигме кондиционала в ливвиковском и людиковском наречиях карельского языка // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2020. Т. 42, № 1. С. 42-47. DOI: 10.15393/uchz.art.2020.431
- Родионова А. П. Семантика карельской грамматики. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2015. 169 с.
- Федотова В. П. Очерк синтаксиса карельского языка. Петрозаводск: Карелия, 1990. 157 с.
- Ahtia E. V. Karjalan kielioppi II. Johto-oppi. Kopijyvä: KSS, 2014. 113 s.
- Hakulinen L. Suomen kielen rakenne ja kehitys. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava, 1979. 633 s.
- Markianova L. Karjalan kielioppi. Petroskoi: Periodika, 2002. 296 s.
- Markianova L. Livvin murdehen morfolougii. Nominat da abusanat. Petroskoi: PetrGU, 1993. 100 s.
- Pyöli R. Livvinkarjalan kielioppi. Helsinki: KKS, 2014. 199 s.
- Zaikov P. Vienankarjalan kielioppi. Helsinki: KSS, 2013. 284 s.
- Virtaranta P. Lyydiläisiä tekstejä. Osa II. Helsinki: SUST, 1963. 419 s.
- Virtaranta P. Haljärven lyydiläismurteen muoto-oppia. Helsinki: SUS, 1986. 179 s.
- Vuorela T. Suomalainen kansankulttuuri. Porvoo; Helsinki: WSOY, 1975. 776 s.
- Ylinen H . Miten kansa paransi. Joensuu: Pohjois-Karjalan museo, 1990. 186 s.