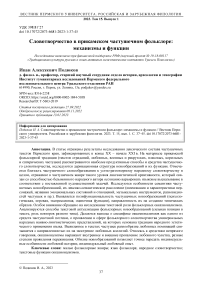Словотворчество в прикамском частушечном фольклоре: механизмы и функции
Автор: Подюков Иван Алексеевич
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 1 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье отражены результаты исследования лексического состава частушечных текстов Пермского края, зафиксированных в конце ХХ - начале XXI в. На материале прикамской фольклорной традиции (текстов страданий, любовных, военных и рекрутских, плясовых, корильных и сатирических частушек) рассматриваются наиболее продуктивные способы и средства частушечного словотворчества, исследуются деривационная структура новообразований и их функции. Отмечается близость частушечного словообразования к устно-разговорному народному словотворчеству в целом, отражение в частушечном жанре такого уровня лингвистической креативности, который связан со способностью безымянного народного автора осознанно варьировать языковое высказывание в соответствии с поставленной художественной задачей. Исследуются особенности семантики частушечных новообразований, их лексико-семантическое расслоение (именования и характеристики персонажей, названия эмоциональных состояний и отношений, музыкальных инструментов, разновидностей частушек и пр.). Выявляется полифункциональность частушечных новообразований (психологическая, игровая, экспрессивная, оценочная функции), направленность их на создание типических образов. Особое внимание обращено на исследование текстовой роли фольклорных окказионализмов. Анализируются способы текстовой актуализации фольклорных новообразований (сильная позиция в тексте, роль повторов разного типа). Делаются выводы о специфике окказионализмов как одного из средств частушечной поэтики, о проявлении в сфере фольклорного словотворчества универсальных народных наивно-лингвистических представлений, на которых основана традиция народного эстетического применения языка. Выявленное в текстах частушек разнообразие любовных номинаций связывается с направленностью их на заострение любовных коллизий. Относясь к средствам непрямого говорения, окказионализмы выражают внутреннее и внешнее проявление любовного чувства, разные степени проявления переживания. Обилие новообразований позволяет точнее передать индивидуальные особенности любовной истории, индивидуальный любовный опыт.
Малые фольклорные жанры, язык фольклора, народное словотворчество, текстовые функции окказионализмов
Короткий адрес: https://sciup.org/147240442
IDR: 147240442 | УДК: 398:81’27 | DOI: 10.17072/2073-6681-2023-1-37-45
Текст научной статьи Словотворчество в прикамском частушечном фольклоре: механизмы и функции
Функции слова в частушечном тексте
Частушка (в лучших ее образцах) одновременно выполняет несколько функций. Кроме выражения внутреннего мира и переживаний лирического героя, что составляет ее эмоциональнопсихологическое содержание, она обладает развлекательностью, игровым началом. Наличие подтекста, сложная экспрессивно-семантическая структура частушечного текста обусловливают его логико-смысловую уплотненность и усложненность структурно-языковых характеристик. Частушка, выражая в компрессивной форме внутреннее переживание (лирическую медитацию: духовное видение того или иного факта жизни в его лирико-философском восприятии), отражает «акт познания, позволяющий хоть немного приблизиться к тайне личности, а также к сущности жизненных явлений» [Симакова: эл. ресурс]. Ограниченность языкового объема частушки компенсируется насыщенностью частушечных текстов символами, тропами, сложными языковыми формами, повторами и вариантами (ср. в наблюдениях Кулагиной: сердце страдающей девушки героини может ныть, занывать, вынывать, изноять [Кулагина 2000: 136]). Одно из проявлений языковой усложненности частушки – разнообразие использованных в ней слов-окказионализмов, которые, с одной стороны, понятны только из контекста, а с другой – принимают участие в формировании глубинного смысла текста.
К концу XIX – началу XX в. частушка становится самым популярным жанром русского фольклора. Последнее время, отмеченное нарушением форм эмоциональной жизни, угасанием многих творческих процессов социокультурного бытия, сказывается и на состоянии многих жанров традиционного фольклора. Слабо развиты навыки самовыражения жителей современной деревни, как и в современном обществе в целом (способность раскрывать и демонстрировать окружающим внутриличностный мир, выражать собственную индивидуальность). В деревенской среде усиливается межличностное эмоциональное отчуждение, которое в современном обществе носит почти всеобщий характер. На фоне угасающего традиционного фольклора частушка пока звучит – на конкурсах, фольклорных праздниках и ярмарках, однако все больше превращается из формы личного самовыражения в концертный жанр, содержащий отклик на актуальные события общественной жизни (частушки про ковид и самоизоляцию, санкции, Путина, Интернет и пр.). Исследователи все чаще отмечают трансформацию жанра: перерождаясь в школьную, корпоративную, политическую, ре- кламную, частушка теряет былой мифопоэтический контекст, ориентируется на литературнохудожественную форму, принятую в СМИ и Интернете [Тубалова 2011: 51].
Живущие в основном в памяти старшего поколения, тексты традиционной частушки сохраняют значение и как свидетельства времени, и как особая сфера существования словесной культуры. Для языка частушки типична способность накапливать в своем составе и гармонически уравновешивать элементы различных временных и социальных пластов (отмеченная А. Т. Хро-ленко фольклорная «аккумулятивность» [Хро-ленко 1991: 123]). Входящая в ядро частушечного словаря лексика выражает фольклорные стереотипы мышления во многом благодаря своей архаичности и ограниченности употребления (хотя, конечно, в частушке получают эстетическую функцию и общие формы «нехудожественного» языка). Примером редкого слова, используемого в частушке, может быть прилагательное чательный ( Эх ты боля, эх ты боля, эх ты боля чательный. Боля росту небольшого, боля замечательный ). Форма, напоминающая сегментацию и деформацию слова, на самом деле является диалектной формой слова тщательный ‘аккуратный’. Слово синета ‘отлив синего цвета’ ( Сине море разливное покрывалось синетой. Взяли милого в солдаты, я осталась сиротой ) используется вместо более частотного синева ; также представляя синее пространство как отвлеченный признак, оно отличается более низкой степенью абстрактности (акцент на физическом признаке усиливает в тексте символическую тему синего как цвета моря, водных глубин, связанного с тоской и грустью). Слово шаять в частушечных текстах может быть использовано не в своем обычном значении ‘тлеть’ ( Вот она и заиграла, двадцать пять на двадцать пять. Наша маленькая шаечка зашаяла опять ). Оно связано здесь с более архаичным смыслом – ‘совершать колебательные движения, приходить в движение’ [Меркулова 1981: 123]. Значение в большей степени согласуется с семантикой всего текста, где тему веселья передает не образ горения, а образ движения. Глагол укнуть ( Машина укнула, пошла, поехал мой Алёшенька, платочком белым помахал – прощай, моя хорошенька ) передает глухой звук отправляющегося поезда (в диалектах укнуть используется как обозначение низкого однократного звука). Этот звук точнее, чем более интенсивный глагол ухнуть , подчеркивает внутреннее состояние героини, показывает ее психологическую закрытость (соотносится с ономатопом у-у , имитирующим стон, плач).
Методы и материал исследования
Сфера фольклорного словотворчества ярко иллюстрирует народные наивно-лингвистические представления, на которых основана традиция народного эстетического применения языка. Предмет настоящего исследования – уральская любовная частушка. Частушка по преимуществу является молодежным жанром, тесно связана с темой любви, выражает разные степени проявления переживания, внутреннее и внешнее проявление любовного чувства. Ее язык, соответственно, отличает обилие средств, направленных на выражение этого сложного, нередко противоречивого чувства.
В статье исследовались ранее опубликованные прикамские частушки (прежде всего, из сборника «Уральские частушки о любви» И. В. Зырянова, Пермь, 1966), а также собранные автором статьи в 1980–2010 гг. в Карагайском, Кишертском, Кунгурском, Нытвенском, Черну-шинском, Чердынском и других районах Пермского края тексты (по большей части хранятся в фондах Центра этнолингвистики народов Прикамья, Пермский педагогический университет). Частушечные окказионализмы охарактеризованы по способам образования, по их отнесенности к семантическим группам. При интерпретации окказиональной единицы мы учитывали абсолютную зависимость окказионализма от контекста, исходили из того, что ситуация, контекст, наличие в контексте повторов и вариантов, вообще слов с общими семантическими элементами определяют характер окказионализма, его эстетическую нагрузку. Во многих случаях применение окказионализма подчеркнуто его позицией в тексте (часто – в зачине), сопровождается повтором. Повтор корня развивает семантическую тему, часто используется для актуализации символического смысла слова. Так, в тексте Эх, тучка за тучку затучилася, долго милого не видела, соскучилася тройной повтор корня туч- актуализирует тему неприятности, печали, тоски (в связи с переносным значением туча ‘о грозящей беде, неприятности’). Слово перепута, восходящее к перепутаться ‘прийти в беспорядок’, оценивает беспорядочность милого в отношениях (Я иду по перепуте, перепутанной траве. Перепутанная совесть, ягодиночка, в тебе). Слово сýда ‘кто осуждает, судит’, созданное по аналогии с задира ‘кто задирается’, рёва ‘кто ревет’, диалектным сýя ‘кто суется, мешает’, задает четырехкратный корневой повтор, что усиливает отрицательную оценку (Бабы-суды, бабы-суды, Бабы-пересу-дочки. Осудили бабы нас За коротки юбочки). По словам исследователей, в таких случаях народная лирика демонстрирует принцип «поэ- тического подчеркивания», «психологического расчета» [Еремина 1978: 162].
Основные способы образования частушечных окказионализмов
Критерием окказиональности считается отсутствие слова в известных словарях, образование его из морфем, уже существующих в языке, и с помощью представленных в системе языка словообразовательных способов. В текстах частушек отмечено немало «заумных» искусственных, намеренно сконструированных слов, применение которых может приводить к своеобразному иноговорению: Куплю милому тарью-барью – не может он носить. Куплю чубарью с вереверью тарью-барью возить . Гармонь здесь названа тарья-барья , поскольку частушка характеризует милого и его желание играть на гармони иронично (сочетание тары-бары используется обычно как оценка пустых разговоров). Лошадь для ее перевозки – чубарья (в связи с чубарый о коне редкой масти с овальными пятнами по телу); словом вереверья обозначен повод (ср. в тюремном жаргоне верьверья петля). Тексты с подобными «тарабарскими» вставками хорошо известны в фольклоре (например, часты в эротических текстах, в свадебных песнях – обычно для замены непристойных слов, имитации «иностранной» или пьяной речи, а также для создания ритма и звукоизображения; они, выражая любование «звоном» слова, дают простор воображению слушателей [Федорова 1981: 41]). Аналогично как звуковая вставка используется в известных «Нескладушках» М. Мордасовой наречное образование тинтель - винтель (« Послушайте частушечки, спою вам нескладушечки – Тинтеля, тинтеля, винтель, тинтель, тинте-ля …»). Cочетание, вероятно, связанное с финт ‘обман’ (из немецкого языка), широкозначно, используется в просторечии как шутливая брань, как обозначение секса, как выражение удовольствия. На уровне звукосимволизма оно подчеркивает пребывание участников веселья не в реальной ситуации, а в игре.
В частушке Ваня ты, Ваня ты, Ваня розовы цветы. Ваня, я в тебя втютюнилась, втютю-нился ли ты звукоизобразительный глагол подчеркивает физиологический аспект чувства (как в глаголах втюриться, втюхаться, втрескаться – в них также влюбленность показана через уподобление нахождению в физически трудном положении). Этот смысл усилен сопоставлением с идеализацией героя в начале текста, где он назван розовы цветы (милый часто романтически связывается с розой: Каждый день в рубашке розовой, сегодня в голубой. Как ему не возноситься: каждой девушке любой ).
Сочетание сирь-бирь-бирь ( Сирь-бирь-бирь конфеты ела, сирь-бирь-бирь из баночки, сирь-бирь-бирь избаловалась хуже хулиганочки – текст из репертуара братьев А. и Г. Заволоки-ных), скорее всего, также мотивировано звукоими-тацией (игры на гармошке, разговора, перебирания леденцов в баночке) и, возможно, одновременно является отсылкой к названию Сибири. В народной речи встречаются образования со звуковым комплексом, передающим звук cбир/бер , соотносимый с разговорами, шумом (например, калужское серба прозвище болтливой женщины (СРНГ 37: 181), смоленское и одесское сёрбать ‘звучно хлебать’). Из-за своей особой звучности сочетание сирь-бирь-бирь используется как название хоров (Кубань), фольклорных детских студий (Красноярск). Поедание конфет (ответ на ухаживание) героиня соотносит со своим будущим (глагол избаловаться использован в значении ‘приобрести порочные привычки’).
Типичная для частушки тавтология также связана со словопроизводством. Тавтология отражает особый способ фольклорно-образного мышления, выполняет функцию «выражения общего, типического, что характерно для художественного стиля устной поэзии...» [Евгеньева 1963: 139]. Она обеспечивает взаимодействие смысловых оттенков слов («усугубление в речи одного и того же слова», в результате чего рождаются дополнительные смыслы [Потебня 1968: 186]). Так, слово игручий ( Гармонисту за игру, за игру игру-чую – приходи назавтре есть картошку рассы-пучую ) с суффиксом -уч- не связано с обозначением склонности к какому-нибудь действию, а отмечает его длительность и интенсивность. Тав-тологизм своей двусмысленностью (прилагательное игручий – ‘игривый, веселый’ и одновременно, что проявлено в контексте, ‘несерьезный, ненастоящий’) придает частушке комический эффект.
Неотъемлемый элемент языка частушки – диминутивы, слова, в которых подчеркнут малый размер называемого, а на самом деле выражается доброжелательность и сочувствие к нему. Как известно, диминутивов много в живой речи: «Для разговорной диалектной речи характерно обилие ласкательных и уменьшительно-ласкательных форм слова» [Блинова 1975: 82]. В фольклорных текстах они значимы не только из-за своей высокой эмоциональной насыщенности, важнее то, что они выступают как условные слова-эмблемы с постоянным смыслом, заданным не индивидуальным восприятием, а традицией. В частушке Дорожиночка на льдиночке, а я на берегу. Перебрось, милка, тесиночку, к тебе перебегу обозначена этой формой не слабая степень любовного чувства, не легкость отношений, а, напротив, их сила (представление себя большим, сильным и уверенным).
«Живое непосредственное чувство, рождающее частушечный текст, прихотливо выбирает слова, нужные для его выражения, а в случае недостатка их создает новые, передающие с максимальной точностью требуемый оттенок мысли или чувства» [Колпакова 1966: 269]. Язык частушки демонстрирует разнообразие способов создания окказиональных единиц, слов, которые используются как переименования ранее обозначенных в языке фрагментов мира, фактов эмоционального опыта (оттенки таких эмоций, как радость, счастье, печаль, отчаянье, боль). На первом месте, безусловно, стоят разновидности суффиксального словообразования. Это отглагольные существительные игриночка – название гармошки, скакуха – название плясовой частушки, присказенька – частушка по поводу. Свойства суффикса способны влиять на семантику новообразования. Так, суффикс -тель (имеет официальный или книжный характер) вносит в текст отчужденности: Дороги родители, поители, кормители, наши завлекатели дороже отца-матери (аналогично тексту Дорогой не провожай, найдется проводителей). Слово спальщик ‘тот, с кем есть только физическая любовь’ (Отворяй, мамаша, двери, дочка пьяная идет, стели мягкую постелю, себе спальщика ведет) содержит прямую нелицеприятную оценку приведенного кавалера. Образованы от прилагательных слова коротушка ‘частушка’, голубиночка ‘ягода голубого цвета’, беляночка ‘о милой’. В последнем случае цветовое обозначение не оценивает внешний вид светловолосой или белокожей девушки, а является идеализирующей характеристикой (Девушки-беляночки, пойдемте на гуля-ночки…), ср. в диалектах беляйка ‘приветливая и красивая женщина’ (СРНГ 2: 207); белянушка ‘женщина или девушка, которой хотят выразить свою любовь, ласковое отношение’ (там же: 241). Образование черненочек (На миленочке-черненочке печатные пимы…), скорее всего, лишено символического смысла (с черным цветом обычно соотносятся социальные характеристики человека [Вендина 1999: 301]), вероятно, указывает на черные волосы, смуглую кожу милого, выделяя его среди других. Изредка используется при образовании окказионализмов-существительных нулевая суффиксация: в тексте Бабы-суды, бабы-суды, Бабы-пересудочки. Осудили бабы нас За коротки юбочки слово суда (кто осуждает) от судит, аналогично словам задира ‘кто задирается’, рева ‘кто ревет’. Использование префиксальных новообразований встречается намного реже. Общеусилительный, выделительный смысл имеет префикс пере-: Люблю дролю-передролю, дролю-выдролю-дролю; Ох ты мильчик мой, перемильчик мой, Пожила бы я с тобой, с разудалой головой; Сошью кофту-перекофту, кофту-выкофту-кофту… Морфема с основным значением повторного действия или явления в этих контекстах выражает избыток чувства героини.
Из неморфологических способов отметим использование сложения: лиходейка (название соперницы: Охвати, мило́й, покрепче – лиходеечка идёт … – из сочетания деять лихо ), самоходочка (подруга, любовница: Открывай-ка, мать, ворота, Сын с гуляночки идет. Открывай да и пошире: Самоходочку ведет ); сладкопоцеловочка ( Ягодина моя, сладкопоцеловочка. Раньше меня целовал – Теперь – остановочка ). Сложные слова представляют собой сложное, расчлененное наименование персонажа, к которому герой испытывает сложные чувства.
Продуктивно суффиксальное образование прилагательных. В фольклорной морфемике популярны суффикс -чат- со значением ‘имеющий что-л. в большом количестве или в большой степени’ ( Ваня, Ваня, ванчатый, какой Ваня обманчивый ), суффикс -ист- с близкой семантикой ( Ох, ты Ваня-Ванистый, Какой ты музыкани-стый; Коля, Коля, колистый, какой Коля подбористый – от подбор наряд, Шура шуристый, какой Шура фигуристый ). Здесь суффиксы используются для подчеркивания значимости милого, для выделения имени любимого.
В образовании глаголов продуктивны формы с суффиксом -и- ( баянить, тальянить, засимпа-тить (от симпатка: Рубашка бела, полосата – засимпатила меня, А вторая, голубая, скоро высушит меня ). Аналогично созданы глаголы шу-рить, петить с условным значением ‘быть в любовных отношениях, ходить с Шурой, Петей’: Шурила я, шурила, всю я ночь дежурила. Всю я ночь дежурила – Шуру караулила. Петила да петила, была симпатка Петина . Подобные формы передают ощущение своей неотрывности от любимого, «растворение» в нем, любование не только милым, но и его именем. Префиксальные отглагольные формы в частушках распространены реже. Приобретают усилительный смысл образования типа перестоить со значением ‘соответствовать в большей мере’: Я свою соперницу стόю-перестою, Стόю выходкой своей, Стόю красотою .
Как способ семантической деривации в частушечных новообразованиях нередко используется метафорический перенос. В названии милого гоноболинка (Гоноболинка моя, что ты гоно-болишъся…) использована аналогия милого с ягодой (название восходит к вышедшему из употребления названию голубики гоноболь, гонобо- бель, она же в народной терминологии пьяника, дурника). Устойчивое определение гармошка-горностайка (Эх, гармошка-горностайка, приди, милка, приласкай-ка) мотивировано аналогией разноцветных мехов инструмента и маленького пушного зверька с пестрым мехом (летом мех буровато-рыжий, зимой снежно-белый). Слово барнаулить (Я иду не барнаулю, Ты иди, не бар-науль. Я тебя не караулю, Ты меня не карауль) содержит пермский глагол барнаулить ‘назойливо ухаживать, приставать’ (ср. сиб. «громко кричать; просить помощи», в уголовном жаргоне «устраивать беспорядок» (Словарь современной лексики)). Упоминание центра Алтайского края города Барнаул имеет, на наш взгляд, свою историческую подоплеку: пермяки контактировали с населением этого края, поскольку горнозаводчик Акинфий Демидов (основатель города Барнаула) переводил сюда с Урала приписных крестьян для закладки заводов («барнаульские», т. е. заводские, в отличие от безденежных крестьян, отличались, конечно, бóльшей свободой поведения).
Таким образом, в частушках при создании окказионализмов задействованы самые разные словообразовательные способы и средства. Включение новообразований в текст связано прежде всего с их повышенной экспрессивностью.
Лексико-семантические группы частушечных окказионализмов
Лексические новообразования в частушках включены в большое количество лексикосемантических групп. Значительную часть частушечных окказионализмов составляют названия самих текстов, представляющих жанр частушки, в которых часто отмечается обозначение манеры исполнения частушек, их характер (архангельская Рассыпуха, белгородская Акулина, вологодская Субботка, воронежская Разнесуха, сибирская Тараторка, уральская Голубка, пермские Набирушка, Ихохонюшка, Присказенька, см. подробнее: [Первушина 2021], [Зырянов 1966: 5]). В названиях отмечается предназначенность частушек (собирушки сводят воедино, ска-куха называет плясовую песенку), манера исполнения (пригудка от гудеть ‘издавать длительный протяжный низкий звук’), размер (коротушка). Слово ихохонька (отмечен также вариант ихо-хошка) обозначает особое взвизгивание при исполнении частушек этого типа (ср. пермское диалектное ихохониться/ игогониться ‘визжать’). Нередко названия типов частушек хранят память о региональных особенностях культурной традиции. Так, частушки притабора названием связаны с временным поселением табор и богатым селом и пристанью Таборы в Оханском рай- оне Пермского края (сюда во второй половине XIX в. приходили грузы и разные товары для Очёрского и Павловского заводов и была развита своя праздничная традиция).
Развернутый ряд составляют окказиональные названия музыкальных инструментов. Это подчеркивающее сущность предмета называние по функции ( Хороша игриночка, играет ягодиноч-ка ); по виду ( Милый в вяточку-тальяночку играет хорошо …; тальянка от итальянка ‘однорядная ручная диатоническая гармоника итальянского строя’, вяточка ‘хроматическая гармонь’, считалась упрощенным вариантом тальянки). В тексте Балалайка-лайка-лайка, Балалайка-лаеч-ка, в балалаечку играет моя ненаглядочка инструмент назван по характерным для него громким, резким и отрывистым звукам. Игрок может быть назван гармонщик, гитарь ( Я гитаре под-гитарю, гитарю подгитарю …; слово создано по типу лекарь, пекарь , с помощью суффикса, обозначающего лицо, производящее действие).
Отдельные новообразования ( баянить, таль-янить ) отражают манеру пения, игру на музыкальных инструментах, их звучание: Вот пришли и заиграли вот и забаянили (затальянили ); Ты, тальяночка, тальянь, Любое имечко Иван; Ты играй, гармошка, ладь, а я буду припевать ( ладить здесь строить , ‘гармонично сочетать звуки и созвучия’). Глагол ойкать ‘пропевать, произносить в пении «ой»’ ( Все я песни перепела, все я переойкала ) характеризует один из способов исполнения страданий. Частушка Топай, топай, топочка, отлетывай, подметочка содержит указание на типичное для плясовых частушек притопывание ногами.
Среди новообразований немало слов, оценивающих любовное поведение ( ягодиниться ‘ухаживать’: Ягодина, ягодина, ты не ягодинь-ся …, заухажорить ‘увлечь’: Дура я, заухажори-ла четырех человек. Надо бы заухажорить одного на целый век ). С их помощью передается эмоциональное состояние, соотнесенное с любовным чувством ( оиться : Я бывало оилась, бывало беспокоилась …; Ойся, ойся, Ты меня не бойся, Я тебя не укушу, Ты не беспокойся ), отношение ( уважина вместо уважение : Уважала, уважала – уважина в путь нейдёт. Сколь платочков подарила, все на ленточки дерёт ). Встречаются названия черт характера ( Боевая, боевая, боевинка во мне есть …), описательные оценки глаз ( Ой, глазки мои, серые прижмур-ки…; глазки кари, глазки кари, карие кариночки …). Наиболее обширна группа названий основных героев частушечных персонажей, которые оформлены как ласковые, умилительные, строгие, шутливые, серьезные. Доминируют среди них названия милой и милого.
Названия милой представлены развернутым рядом – матаня ( Говорил мне Ванечка: Расти, моя матанечка ), возможно, от мотаться ‘двигаться из стороны в сторону, сильно качаться’), эхехенька (образовано от междометия восхищения: Из-за лесу не видать нашу деревеньку. Надо к лету наживать каку-то эхехеньку ). В них подчеркивается сила любовного переживания: зазноба, прияточка, истомочка, приманилка ( Эх, милка моя, приманилка моя !). Слово гоноболинка ( Гоноболинка моя, что ты гоноболишься ) соотнесением милой с названием дурманящей ягоды (ср. другие ее народные названия пьяника, дурника ) подчеркивает состояние влюбленного. Как и в целом ряде других случаев, слово намеренно выделяется с помощью корневого повтора (ср. также о названии милой крутилочка : Эх ты милочка, крутилочка, крутое колесо, Закрутила мою голову и думашь – хорошо ).
Аналогично строятся названия милого, отмечающие отношение к нему ( помилаша, завле-каша , дорожиночка : Помилаша в Красной Армии Служи, не унывай, Служи Советскому Союзу И меня не забывай ; Дорогая дорожиночка, не делай боле так, Под мою веселу песенку играешь кое-как; Завлекаши, да не наши, завлекают, да не нас. А как наши завлекаши Далеко живут от нас ). Образованное от забавлять ‘развлекать, занимать чем-нибудь веселым и приятным’ именование милого забавлюшечка в текстовом употреблении подчеркивает глубину переживания девушки ( Всю слезами оболью пуховую подушечку. Судьба заставила любить чужую забавлю-шечку ).
Сложный случай именования милого – слово макароля: Коля, Коля, макароля, макароля Коля мой, Коля с новой макаролечкой Гуляет под горой. Вероятно, название родственно имени Макар. Имя получило в русском языке разнообразные смысловые развертывания. Макаром называют бедного, невезучего, а с другой стороны – плута, хитреца; оно известно и как шутливое название рыбака (ср. также старое макарыга ‘попрошайка’). Символические развертывания могут восходить к этимологии имени, ср. Макар и греческое makaria «блаженство»; Макарийские острова, или острова блаженных, – известная в русской культуре мифическая область, сакральная заморская страна, расположенная посреди океана (ср. у К. Бальмонта о макарийцах, не знающих горя: На Макарийских островах Живут без горя человеки, Там в изумрудных берегах Текут пурпуровые реки. Там камни ценные цветут, Там все в цветенье …вечно юном, Там птицы райские живут – Волшебный Сирин с Гамаюном…). Учитывая отрицательно-иронический смысл контекста, можно предполагать обозначение словом макароля того, кто получает удовольствие (в контексте частушки – незаслуженно).
Негативных оценок милого в частушках немного, что объясняется действием «специфической социально-коммуникативной стратегии, характерной для деревенского сообщества» – стремлением говорящего смягчить категоричность своих высказываний «непрямым» говорением, намеками [Березович, Леонтьева 2017]. Поведение милого обычно оценивается смягченно, чтобы избежать категоричности. Так, высмеивается шуткой непостоянство милого, который все равно называется моим ( Мой миленок, по-вертёнок, повертушечка моя ; непостоянство милого оценивается отглагольной номинацией – от вертеться ‘увиливать, прибегать к уловкам, уклоняясь от прямого ответа’).
Более категоричны негативные характеристики соперницы, разлучницы : лиходейка ( Охвати, мило́й, покрепче – лиходеечка идёт …), пере-бейка ( Перебеечка намазалась, сидит красивая – из перебивать ‘пытаться пересилить, соперничать в любви с кем-л.’), отбивушка отбивалочка ( Ты подружка-отбивушка, отбивай, тебе идет; Ой ты, Валя дорогая, Отбивалочкой не будь ), навязница ( Ты не думай, я не дура, Не навязница твоя, – Будет время, пожалеешь, Когда замуж выйду я ), тараторочка ( Говорила я миленку, говорила я не раз: ты не пей у тараторочки ни воду и ни квас – из названия болтливой), подми-гушка ( Ой подружка-подмигушка, не люби мово дружка – из осмысления подмигивания как флирта, заигрывания).
Заключение
Новообразования в частушках не столько называют персонажей, предметы внешнего мира, действия героев любовной истории, сколько выражают широкий спектр эмоций и чувств. Обилие любовных номинаций в частушках – следствие попытки осмыслить суть многоликого, неуловимого и изменчивого чувства любви, живущего по законам воображения (при этом «подлинное чувство в частушке намеренно сокрыто, упрятано глубоко, так как частушки исполняются прилюдно» [Подюков 1999: 359]). С помощью окказиональных названий заостряются любовные коллизии, подчеркивается сама основа отношений в любви – и прежде всего любовный конфликт. Окказионализмы относятся к средствам непрямого говорения, что связано с содержательной стороной понятия «любовь», логически слабо определяемого и от этого бесконтрольного чувства. Благодаря окказиональной лексике выражается внутреннее и внешнее проявление любовного чувства (разлуки, печали, радости), разные степени проявления переживания (реакция на измену, расставание, разрыв отношений; ожидание, прощение). Разнообразие окказионализмов позволяет точнее передать индивидуальные особенности любовной истории, индивидуальный любовный опыт, оттенки любовного чувства и любовной игры.
Список литературы Словотворчество в прикамском частушечном фольклоре: механизмы и функции
- Березович Е. Л., Леонтьева Т. В. Намек в диалектной лингвокультурной среде: жанровая разновидность частушек и лексические репрезентации понятия // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2017. № 47. С. 6-26.
- Блинова О. И. Введение в современную региональную лексикологию. Материалы для спецкурса. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1975. 257 с.
- Вендина Т. И. Цвет в этнокультурной системе русского, старославянского и древнерусского языков // Славянский альманах 1998. М.: Ин-дрик, 1999. С. 277-304.
- Евгеньева А. П. Очерки по языку русской устной поэзии в записях XVII-XX вв. М.; Л., 1963. 348 с.
- Еремина В. И. Поэтический строй русской народной лирики. Л.: Наука, 1978. 183 с.
- Зырянов И. В. Уральские частушки о любви. Пермь: Книж. изд-во, 1966. 196 с.
- Колпакова Н. П. Типы народной частушки // Русский фольклор. Специфика фольклорных жанров. М.; Л.: Наука, 1966. Вып. 10. С. 264-288.
- Кулагина А. В. Поэтический мир частушки. М.: Наука, 2000. 303 с.
- Меркулова В. А. Заметки по русской диалектной лексике // Этимологические исследования. Свердловск, 1981. Вып. 2. С. 114-124.
- Первушина Е. В. Актуальные вопросы изучения плясовой частушки // Культура и искусство. 2021. № 7. С. 17-26.
- Подюков И. Частушка: поэтический примитив или поэтический изыск? Заметки фольклориста // Третья Пермь. Пермь: Перм. отд-ние литер. фонда России, 1999. С. 358-366.
- Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. М.: Просвещение, 1968. Т. 3. 376 с.
- Симакова М. С. Платок в русской частушке: традиция и новации // Фольклор и постфольклор: структура. URL: www.ruthenia.ru/folk-lorelaboratory/Simakova.htm (дата обращения: 10.02.22).
- Тубалова И. В. Современная письменная частушка: новая художественная форма в современной культурной парадигме // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2011. № 4. С. 50-58.
- Федорова В. П. Особый тип припева в необрядовых лирических песнях // Русский фольклор. Л.: Наука, 1981. Вып. XXI. С. 38-46.
- Хроленко А. Т. Своеобразие фольклорного слова // Русский фольклор. Проблемы текстологии фольклора. Л., 1991. Т. XXVI. С. 122-133.