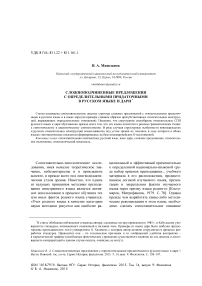Сложноподчиненные предложения с определительными придаточными в русском языке и дари
Автор: Мишланов Валерий Александрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена сопоставительному анализу структур сложных предложений с относительными придаточными в русском языке и в языке дари (на примере главным образом присубстантивных относительных конструкций, выражающих определительные отношения). Показано, что структурное своеобразие относительных СПП русского языка и дари обусловлено прежде всего тем, что эти языки относятся к разным грамматическим типам: к синтетическому и аналитическому соответственно. В ряде случаев структурные особенности новоперсидских и русских относительных конструкций осмысливаются под углом зрения их генезиса, в ходе которого в обоих языках гипотактические показатели формировались на базе индоевропейских К-местоимений.
Сопоставительная лингвистика, русский язык, язык дари, сложное предложение, относительное подчинение, гипотактический показатель
Короткий адрес: https://sciup.org/147219443
IDR: 147219443 | УДК: 81''44;
Текст научной статьи Сложноподчиненные предложения с определительными придаточными в русском языке и дари
Сопоставительно-типологические исследования, имея немалое теоретическое значение, небезынтересны и в прикладном аспекте, и прежде всего под лингводидактическим углом зрения. Известно, что одним из ведущих принципов методики преподавания иностранного языка является активное использование в процессе обучения тех или иных фактов родного языка учащихся. «Учет родного языка в качестве категории науки методики рисуется как наиболее ра- циональный и эффективный применительно к определенной национально-языковой среде набор приемов преподавания... учебного материала в его расположении, продиктованном логикой изучаемого языка, презентации и закреплении фактов изучаемого языка через призму языка родного» [Костомаров, Митрофанова, 1979. С. 70]. Однако прежде чем выработать какие-либо методические рекомендации в этом плане, необходимо сделать сопоставительное описание двух языков и интерпретировать полученные данные с точки зрения лингводидак-тики.
Нам представляется, что для решения методических задач особое значение имеет сопоставительное описание синтаксических явлений, поскольку синтаксис по своей природе связан прежде всего с говорением, синтезом речи, т. е. с наиболее трудным в методическом отношении видом речевой деятельности.
По-видимому, из всех типов сложного предложения (СП) наибольший интерес с точки зрения контрастивной лингвистики (и ее методических приложений) представляют конструкции с относительным подчинением. Дело в том, что СП этого типа имеют такие структурные особенности, которые предопределяют значительно большее, чем в конструкциях других типов, разнообразие форм в одном языке и, стало быть, большую вероятность типологического несовпадения этих форм в разных языках - в особенности в языках с разным грамматическим строем -например, в аналитических, каким является дари (фарси-кабули), и в синтетических, к каким относится русский.
Главная из этих особенностей - формальные средства подчинения. Относительное слово ( который , какой , кто , что и др.), в отличие от союзов и интеррогативов, т. е. союзных слов изъяснительных сложноподчиненных предложений (СПП), выполняет сразу три функции: гипотактического показателя, анафорическую и какого-либо члена предложения в придаточной части, причем во многих языках относительное слово в качестве анафора должно быть согласовано (в роде и числе) с антецедентом. Эта синтаксическая многомерность относительного слова обусловливает и структурное своеобразие сложноподчиненных конструкций данного типа. СП с относительным подчинением образуют парадигму, число членов которой зависит от парадигматики имен в данном языке (а также от некоторых других факторов).
Рассмотрим самую распространенную группу конструкций относительного подчинения - СПП с определительными (атрибутивными) придаточными (как их именуют издавна в русской синтаксической традиции). Отличительной чертой определительных конструкций, в сравнении с другими видами относительных СП, является то, что придаточная часть зависит от существительного. Подчеркнем, что это признак скорее формальный, чем семантический (т. е. отражающий семантику отношения между предикативными частями). В самом деле, смысловые отношения между частями при-субстантивных относительных конструкций и местоименно-относительных СПП (не причисляемых в традиционной грамматике к конструкциям с определительными придаточными) иногда оказываются совершенно тождественными; ср.: Вещь, которую я искал , лежала на самом виду - То, что я искал, лежало на виду (в обоих случаях здесь выражено не атрибутивное, а компле-тивное, или информативно-восполняющее, отношение).
С другой стороны, в русском языке и особенно в языке дари в случаях, когда говорящий стремится к особому риторическому эффекту, не исключены относительные СПП, в которых придаточное зависит от личного местоимения ( Ман-е ке... ‘Я, который / кто...’, Шома-йе ке ... ‘Вы, который / кто...’ [Рубинчик, 1983. С. 843]), при этом смысл заключенного в них отношения мало сопоставим как с комплетивным отношением в оборотах типа Тот , кто... , То , что... , так и с атрибутивным отношением в при-субстантивных конструкциях. Дело в том, что местоимения-дейктики (как, впрочем, и кванторные, и анафорические) к категории определенности / неопределенности индифферентны, и то, что имеет вид определения при местоимении, в действительности является чем-то другим - например, обстоятельством причины 1.
Подчеркнем, что и присубстантивные относительные СПП с семантически полноценным определяемым существительным в русском языке, как и в дари, нередко тоже не выражают атрибутивных (качественноопределительных или «выделительных») отношений. Еще Н. С. Поспелов обратил внимание на семантическую близость относительных присубстантивных конструкций с постпозицией придаточного и без коррелятивного Т-местоимения к классу двучленных СПП [1950. С. 331]. Предложения типа Путники вышли на дорогу, которая привела их к лесному озеру содержат два тема-рематических контура, т. е. представляют собой, по сути, сверхфразовое единство, построенное по деривационной модели относительного СПП.
В настоящей статье анализируются структурно-семантические особенности только при-субстантивных относительных СПП.
Структурное своеобразие определительных СПП русского языка и дари (как и фарси) прежде всего обусловлено тем, что эти языки относятся к разным морфологическим типам: к синтетическому и аналитическому соответственно. Из этого априори следует, что русские конструкции в формальном плане значительно более разнообразны, чем аналогичные конструкции в языке дари. Так, русское относительное местоимение который имеет 12 форм рода, числа и падежа, причем большинство из них сочетается с многочисленными предлогами (по приблизительным подсчетам, число структурных модификаций относительных конструкций только с местоимением который достигает 180). Соответствующее слово в современном дари не изменяется: служебное слово ке (کھ) в иранских языках давно утратило флексии и не сочетается с предлогами [Мохамад Рахим Āлахāм, 1339 (1961 г. по христианскому летоисчислению). С. 159; Фархади Р., 1974. С. 92, 205; Киселева, 1985. С. 113– 114]. Добавим к этому, что служебное слово ке в дари – это единственный гипотактический показатель в относительных СПП, тогда как в русском языке в этой функции используется много других местоимений и наречий: какой , каков , кто , что , чей , где , откуда и др.
Морфологические характеристики относительных слов в русском языке и дари предопределяют их синтаксические особенности. Релятивно-анафорическая связь между атрибутивным придаточным и определяемым именем главного предложения в русском языке реализуется в виде согласования с этим именем относительного местоимения в роде и числе ( Мальчик , который... , Девочка , которая... , Дети , которые ...). Поскольку служебное слово ке не изменяется, относительная связь в дари реализуется как примыкание.
Здесь необходимо решить один важный – по крайней мере, для нашего исследования – вопрос, связанный с грамматической квалификацией слова ке в конструкциях, соответствующих относительным предложениям русского языка. Многие исследователи считают, что в новых иранских языках относительных местоимений нет (см., например: [Рубинчик, 1983. С. 843]; из цитируемых здесь авторов только Р. Фархади квалифицирует ке в определительных СПП как относительную частицу [1974. С. 92, 205]). В персидских грамматиках СПП не подразделяется на типы по формальным средствам подчинения – союзам и союзным словам, поскольку почти все семантические разновидности придаточных в фарси и дари вводятся посредством абстрактного гипотактического показателя – ке или че (исключение – условные придаточные, вводимые союзом агар ). Асемантическая скрепа ке в дари (восходящая, как и большинство союзных средств русского языка, к индоевропейскому вопросительно-неопределенному К-местоимению) выполняет свою функцию самостоятельно или в сочетании с местоимениями и наречиями (т. е. типологически вполне соответствует русским асемантическим как или что ): вактē-ке ‘когда’, бахāтерē-ке ‘потому что’, бā-āн-ке , гар-че ‘хотя’ и др.
Как было сказано, специфика относительного подчинения заключается в том, что гипотактический показатель – относительное слово – находится в двойной синтаксической зависимости: оно подчиняется не только определяемому имени главной части, но и какому-либо члену придаточной части. В соответствии с этой второй синтаксической зависимостью относительное местоимение в русских конструкциях стоит в той или иной падежной (предложно-падежной) форме: Студент, который..., Студент, которому..., Студент, с которым и т. п. В языке дари соответствующие русским падежам значения выражаются посредством предлогов и послелога рā. Однако релятивная частица слово ке в дари с предлогами и послелогом не сочетается, поэтому она не может, подобно русским местоимениям который, что и др., самостоятельно замещать в составе придаточного определяемое существительное в функции косвенного дополнения или обстоятельства. В этих случаях используются дополнитель- ные анафорические местоимения ан ‘тот’, у ‘он’, а также энклитические формы местоимения 3-го лица -аш, -эшан, имеющие притяжательное значение.
Таким образом, гипотактический показатель ке в атрибутивных конструкциях фарси и дари может быть квалифицирован как относительное слово только в том случае, когда определяемое имя в составе придаточного исполняет (точнее, исполняло бы, если бы придаточное было оформлено как автономное простое предложение) функцию подлежащего или прямого дополнения -при условии, что прямое дополнение употребляется без послелога (между прочим, таковы же условия употребления относительного местоимения что в русских при-субстантивных определительных СПП: Книга , что лежит на столе... ; Книга, что я купил вчера ...). В других случаях функции «классического» относительного слова распределяются между двумя формантами: ке выступает как абстрактный гипотактический показатель, а анафорическую функцию выполняет дополнительное местоимение ( ан и др.). Ср.: Кетаб-ё ке дар ан матенха-йе делчасп аст мохаселин-е ан ра ба алака ме-хананд ‘Книга, в которой есть интересные тексты...’ (букв.: Книга что в ней есть интересные тексты...); Навесинда-йё ке хама у ра эхтерам мёконанд ... ‘Писатель, которого все уважают...’ (букв.: Писатель что его все уважают...); Устад-ё ке кетаб-аш дар хāредж таба шод дар пухантун кāр мко-нанд ‘Учитель, книга которого вышла за границей, работает в университете’ (букв.: Учитель что книга-его...); Зендаги пул-ё аст ке мёбаяд аз ан гузашт ‘Жизнь есть мост, через который надо пройти’ (букв.: Жизнь мост есть, что нужно через него пройти).
Данный способ релятивного подчинения не уникален. Аналогичные конструкции появляются в старославянском языке (только на базе I-местоимения), в котором гипотактический показатель формируется в процессе взаимодействия анафорического местоимения * i (и) и энклитики же, выступающей здесь как абстрактный гипотактический показатель. Можно сказать, что специфика способа подчинения в атрибутивных конструкциях старославянского и иранских языков имеет не столько типологический, сколько деривационный, или, так сказать, технологический, характер. Стремление энклитики же занять место в начале преди- кативной единицы приводит к морфологическому слиянию анафорического местоимения (и) и гипотактической частицы и к образованию относительных слов (иже, '~же, уже). Превратившееся в гипотактическую частицу К-местоимение в персидском, став энклитикой, сохраняет позицию на стыке предикативных единиц, а потому просодически сливается с антецедентом анафорической связи (т. е. с определяемым именем в составе главного предложения), но не с дополнительным местоимением (которое, кстати сказать, в придаточном не имеет строго закрепленного места).
И в русском языке, и в дари при определяемом существительном главной части может быть употреблено соотносительное слово (коррелят), в роли которого выступают указательные местоимения: тот , такой (последнее обычно соотносится с релятивным словом какой ) и ан , ченан ; например: Āн кетāб-ē ке ту мошвара-йе хāнданаш рā ба ман дади ... ‘Та книга, которую ты посоветовал мне прочитать...’; Ченан хава-йе гарм-ё ке дарин розха буд ... ‘Такая жаркая погода, какая стояла в этом году...’.
Следует отметить, однако, что для определительных конструкций дари корреляты менее характерны, так как в этих конструкциях при определяемом существительном почти всегда употребляется постпозитивный выделительный артикль - ё [Рубинчик, 1983. С. 843], выполняющий, по сути дела, ту же функцию, что и коррелят. Причем если в простом предложении постпозитивный артикль служит показателем неопределенности, то в сложном предложении с относительным придаточным он, напротив, имеет значение определенности (выполняет роль показателя темы) [Киселева, 1985. С. 65]; ср.: Мохаселин- е ке дар махфел- е дусти байāнйа дāданд дар груп-е мā дарс мē-хананд ‘Студенты, которые выступали на вечере дружбы, учатся в нашей группе’, где постпозитивный член при существительном махфел ‘вечер’ соответствует неопределенному артиклю. Отсутствие же артикля при определяемом существительном часто свидетельствует о том, «что придаточное сообщает сведения, относящиеся ко всему классу предметов [Рубинчик, 1983. С. 843].
В русском языке определительное придаточное может находиться по отношению к главной части как в интерпозиции, так и в постпозиции. Место придаточного зависит от актуального членения, обусловливающего положение антецедента (определяемого существительного), к которому относительное местоимение должно, по нормам русского синтаксиса, примыкать непосредственно. В языке дари атрибутивное придаточное также стремится непосредственно примкнуть к определяемому существительному, поэтому в нем чаще встречаются конструкции с интерпозицией придаточного; ср.: Намха-йе джайха ра ке шонида буд ба йад авард ‘Названия мест, которые когда-то слышал, вспомнил’; Дар мейан-е горух-е дохтарāн-е ке лебāсхā-йē сийāх ва чāдархā-йе сафид дāштанд йаки такрибан фарйāд мезад ‘Одна из группы девушек, которые были в черных платьях, кричала’.
Однако в современном дари нередки и постпозитивные придаточные. А так как для простого предложения дари характерен фиксированный порядок слов, при котором глагольное сказуемое (или связка именного сказуемого) стоит в конце, то в таких конструкциях относительное слово и антецедент располагаются, как правило, дистантно: Бар сар-е рōх-е шāн тōнел-ē буд ке ма’амулан тарик мебуд - букв. ‘На их дороге туннель был, который обычно темный бывает’; Садā-йē гореш-е занджирхā-йē тāнк аз бирун шонида шод ке дар кенāр-е дар-е воруди мактаб тавакоф кард - букв. ‘Грохот гусениц танка с улицы слышен был, который возле входной двери школы остановился’.
С позицией относительного слова связана еще одна характерная черта этого типа предложений в языке дари. В русском языке относительное местоимение (гипотактический показатель в СПП), будучи, так сказать, полноценным заместителем антецедента в составе придаточного предложения, в интонационном плане аналогично знаменательному слову, т. е. имеет самостоятельное ударение. Что касается языка дари, то в нем относительное слово давно утратило свойства просодически самостоятельного слова, превратившись в одних случаях в энклитику, в других - в проклитику. Так, если гипотактический показатель атрибутивного СПП стоит после определяемого существительного (фактически после выделительного артикля -е ), то он становится энклитикой, в результате образуется единая акцентная группа, состоящая из трех слов: определяемого существительного, постпозитивного артикля и относительного слова:
Кет ā б-ē-ке ба мошвара-йе ту хāндам хейли хушам амад ‘Книга, которую я прочитал по твоему совету, мне очень понравилась’ (букв.: книга-та-что...).
Относительное ке становится проклитикой, если стоит после глагола или после определяемого существительного с послелогом ра ; ср.: Сарадж джаван-е ра ке хамрахаш амада буд мо 'арефи кард - букв. ‘Сарадж юношу, который с ним пришел, представил’; Рофака гоша-йе ра энтехаб карданд ке-се тараф-е ан дивар буд ‘Друзья укрытие выбрали, в котором с трех сторон стены были’.
В относительных конструкциях с энклитическим гипотактическим показателем представлена качественно иная, чем в русском языке, структура. Ее особенность заключается в том, что гипотактический показатель (некогда относительное местоимение) интонационно включен в главную часть СПП, т. е. в ходе эволюции относительного подчинения в иранских языках показатель подчинения оказался как бы вытесненным за пределы придаточного. Произошла своего рода трансформация гипотактического СП в паратактическое. Поскольку относительное слово выходит за интонационные рамки придаточного предложения, оно, по сути дела, перестает быть таковым, превращается в особый формант, грамматическую частицу, функцией которой является указание на подчинительную связь с последующей синтагмой. От абстрактного подчинительного союза эта частица отличается тем, что она, строго говоря, не вводит придаточное (поскольку не входит в его состав). Если обычно показатель подчинительной связи является органичной частью подчиненного компонента, то в данном случае он включен в подчиняющую синтагму, является показателем доминации, а не подчинения.
Относительные конструкции с энклитическим гипотактическим показателем аналогичны изафетным атрибутивным сочетаниям, в которых показатель подчинения также принадлежит определяемому (подчиняющему) слову (ср.: хана-йе ^ падар ‘дом ^ отца’). Не исключено, что такая эволюция относительных СПП и была обусловлена действием аналогии со стороны изафетной конструкции, а также тем обстоятельством, что относительное К-место-имение утратило когда-то флексии, превра- тившись в неизменяемое служебное слово (абстрактный показатель подчинения), а для выражения анафорического отношения (без которого нет относительного подчинения как особого типа связи в СПП) в придаточном предложении появляется дополнительное местоимение.
Отсутствие в составе придаточного относительного слова сближает рассматриваемые предложения с паратактическими определительными конструкциями (оборотами apo koinu ), обычными в старорусских памятниках и в современной разговорной речи, ср.: Лошади , мерина рыжего , во лбе лысина , не проминивалъ ; Встретил знакомого , Иваном зовут ; Где рубашка , на день рождения подарила? В то же время от чистого паратаксиса новоперсидские конструкции отличаются наличием энклитики ке , пусть и слившейся с компонентом главного предложения. Подобные предложения, возможно, реализуют переходный этап на пути к новому паратаксису.
По мнению Ф. Е. Корша, «англо-скандинавские» конструкции типа The man I saw ‘Человек [которого] я видел’ отражают наиболее ранние этапы развития относительного СПП, хотя он и допускает возможность образования новых паратактических конструкций в английском и скандинавских языках путем пропуска относительного местоимения [Корш, 1877. С. 45, 51–52]. Аналогичную точку зрения на место апо-койнических оборотов в истории русских определительных предложений излагает А. А. Потебня [1968. С. 249–251]. Мнение А. А. Потебни разделяет большинство исследователей исторического синтаксиса (см., например: [Сумкина, 1954. С. 151–152; Стеценко, 1960. С. 212; Борковский, Кузнецов, 1963. С. 463–464].
Однако имеются определенные основания и для противоположного утверждения: атрибутивные конструкции вида На березу вверх кудревата являются наиболее поздними из всех паратактических вариантов определительных СП. Замечено, во-первых, что в памятниках русской письменности древнего периода паратактических конструкций без определяемого имени и без местоимения в придаточном существенно меньше, чем в поздних памятниках [Историческая грамматика, 1979. С. 103]. Конечно, увеличение частотности бессоюзных предложений в старорусских текстах может быть объяснено тем, что многие из них испытали большее влияние со стороны живой речи, чем древнейшие памятники [Борковский, 1972. С. 118]. Однако необходимо иметь в виду, что конструкции apo koinu по употребительности заметно превосходят предложения с повторяющимся существительным или анафорическим местоимением. Получается, что более поздние, по существующим представлениям, конструкции типа У меня у Федотка взяли чулки вязаные, а цена темъ чулкам 5 алт. денегъ редки и в XVII в., тогда как архаические структуры (Костка де Затирахин лошади, мерина рыжего, во лбѣ лысина, не проминивалъ) [Кунгурские акты, 1888. С. 7, 231] чем дальше, тем все больше употребительны. Подобную ситуацию, может быть, и не стоит расценивать как нечто исключительное или невероятное, однако объяснить ее все же непросто. Напротив, этот факт представляется достаточно естественным, закономерным, если исходить из представления, что конструкции без определяемого имени в паратактическом придаточном являются инновацией, стоящей в конце деривационно-генетической цепочки. Заметим, что по поводу относительных конструкций с К-местоиме-ниями, в зависимой части которых повторяется определяемое существительное, разногласий как будто нет: они считаются более древними по сравнению с конструкциями без определяемого существительного в придаточном (см., например: [Коротаева, 1960. С. 52]).
Изучая генезис определительных конструкций в русском языке, я объяснял паратактические конструкции типа Землю купилъ межа на березу пропуском повторяющихся компонентов (в соответствии с известным принципом экономии) исходной, паратактической же, структуры ( Землю ку-пилъ есмь , межа тоѣ землѣ на березу ) [Мишланов, 1987. С. 11–12].
Судя по всему, именно так интерпретирует М. И. Черемисина аналогичные определительные конструкции в алтайских языках. Ср.: «Определительная конструкция – это прекрасное формальное средство, позволяющее “компрессировать” информацию, сжать два предложения, говорящие о разных событиях, в одно предложение, представить две ситуации как одну… Этот синтаксический механизм связан с устранением из структуры итогового предложения вторичного называния общего компонента двух базовых предложений» [Черемисина, 1999. С. 14].
Конструкции, сформировавшиеся в новых иранских языках, возможно, представляют второй путь эволюции атрибутивных СП (вполне реализовавшийся в английском языке), в ходе которой относительные СПП теряют гипотактический показатель. Но для этого необходимы некоторые дополнительные условия, нечто, что способствовало бы пропуску относительного слова. Можно предположить, что одним из таких условий была все более усиливающаяся тенденция к аналитизму в иранских языках, в результате чего К-местоимение утратило флексии и самостоятельное ударение, превратившись в итоге в энклитическую частицу.
Можно предположить, что со смещением интонационной границы между главным и придаточным предложениями связана и другая характерная черта определительных конструкций в языке дари, а именно: какой-либо компонент главной части при определенных условиях грамматически оформляется как член придаточного, в результате чего происходит смещение и формальнограмматической границы между частями, а лучше сказать, граница эта как бы размывается, как это имеет место в конструкциях apo koinu . Указанный процесс имеет место в том случае, если определительное придаточное интерпозитивно и стоит непосредственно после определяемого существительного (после выделительного артикля). Ср.: Дар шахр-ē ке мā зендаги мēконим дар со-хел-е бахр карāр дāрад ‘Город, в котором мы живем, стоит на берегу моря’ (букв.: В городе-что мы живем стоит на берегу моря). Разумеется, здесь может быть употреблена «обычная» модель, с которой синтаксические позиции частей СП не смешиваются, но тогда в зависимой части должно быть употреблено дополнительное анафорические местоимение: Шахр-ē ке мā дар āн зендаги мēконим дар сохел-е бахр карāр дāрад.
Определительные конструкции с повторяющимся в составе придаточного определяемым существительным (ср.: Который мальчик разбил стекло, того мальчика не видел; Мальчика не видел, который мальчик разбил стекло), распространенные в древности, в литературном русском языке отсутствуют, но встречаются в русской разговор- ной речи (в диалектах и городском просторечии). Аналогичные конструкции отмечены и в разговорном фарси-кабули (ср.: Йак зан герефт ке у зан бадранг буд – букв. ‘На женщине женился, которая женщина некрасивая была’) [Фархади, 1974. С. 205]. Причины повторения антецедента в составе придаточного кроются не только в ослаблении анафорической функции у гипотактического показателя ке, но и в линейном разрыве между относительным словом и определяемым существительным (заметим, что и в русском языке определяемое имя при относительном местоимении встречается обычно при препозиции придаточного, когда антецедент и относительное слово по необходимости оторваны друг от друга). Кроме того, имеет значение и то, что в предложениях с дублированием определяемого существительного оно особо выделяется, коммуникативно акцентируется.
СПП с приместоименными относительными придаточными в языке дари гораздо меньше противопоставлены по грамматическим признакам присубстантивным конструкциям, чем в русском языке. В обоих языках можно выделить три разновидности таких конструкций – «личные» ( тот , кто ... – āн кас-ē ке ...), «предметные» ( то , что ... – āн чиз-ē ке ...) и «пропозитивные», в которых Т-К-скрепа семантически соотносится с пропозицией ( то , что ... – āн кāр-ē ке ): Патриот – это тот , кто хорошо работает – Ватанпараст āн кас-ē аст ке хуб кāр мēконад ; То , что мне подарили , всем очень понравилось – Чиз-ē ке ба ман тохфа дāданд хама хейли хуш карданд ; Он не сделал того , что ему поручили – Āн кāр-ē ке барайаш сопорданду эджра на кард.
Коррелятивному Т-местоимению в русских «личных» местоименно-соотносительных СПП в аналогичных конструкциях дари и фарси соответствует местоименное сочетание (āн) кас-ē: Āн кас-ē ке зейāд захмат мēкошад хуб дарс мēхāнад ‘Тот, кто много занимается, хорошо учится’. В других контекстах местоимение кас употребляется как неопределенное (эквивалент квантора существования); ср.: Кас-ē дирōз мēāмад ‘Кто-то вчера приходил’. Буквально оборот āн кас-ē ке значит ‘тот кто-то, кто...’, при этом плеонастическое āн часто просто опускается. В обоих языках в позиции определяемого субстантива могут стоять обобщенные местоимения (кванторы общности): Хар-ки зейāд захмат мēкашад... ‘Каждый, кто много занимается...’ Полагают, что в этой конструкции показатель подчинения слился (в результате ассимиляции и гаплологии) с кванторным местоимением: хар-ки-ке → хар-ки-ки → хар-ки.
«Предметные» и «пропозитивные» местоименно-соотносительные СПП в русском языке формально не различаются ( То , что я искал , лежало на самом виду – То , что смутило Марию , на Ивана не произвело никакого впечатления ), в языке дари эти семантические разновидности СПП, как явствует из приведенных примеров, противопоставлены средствами подчинительной связи – коррелятами, в роли которых выступают «прономинальные» существительные кāр ‘дело; действие’ и чиз ‘вещь, предмет’.
В приместоименных относительных СПП, как и в присубстантивных, в случае, когда частица ке замещает антецедент в позиции косвенного дополнения, функции относительного слова распределяются между гипотактическим показателем ке и анафорическим местоимением āн : Чиз- ē ке ман та-васот-е у кāр мēконам ... ‘То, чем я работаю...’ (букв.: Предмет что я посредством его работаю...). При этом и здесь формально-грамматическая граница между предикативными частями нередко стирается (когда антецедент относительной связи оформляется как компонент придаточного предложения): Ба ( āн ) кас-ē ке ман дирōз дар инджā малāкāт кардам эмрōз наāмад ‘Тот, с кем я здесь вчера встретился, сегодня не пришел’ (букв.: С неким тем что я встретился сегодня не пришел); ср.: ( Āн ) кас-ē ке ба у малāкāт кардам ... ‘Тот некто что я с ним встретился... ’; Дар бāрайе āн чиз-е ке мā харф мēзадим хейли мохем аст ‘То, о чем мы говорили, очень важно’ (букв.: О том предмете что мы говорили, очень важен есть); Чиз-ē ке дар бāрайе āн мā харф мēзадим хейли мохем аст – букв. ‘Предмет что о нем мы говорили очень важен есть’.
Местоименный комплекс главной части, так же как и определяемое существительное в присубстантивных относительных СПП, содержит выделительный постпозитивный артикль - ē , причем и в этих конструкциях выделительный артикль ставится даже тогда, когда вместе с «прономинальными» существительными кāр , чиз и местоимением кас употреблен коррелят āн , тоже выполняющий выделительную функцию.
Если присубстантивные относительные предложения вводятся только частицей ке , то приместоименные придаточные могут присоединяться и посредством гипотактического показателя че , причем всегда с коррелятивным āн или хар [Рубинчик, 1983. С. 842]; ср.: Āн-че ( хар-че ) мēгуи сахих аст ‘То (все), что ты говоришь, верно’. Это объясняется тем, что неизменяемое слово че не может самостоятельно выступать в роли субстантива, быть, подобно русскому что , членом придаточного предложения (можно сказать, что у относительного слова че его релятивные свойства уже «выветрились»). В русском языке, в разговорной речи, Т-ме-стоимение может быть опущено ( Что искал весь день , на самом виду лежало ; Кто приходил вчера , мне не знаком ).
Итак, СПП с относительными придаточными в русском языке и дари характеризуются следующими отличительными признаками.
-
1. В русском языке в роли гипотактического показателя (относительного слова) выступают местоимения который , какой , что , каков , чей , а также относительные наречия где , куда , откуда , когда ; в языке дари в этой функции используется релятивная частица ке , выступающая в других типах гипотактических СП в качестве асемантического союза.
-
2. Русские относительные местоимения имеют весьма широкий набор беспредложных и предложных форм, в фарси и дари относительное слово (аналог относительного слова) с предлогами не сочетается.
-
3. В сравниваемых языках при определяемом существительном в главном предложении могут быть употреблены корреляты ( тот , āн ), однако для определительных конструкций в новых иранских языках соотносительное слово менее характерно. Яркой специфической чертой этих языков является то, что при определяемом существительном независимо от наличия или отсутствия коррелята, как правило, имеется постпозитивный выделительный артикль.
-
4. И в русском языке, и в дари определяемое существительное (антецедент относительного слова) стоит рядом с гипотактическим показателем. Это обусловливает тот факт, что в языке дари, в котором порядок слов фиксированный, конструкции с интерпозитивными придаточными преобладают. СПП с постпозитивными придаточными в
-
5. Относительная связь (т. е. гипотактическая и анафорическая одновременно) между придаточным и определяемым субстан-тивом главного в русском языке реализуется посредством согласования в роде и числе (а также контактным расположением компонентов, реализующих синтаксическую связь). Кроме того, относительное слово, заполняя ту или иную синтаксическую позицию в придаточном, стоит в определенной падежной или предложно-падежной форме. Относительная связь в дари реализуется как примыкание. Поскольку релятивная частица ке не сочетается с предлогами и послелогом, в дари в известной мере вынужденно в состав атрибутивного придаточного включается дополнительное подчинительное местоимение с каким-либо предлогом. В подобных случаях синтаксические функции русского относительного местоимения который в языке дари распределяются между двумя словами – ке и āн .
-
6. В русском языке относительное местоимение атрибутивных придаточных в просодическом плане тождественно знаменательному слову (существительному, им замещаемому), тогда как в языке дари относительное слово является либо энклитикой (чаще всего, по-видимому), либо проклитикой. Новоперсидские конструкции с энклитической релятивной частицей представляют особый структурный тип относительных СПП, который может быть квалифицирован как переходный этап на пути к новому паратаксису.
-
7. В русском языке граница между главным и придаточным четко обозначена не только интонационно, но и в формальнограмматическом плане. В языке дари в аналогичных конструкциях какой-либо компонент главной части в некоторых условиях грамматически оформляется как член придаточного предложения (как валентность предиката придаточной части), вследствие чего ритмико-интонационная и поверхност-
- но-синтаксическая граница между частями СПП размывается.
русском языке не менее употребительны, чем конструкции с интерпозитивными придаточными, поскольку нет запретов на контактное расположение антецедента и относительного местоимения. Что касается языка дари, то в нем относительная частица при постпозиции придаточного не может контактировать с определяемым субстанти-вом, так как в конце главного предложения, как правило, помещается глагол.
COMPLEX SENTENCES WITH ATTRIBUTIVE SUBORDINATES
IN RUSSIAN AND DARI LANGUAGES
Список литературы Сложноподчиненные предложения с определительными придаточными в русском языке и дари
- Борковский В. И. Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Бессоюзные сложные предложения, сопоставляемые со сложноподчиненными. М.: Наука, 1972.
- Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. М.: Наука, 1963.
- Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Сложное предложение / Под ред. В. И. Борковского. М.: Наука, 1979.
- Киселева Л. Н. Язык дари Афганистана. М.: Наука, 1985.
- Коротаева Э. И. Союзное подчинение в русском литературном языке XVII в. М.; Л.: Наука, 1964.
- Корш Ф. Е. Способы относительного подчинения. Глава из сравнительного синтаксиса. М., 1877.
- Костомаров В. Г., Митрофанова О. Д. Методика как наука. Ст. 2. Методическая проблематика двуязычия // Русский язык за рубежом. 1979. № 6.
- Кунгурские акты XVII века (1668-1699 гг.). Изд. А. Г. Кузнецова / Ред. А. А. Титов. СПб., 1888.
- Мишланов В. А. Генезис и деривация СПП с определительными придаточными в древнерусском языке: Автореф. дис.. канд. филол. наук. Свердловск, 1987.
- Мохамад Рахим Āлахāм. Руш джадид дар тахкик дастур зобāн дари. Кāбул, 1339 (1961 по христианскому летоисчислению).
- Поспелов Н. С. О грамматической природе сложного предложения // Вопросы синтаксиса современного русского языка. М.: Учпедгиз, 1950. С. 321-337.
- Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. М.: Просвещение, 1968. Т. 3.
- Рубинчик Ю. А. Грамматический очерк персидского языка // Персидско-русский словарь. М., 1983. Т. 2.
- Сумкина А. И. К истории относительного подчинения в русском языке XIII-XVII вв. // Тр. Ин-та языкознания АН СССР. 1954. Т. 5. С. 139-202.
- Стеценко А. Н. Сложноподчиненное предложение в русском языке XIV-XVI вв. Томск, 1960.
- Фархади Р. Разговорный фарси в Афганистане. М.: Наука, 1974.
- Черемисина М. И. О некоторых типах определительных конструкций, не вполне отвечающих понятию сложного предложения // Языки коренных народов Сибири. Новосибирск, 1999. Вып. 6. С. 3-19.