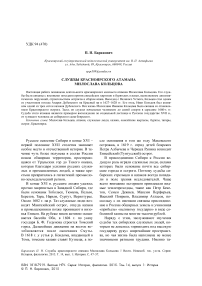Службы красноярского атамана Милослава Кольцова
Автор: Барахович Павел Николаевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Настоящая работа посвящена деятельности красноярского казачьего атамана Милослава Кольцова. Его службы были связаны с военными походами против енисейских киргизов и бурятских племен, выполнением дипломатических поручений, строительством острогов и сбором ясака. Выходец с Великого Устюга, Кольцов стал одним из участников похода Андрея Дубенского на Красный яр в 1627-1628 гг. Его отец, Иван Кольцов был атама-ном одной из трех сотен казаков Дубенского. Вся жизнь Милослава Иванова Кольцова была связана со становлением Красноярского острога. Здесь он служил начальным человеком до самой смерти в середине 1660-х гг. Судьба этого атамана является примером восхождения по социальной лестнице в Русском государстве XVII в., от гулящего человекадо сибирскогосына боярского.
Милослав кольцов, атаман, служилые люди, казаки, енисейские кыргызы, буряты, татары, острог, красноярск
Короткий адрес: https://sciup.org/147219230
IDR: 147219230 | УДК: 94
Текст научной статьи Службы красноярского атамана Милослава Кольцова
Русское освоение Сибири в конце XVI – первой половине XVII столетия занимает особое место в отечественной истории. В течение чуть более полувека в состав России вошла обширная территория, простирающаяся от Уральских гор до Тихого океана, которая благодаря усилиям русских служилых и промышленных людей, а также крестьян превратилась в гигантский промыслово-земледельческий регион.
В конце XVI в. русским людям удалось прочно закрепиться в Западной Сибири, где были основаны Тобольск, Тюмень, Пелым, Березов, Тара, Нарым, Сургут, Верхотурье. Около 1602 г. на р. Таз служилые люди возводят Мангазейский острог, откуда казаки и промышленники позже проникают в низовья Енисея. На рубеже веков активно осваивается бассейн Оби, в 1604 г. по указу государя Б. Ф. Годунова строится Томский город. Дальнейшее движение на восток возобновляется после окончания Смуты. В 1618 г. у устья р. Кондома, впадающей в Томь, томские казаки ставят Кузнецк, а по- сле основания в том же году Маковского острожка, в 1619 г. отряд детей боярских Петра Албычева и Черкаса Рукина возводит Енисейский (Тунгусский) острог.
В присоединении Сибири к России ведущую роль играли служилые люди, силами которых были основаны почти все сибирские города и остроги. Поэтому судьбы сибирских стрельцов и казаков всегда попадали в поле зрения исследователей. Чаще всего внимание историков привлекали видные землепроходцы, такие как Петр Бекетов, Семен Дежнев, Максим Перфирьев, Василий Поярков, Владимир Атласов, поскольку с их именами связаны присоединение к России обширных земель и учиненная «прибыль» «великому государю» в виде соболиной казны на многие тысячи рублей.
Наряду с этим, заслуживают изучения судьбы тех сибирских служилых людей, которым не довелось «приводить под высокую государеву руку» широчайшие пространства, но чья жизнь была наполнена не менее значимыми ратными трудами. Именно та-
Барахович П. Н. Службы красноярского атамана Милослава Кольцова // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 1: История. С. 47–57.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 1: История
ким человеком является герой настоящего очерка, казачий атаман Красноярского острога Милослав Иванов сын Кольцов.
Деятельности служилых людей Красноярского острога посвящена обширная литература. О становлении этой служилой корпорации писал уже Г. Ф. Миллер [2000]. Впоследствии обращение историков к фондам Сибирского приказа позволило значительно дополнить картину, обрисованную Миллером. В работах А. П. Окладникова [1937], С. В. Бахрушина [1955; 1959] и В. А. Александрова [1964] уделялось пристальное внимание отношениям красноярского служилого мира с енисейскими кыр-гызами и бурятами, а также хозяйственной деятельности казаков и их социальной характеристике. Русско-кыргызские отношения в XVII в. специально изучали такие исследователи, как Н. Н. Козьмин [1926], Л. П. Потапов [1959], К. Г. Копкоев [1959], А. А. Арзыматов [1966] и А. Н. Абдыкалыков [1968], Г. Ф. Быконя [1981], В. Я. Бутанаев [1995], Л. И. Шерстова [2005], В. К. Чертыков [2007], А. А. Бобров и Ю. С. Худяков [2008].
Южнее Енисейского острога в бассейне р. Кача располагалась Тюлькина землица (названа русскими источниками по имени местного «князца» Тюльки). В ней проживали относительно многочисленные племена, позже именуемые в русских источниках качинцами, аринцами и ястынцами. Согласно «распросным речам» казака Давыдки Городчикова, в Тюлькиной волости к 1618 г. было 250 взрослых мужчин, способных выплачивать ясак [Миллер, 2000. С. 284]. Воеводы Кетского, Томского, Кузнецкого и Енисейского острогов без особого успеха с 1607 г. предпринимали попытки объяса-чить тамошнее население [Бахрушин, 1959. С. 15].
Енисейский острог с его малочисленной служилой корпорацией оказался уязвимым от «немирных землиц», на что в приказе Казанского дворца указывал бывший енисейский воевода Я. Хрипунов в 1626 г. 1 В этом же году в Москве узнали об отъезде из-под Енисейска остяцкого «князца» (он же числился в Енисейском остроге «тунгусским» толмачом) Тымки со своим улусом, которого подговорили это сделать «тюлькинские люди». Такие события заставили енисейско- го воеводу Андрея Ошанина спешно строить новые укрепления острога, в которых он «сидел в осаде болши двенацати недель с великим бережением» 2.
Под влиянием всех этих факторов возникла идея строительства острога на р. Ка-че. Я. Хрипунов в своей отписке 1625 г. сообщил в Москву, что посланный им сын боярский Андрей Дубенский «присмотрел» «в новой Качинской землице на Енисее на яру место угоже, высоко и красно, и лес близко всякой есть, и пашенных мест и сенных покосов много, и государев де острог на том месте поставити мочно» [СГГД, 1822. С. 300]. Эта инициатива сразу нашла в Москве поддержку, однако организация экспедиции затянулась до 1627 г.
Согласно государеву указу, острог было решено ставить силами новоприборных служилых людей. Для этого в городах Западной Сибири намечалось «прибрати четыре человека атаманов да четыреста человеков казаков». Походом было поручено руководить уже упомянутому сыну боярскому А. Дубенскому. В 1627 г. тобольские воеводы во главе с князем А. Хованским сообщили, что для похода в Тобольске, Тюмени и Верхотурье удалось набрать только 300 казаков и трех атаманов (каждый атаман возглавлял казачью сотню) [Там же. С. 303] 3.
Будущими красноярскими атаманами стали Иван Федоров сын Астраханец, Ермак Астафьев и Иван Елфимов сын Кольцов. В числе трех сотен служилых было трое сыновей атамана Кольцова – Милослав, Родион и Никифор. Очевидно, набирали в службу людей, уже имевших боевой опыт. Так, например, служилый человек Севастьян Самсонов в 1654 г. вспоминал, что задолго до красноярской службы он уже был участником боев с бандами атамана Баловня весной 1615 г. на территории Белозерского уезда [Миллер, 2000. С. 628]. Возможно, Иван Кольцов и его сыновья также не являлись новичками в ратном деле.
По данным В. А. Александрова, Милослав Кольцов, уже будучи красноярским сыном боярским, вывез в свой острог из Великого Устюга двух племянников [1964. С. 125]. Данный факт позволяет предположить, что происхождение семьи Кольцовых связано с этим крупным торгово-ремесленным центром.
Отряд Дубенского отправился из Тобольска для строительства нового острога в июне 1627 г. Перед этим служилым людям было выдано жалованье в 3 138 руб., 3 384 чети муки ржаной и 636 четей «круп и толокна». В Тобольске они получили 206 копий, одну полковую двухфунтовую пищаль и 25 железных ядер к ней, а также «пушечные запасы» – 40 пудов пороха и 20 пудов свинца. В Енисейске планировалось изготовить еще 94 копья и взять затинную пищаль с сотней «пулек» к ней. Каждому новоприборному казаку было выдано по полфунта пороха и по полфунта свинца для огнестрельного оружия 4.
Служилые люди продвигались вверх по Иртышу, а потом по обскому руслу до Кети. Поздней осенью удалось достичь Маковского острога, откуда в течение полной тягот зимы перевозили через волок запасы в Енисейск [Бахрушин, 1959. С. 21]. К маю 1628 г. в Енисейске была завершена подготовка похода в Тюлькину землицу, причем, часть речных судов казакам Дубенского пришлось покупать на личные средства 5.
В отписке от 1 июля 1628 г. Андрей Дубенский сообщил тобольским воеводам, что 17 мая отплыл из Енисейска вверх по Енисею 6 . Позже красноярские казаки вспоминали, что путь из Енисейска до «Большова порогу» занял на «грузных дощаниках» три недели. Преодоление порога, названного позднее Казачинским, потребовавшее выгрузки запасов на берег, заняло две недели. От порога казаки шли до Красного яра «бережно и осторожливо» еще три недели. На ночлегах «по лесным местам» они делали засеки, а в чистом поле ставили «городки дощаные», дабы оградить себя от возможных нападений 7.
Во второй половине июля 1628 г. Дубенский, наконец, прибыл на Красный яр и начал ставить острог на правом берегу Качи у места впадения ее в Енисей. Казаки оборудовали временное укрепление, защищенное надолбами, и расчистили часть берега под «судовое пристанище», проход к которому до своего укрепления также оградили надолбами 8.
Атаман Иван Кольцов с отрядом заготовил 1 200 сосновых и березовых «слег больших» (бревен), из которых были построены острожные стены, две проезжие башни с теплыми «караульнями», а также амбар для хлебных запасов, съезжая изба, тюрьма, воеводский двор и баня 9. Вероятно, сын атамана Милослав принимал самое деятельное участие в заготовке материалов и строительстве нового острога.
Тем временем, местные «иноземцы» попытались помешать строительству. Двадцать шестого июля «качинские, аринские и чюлымские татарове приходили к острогу войною в куяках и в пансырях». Произошел бой, в ходе которого было ранено двое служилых людей. Судя по последующей челобитной казаков, «иноземцы» претерпели урон «и с тое поры те качинские и аринские и тюлькинские мужики все покочевали от острогу прочь в степь вверх по Енисею реке» [Миллер, 2000. С. 61, 397] 10. Тех арин-цев и качинцев, которые не успели отъехать, «на пашнех» настиг и погромил атаман Ермак Астафьев 11.
Постройка острога завершилась сооружением внутри него зимовий, каждое из которых было рассчитано на проживание 10 чел. Первоначально острог именовался Красным (что, очевидно, было связано с живописностью места его расположения) или Качинским, в последующем – Красноярским.
Теперь граница русских владений в Центральной Сибири значительно продвинулась на юг вдоль Енисея и почти вплотную подошла к землям енисейских кыргызов и ту-бинцев. Кыргызские улусы располагались на территории, простирающейся от Черного Июса до левого берега Енисея – с запада на восток, а с севера на юг от рек Сереж и Ужур до предгорий Саян. Тубинцы проживали на правом берегу Енисея по р. Туба (Упса).
Новый острог на Красном яру, вошедший в состав созданного в 1628 г. Томского разряда, стал серьезной угрозой кыргызскому доминированию в регионе [Дворцовые раз- ряды…, 1851. С. 16]. Уже 16 августа 1628 г. Дубенский отправил вверх по Енисею Ивана Кольцова и 140 служилых людей, среди которых находился и сын атамана Милослав. Служилые люди «кыргизов и аринцев и ка-чинцев и иных землиц людей воевали и многих побили и язы[ки] поимали» 12. В походе русские взяли знатную пленницу, кыргызскую княгиню «именем Кулера, кыргы-ским князем князю Ишею теща, а князю Ишенеку тетка». Милослав Кольцов отличился в походе 1628 г. тем, что «убил под мужиком коня да мужика взял жива» 13.
После похода Ивана Кольцова качинцы и аринцы изъявили желание быть в русском подданстве и постепенно начали возвращаться под Красный острог. Вероятно, уже к сентябрю 1628 г. «аринской князец Татуш государю добил челом и вину свою покрыл, и в оманаты сына своего дал и лутчева мужика Кубеянова сына же своего в омана-ты дал» [Миллер, 2000. С. 399]. В апреле 1629 г. правительство решило наградить красноярских казаков деньгами, а также освобождением от пошлин с купли и продажи товаров на 5 лет [Там же. С. 412]. С наградой на Красный яр поехал первый воевода Архип Федорович Акинфов.
Вскоре Милославу Кольцову предстояло выполнять дипломатическое поручение. Первого марта 1629 г. вместе с казаками Никитой Хохряковым, Оничкой Андреевым и Ивашкой Бабушкиным он отправился к кыргызским князьям Ишею (который в то время являлся старшим князем), Табуну и Ишенеку с предложением дать шерть (принести присягу) русскому государю в Красноярском остроге и платить ему ясак. В результате этой поездки склонить кыргызов к подчинению не удалось, однако посланцы смогли собрать много ценных сведений о своем противнике [Там же. С. 409, 410].
Последующие события 1629 г. стали для красноярских служилых людей катастрофичными, а для семьи Кольцовых обернулись трагедией.
В начальный период своего существования Красноярский острог снабжался хлебом преимущественно из Тобольска. Поэтому хлебные запасы должны были проделать длинный путь на судах по Иртышу, Оби и Кети, после чего из Маковского острожка через волок их надо было доставить в Енисейск, откуда вверх по Енисею они попадали на Красный яр. До Маковского острожка запасы везли тобольские служилые люди, транспортировка через волок была обязанностью енисейских жителей, а уже из Енисейска в Красноярский острог хлеб возили красноярцы. Нередко из-за суровых погодных условий и отсутствия рабочих рук запасы не поспевали вовремя. Так произошло и в 1629 г., что стало причиной голода и бунта в Красноярске.
Летом 1629 г. атаман Иван Кольцов ездил в Енисейск за жалованьем для красноярцев, но смог привезти в свой острог только денежную казну. Дубенский принял у него деньги, а самого из съезжей избы «выслал вон». После этого казаки Офонька Пу-тимец, Федька Псковитин, Ивашка Халдей, Онашка Васильев «с товарыщи», возложив на атамана вину за то, что в острог не были доставлены «хлебные запасы», «от съезжие избы Ивана Колцова поволокли на площадь, били его ослопы и поволокли за острог и, убив до смерти, вкинули в Качу реку». Добил полуживого Кольцова ударом кочерги казак Семенка Елисеев сын Серой [Миллер, 2005. С. 132–137]. По окончании кровавой расправы казаки заставили Дубенского «отпустить» их на «службу на реку Тунгуску» (Ангару) 14.
Сыновья Ивана Кольцова не разделили страшной судьбы отца. После его смерти Милослав, Родион и Никифор остались в Красноярске.
«Воровство» красноярцев дало повод енисейским казакам просить Москву об упразднении Красноярского острога. Важным аргументом в пользу этого оказался и тот факт, что местные казаки собрали мало ясака с окрестных «иноземцев». В результате правительство едва не ликвидировало новый острог [Бахрушин, 1959. С. 26, 27].
Свои ратные службы Милослав Кольцов продолжил при первом красноярском воеводе А. Акинфове. С 25 февраля по 10 марта 1631 г., будучи казачьим десятником и войсковым есаулом, он участвовал в походе против бохтинских и боклинских людей, ранее нападавших на аринцев и качинцев. Русский отряд численностью около 50 чел. возглавил пятидесятник Захарка Игнатьев. Казаки шли вверх по Енисею девять дней и в десятый день на «реке на Сисме» обнаружили неприятелей. Шестого марта 1631 г. «бохтинские и яренские воры», собравшись «вскопе болши полутораста человек», отклонили предложение перейти в русское подданство и вступили в бой с красноярцами. В сражении, которое шло «с утра до вечера», казаки одержали верх, а «изменники» потеряли убитыми 25 чел. 15 В этой «драке» Кольцов «под мужиком коня убил и языка жива взял», а также получил ранение 16. Как видим, несмотря на гибель Ивана Кольцова от рук сослуживцев, его сын пользовался авторитетом среди казаков, что позволило ему занять выборную должность «ясаула» – представителя казачьей массы перед лицом начальных людей. Не исключено, что казаки, выбирая Милослава «ясаулом», пытались загладить перед родом Кольцовых свою вину.
По окончании похода Милослав Кольцов направил царю две челобитные о своих службах в 1628 и 1631 гг., прося надлежащим образом за них пожаловать. Чтобы воздать Кольцову по заслугам, в приказе Казанского дворца была сделана специальная выписка. Этот ценный документ дает представление о правилах разового денежного награждения сибирских служилых людей. Как следует из его текста, в 1632 г. казакам Томского города за убитого или взятого в плен мужика, а также за рану полагалось по одному рублю, за убитую под врагом лошадь и за «явственный бой» – по полтине. Милославу Кольцову, как казаку из острога Томского разряда, «за дву мужиков взятых да за раны» было дано 3 рубля и за двух убитых под врагами лошадей еще один рубль, всего – 4 рубля 17.
Очевидно, что в бытность Милослава Кольцова рядовым казаком и казачьим десятником ему приходилось выполнять обычные для такого рода служилых людей задачи, как охрана острожной стены, при-ставство при аманатской избе, участие в экспедициях за ясаком, а также служба в «отъезжих караулах», которые стерегли дальние подступы к Красному яру.
Из отписки нового красноярского воеводы Никиты Карамышева, полученной в Москве в декабре 1634 г., мы узнаем, что в
1633 г. Милослав Кольцов уже был атаманом, что свидетельствует об усилении его значения в красноярской служилой среде. Двадцатого сентября 1633 г. он ходил в Канское зимовье (основано еще в 1629 г.) для ясачного сбора и, вернувшись со службы, принес тревожные вести о нападениях братских «князцов» на ясачных канских татар 18.
В скором времени активизировались ту-бинцы. Тубинский «лучший человек» Сеит-ка и кашинец Теребейка (Терепкей) побили ясачного «князца» Адебру и 30 его улусных людей. В ответ на этот набег, 16 июня 1634 г., атаман Милослав Кольцов был послан в конный поход со служилыми людьми и татарами «на Иженеев улус, на кашинских мужиков». Двигаясь по правому берегу Енисея, красноярский отряд смог довольно далеко продвинуться вглубь неприятельской территории. Двадцать шестого июня он достиг Упсы (Тубы), где «побил» немирный улус. Кольцов в том бою «бился явственно и убил лутчево князца Терепкея», после чего отправился в Красноярск. На этом вооруженные столкновения не закончились, ибо тубинцы и «моторцы» бросились в погоню за казаками и татарами Кольцова «и зашод-чи наперед, ждали их у Камени» 19 . Как вспоминали потом красноярцы, они столкнулись с тубинцами «на дороге на четвертом днище от погрому», после чего произошел упорный бой, в ходе которого казаки «на великую силу» отбились от врагов. Ту-бинцам удалось отнять ясырь и отгонный скот, убив при этом четырех красноярских казаков 20.
Почти сразу после возвращения Кольцова с «тубинской службы» ему и остальным служилым людям Красноярска пришлось испытать на себе всю силу кыргызских владетелей. Кыргызы, «собрався со многими землицами мунгалы и тубинцы и моторы и кашинцы», общей численностью до тысячи человек, «конные и плавною в лотках» 11 августа 1634 г. явились под острог. На пашнях, сенокосах и рыбных ловлях они побили 12 казаков, четырех «опальных» (ссыльных) литовцев и русских, 30 пашенных крестьян и 40 ясачных людей. Кыргызы сожгли сжатый хлеб и сено, а посевы вытоптали свои- ми конями. Четыре дня кыргызское войско приступало к острогу, в котором было всего-навсего 120 казаков. Несмотря на столь скромные силы, защитники Красноярска «острог и слободы уберегли и стад отогнать не дали» [Александров, 1964. С. 46] 21. До конца года кыргызы, тубинцы и их кышты-мы еще трижды совершали набеги на Красноярский уезд. В ходе одного из них, в декабре 1634 г., в Котовской землице представитель тубинской родовой верхушки Се-итка со своими людьми побил девять красноярских ясачных сборщиков 22.
На фоне этих событий Москва проводила мероприятия по повышению обороноспособности красноярского гарнизона. Четырнадцатого января 1635 г. в острог пришла долгожданная государева грамота, в соответствии с которой из представителей местного служилого мира была набрана конная сотня, которую возглавил Дементий Злобин 23 . Милослав Кольцов, таким образом, продолжил служить командиром пешей сотни красноярцев.
Походы кыргызов и тубинцев на Красноярский уезд в 1634 и 1635 гг. привели к тому, что многие ясачные землицы были основательно разорены и лишились значительной части своих жителей. Как сообщал в Москву красноярский воевода Ф. Мяки-нин, Камасинская, Кашинская, Буклинская, Алыцкая, Бирюсская и Огунская землицы вовсе вышли из подчинения русских властей и перестали давать ясак 24.
Служилым людям Красноярска пришлось приложить немало дипломатических и военных усилий, чтобы вернуть вышедших из подчинения «иноземцев» в русское подданство. Двадцатого октября 1635 г. наводить порядок по р. Кан отправился Милослав Кольцов. Через шесть дней он вернулся в Красноярск, где отчитался о том, что сыскал котовских и осанских людей и привел их под «царскую высокую руку». С собой атаман привез трех котовских татар и ясачную казну. Воевода выдал котовцам «государево жалованье» по пять аршин зендени 25 и указал призывать обратно в царское под- данство бежавших в Тубу сородичей. Эти татары 3 декабря 1636 г. были отправлены восвояси в сопровождении красноярских казаков 26.
Следующая служба Кольцова была связана также с землицами по р. Кан. Красноярский воевода Ф. Мякинин понимал, что прочно утвердиться там невозможно без поставления острожка. Поэтому в конце лета 1636 г. Кольцов с казаками пошел водным путем для исполнения воеводского замысла и уже осенью этого года «вверх по Кану реке пониже Братцкова перевозу» поставил новый острожек. В результате котовские, камасинские и иные татары «учинились покорны» и дали ясак. Вскоре в Канской земле в очередной раз появился лихой тубинец Сеитка, но на этот раз от Кольцова ему уйти не удалось. Служилые люди с помощью местных «иноземцев» сумели изловить «ведомого вора» и посадить в Канском острожке «за караулы» 27.
Десятого декабря 1636 г. канские «княз-цы» Таян и Именек предложили атаману совершить поход на братских кыштымов, на «Инхологотцкую землю на оленных людей», поскольку те регулярно нападали на их владения 28. Новое военное предприятие не нашло поддержки среди красноярских казаков, тем не менее Кольцов смог убедить Мякинина отправить к нему на помощь атамана Емельяна Тюменцова с 90 русскими служилыми людьми. В походе также приняли участие трое аринских и 20 канских татар. По мнению Милослава Кольцова, до новой землицы от Канского острожка было «ходом дней десять или девять» 29.
Красноярские служилые, так и оставшиеся противниками похода, избрали войсковым «ясаулом» казака Дружинку Сидорова. Среди инициаторов избрания Сидорова был один из «ведомых» убийц Ивана Кольцова казак Ивашка Халдей. Поэтому неспроста Милослав Кольцов позже называл зачинщиков конфликта с ним «отца моего голодные убойцы» 30.
Выступив в поход, Кольцов почти сразу же натолкнулся на противодействие казаков, которые «учали круги заводить и ворочать назад». Когда экспедиция добралась до ясачной Пеленгутцкой земли (район р. Ту-маншет, левого притока Бирюсы), разразился настоящий бунт. Сидоров собрал казаков и принялся атамана «бранить с своими товарищи всякою неподобною бранью» и угрожать расправой. В результате канские татары покинули войско и вернулись в свои улусы 31.
Милослав Кольцов отличался упорством в достижении поставленных целей, и поэтому даже страшные угрозы разгневанных ратников не смогли заставить его отказаться от начатого дела. Выбрав в качестве «подлинного вожа» (проводника) братского кыштыма Торончейка, атаман отправился «наперед для поспешения» вместе с тридцатью казаками, двумя аринскими татарами и одним котовцем. Видимо, ему удалось дойти до кочевий «инхологотцких людей» (район речки Тагул, что впадает в Бирюсу), однако самих жителей там не оказалось. То-рончейка молвил, что до братских кышты-мов осталось всего два дня ходу, но Кольцов не смог заставить мятежных казаков продолжить дальнейшее движение вглубь Братской земли. Пробыв в походе 15 дней, Дружинка «с товарищи» поворотили в Красноярск. Атаману ничего не оставалось, как вернуться туда же. Этот случай сам по себе является ярким примером противоборства лидеров казачьего самоуправления с начальными людьми, поставленными над ними царем (верстание в атаманы, которые получали жалование, происходило по государеву указу). Подобные инциденты представляют собой красочные проявления реализации сословных прав русских казаков XVII в. как разновидности «приборных» служилых людей.
Жителям Красноярского уезда недолго пришлось довольствоваться относительным миром. Восьмого июня 1639 г., вернувшиеся было под «высокую государеву руку» арин-цы, качинцы и ястынцы снова отъехали «в кыргызы», а весной 1640 г. тубинский князь Унгур сжег Канский острог [Александров, 1964. С. 49, 50] 32.
В этот тяжелый период Кольцову было суждено руководить красноярскими казаками в важнейших походах. В августе 1640 г. воевода Алферий Баскаков направил вверх по Енисею против кыргызского князя Иже-нея казаков и подгородных татар во главе с атаманом Милославом Кольцовым, а также конными пятидесятниками Васькой Мокие-вым и Чурилкой Львовым. Пятого сентября они разбили «государевых изменников» на р. Сисима, причем в этом бою Кольцов взял в плен «мужика» 33.
Шестого сентября 1640 г. для восстановления острожка на «Брацком перевозе» и возвращения в государево подданство канских, осанских и камасинских татар отправилось 50 казаков с Емельяном Тюменцо-вым. После того как Канский острожек был снова отстроен, 29 ноября из Красноярского острога против котовских людей пошли атаманы Милослав Кольцов и Дементий Злобин во главе 125 пеших и конных казаков. Тринадцатого декабря служилые люди «изошли» котовцев на «Камне речке» и нанесли им поражение. Кольцов сражался лично и в очередной раз сумел взять в полон одного татарина 34. Под стенами Канского острожка 28 декабря появился котовский князец Пан-тык с конными и пешими татарами. Емельян Тюменцов позже сообщал, что в острожек «вломилося» 15 человек «изменников», которых красноярским казакам удалось переловить и связать. Остальные татары пробовали приступать к острожку, но были отбиты. В результате сражений в Канской земле, тамошним татарам пришлось отдать в аманаты князцов Пантыка, Имненка и Ижибалдама и возобновить ясачный платеж на Красный яр 35.
В 1641 г. сибирские служилые люди под руководством воеводы Я. Тухачевского совершили поход вглубь кыргызских владений и основали Ачинский острожек, что позволило через год нанести кыргызам сильный удар [Бутанаев, Абдыкалыков, 1995. С 107] 36.
Десятого июля томский воевода И. С. Ко-быльский, до своей сибирской службы отличившийся в боях с крымскими татарами, выступил в поход из Томска [Новосельский, 1948. С. 154, 156]. Двадцать четвертого июля он прибыл в Ачинский острожек, где к его войску присоединились красноярские конные казаки пятидесятника Чурилки
Львова. После принятия острожка у Тухачевского, Кобыльский поспешил согласовать план кампании с красноярским воеводой. Согласно совместному замыслу, 31 июля 1642 г. из Красноярского острога «в сход» томскому воеводе был направлен отряд конных казаков, которых возглавил ссыльный ротмистр Степан Коловский, и ясачных татар, которыми руководили представители их племенной верхушки Абытай-ко Тюлькин и Бодук Татушев (всего около 120 чел., в том числе 70 татар). В тот же день в стругах вверх по Енисею пошел атаман Милослав Кольцов с сотней казаков, имея задачу встать на енисейских «перевозах», дабы не позволить кыргызам и тубин-цам получить помощь от их кыштымов, обитавших в «землицах» по правому берегу Енисея 37.
Кобыльский выступил из Ачинского острожка 6 августа и уже через три дня вступил в бой с главными силами старшего кыргызского князя Ишея 38. В этот же день, 9 июля 1642 г., отряд Коловского разбил кыргызов «за Белым Июсом на речке на Туачаке» 39.
Важную победу в этой кампании одержал атаман Милослав Кольцов. На Сыдин-ских перевозах (неподалеку от устья р. Сыд, правого притока Енисея) его отряд разгромил войско кашинских, бохтинских и моторских людей, которые спешили на помощь кыргызам. В сражении Кольцов «ал-тырсково князца Кубана убил да другово улусново мужика убил» и получил тяжелое ранение «в левой бок противо серца» 40.
После этих событий конфликт с енисейскими кыргызами прервался на 24 года. В ходе последующих столкновений с ними на протяжении всего XVII в. русские воеводы и начальные люди так и не смогли повторить успех Ивана Кобыльского, Милослава Кольцова и Степана Коловского.
С того момента, как на южных рубежах стало спокойно, красноярские казаки смогли заняться расширением границ своего уезда. Повод для нового большого похода дал братский (бурятский) князь Ойлан, который весной 1643 г. напал на канских татар и взял с них ясак 41.
Ойлан, чьи владения располагались в среднем течении Уды (Чуны), считался опасным противником. Позже его сын Изень говорил в Красноярском остроге, что только в улусах Ойлана и его родного брата Нолчи-Батыра «на конь садилось человек з двести и болши» 42. Поэтому красноярский воевода О. Оничков счел нужным попросить помощи у томских воевод. Но те отказали ему, утверждая, что в дальний поход томские служилые люди могут пойти только по государеву указу. Тогда Оничков написал в Москву, и уже по его отписке 4 мая 1644 г. царь Михаил Федорович указал томским и красноярским служилым людям воевать Ойлана сообща 43.
Новый красноярский воевода П. Про-тасьев, получив этот указ в своем остроге 22 января 1645 г., опять безуспешно просил помощи из Томска. На сей раз томские воеводы отговорились от похода отсутствием средств для выдачи жалованья своим людям на текущий год. Отказались прислать своих воинов в помощь красноярцам и енисейские кыргызы 44. Поэтому Протасьев решил обойтись имеющимися силами и набрал для похода «ис конной сотни и из дву пеших сотен и ис черкас» 210 чел., а также 120 чел. «ясашных тотар аринские и качинския земли и канские волости» 45 . Самое большое войско, выставленное Красноярским уездом в первой половине XVII в., возглавил пеший атаман Милослав Кольцов. Вместе с Кольцовым во главе казаков и татар шли Емельян Тюменцов и Степан Коловский, а «во-жем» был выбран канский ясачный татарин Шалашка Ятаев 46.
Десятого июля 1645 г. Кольцов выступил в поход, который стал венцом его воинской карьеры. Первого августа, пройдя несколько сотен верст, его ратники вступили в бой с бурятами и их кыштымами. Самого Ойлана в его улусах застать не удалось, однако там находился «лутчий промышленник» Нолча-Батыр. Бурятские улусы подверглись разгрому, в результате которого погибло 30 воинов ойланова улуса и 43 кыштыма. Среди убитых оказались сам богатырь Нолча и трое из семи сыновей Ойлана, а в числе приведенных в Красноярск 24 августа 1645 г.
86 братских пленников находился взятый в бою Милославом Кольцовым родной сын Ойлана Изень 47. Этим походом было начато присоединение самой обширной ясачной волости, вошедшей в состав Красноярского уезда.
После военного успеха красноярские власти предприняли усилия для мирного присоединения ойлановых улусов. Так, атаман Милослав Кольцов в 1648 г. ходил за ясаком в Братскую землю и призывал Ойла-на под «высокую государеву руку». Наконец, 10 июля 1648 г., престарелый братский владыка «добил челом» государю в Красноярском остроге. Воевода построил для торжественной встречи «князца» красноярских служилых людей «на конях в збруе и с оружьем» и приказал по случаю «учинить стрельбу из мелкова оружья и ис пушек» 48.
После службы в Братской земле Милослав Кольцов продолжал выполнять поручения сугубо мирного характера, такие как сбор ясака, годовые службы в острожках Красноярского уезда и сопровождение в столицу «государевой соболиной казны» 49. В 1655 г. Кольцову, оказавшемуся по каким-то делам в Тобольске, случилось сопровождать в Енисейск мятежного протопопа Аввакума по поручению тобольского воеводы. Двадцать седьмого июля 1655 г. протопоп и члены его семьи отплыли из Тобольска вниз по Иртышу в одном струге с красноярским начальным человеком и пятью сибирскими казаками [Никольский, 1927. С. 160–161]. Столь важное поручение от сибирских властей свидетельствует о высокой оценке с их стороны служебных качеств Кольцова.
Не позднее 1655 г. Милослав Иванович Кольцов удостоился самого высокого чина для сибирского служилого человека того времени: был поверстан в дети боярские. Его имя стоит первым в списке служилых людей в окладных книгах Красноярского острога 1661 г.
Дату кончины героя нашего очерка можно установить только приблизительно. В окладных книгах 1665 г. его имя уже не встречается. Из переписной книги Красноярска с уездом 1671 г, становится известно, что младшему сыну Милослава Кольцова Гаврилке в год составления этого документа было семь лет [Бахрушин, 1959. С. 217]. Умер Кольцов при красноярском воеводе Г. Никитине, занявшем эту должность 11 декабря 1663 г. [Барсуков, 1902. С. 139]. Таким образом, можно предположить, что нашего героя не стало в весьма преклонном возрасте около 1664 г. Известно, что скончался Милослав Кольцов после возвращения с годовой службы из Канского острожка 50.
Судьба Милослава Ивановича Кольцова представляет собой яркий пример восхождения человека по социальной лестнице в Русском государстве XVII в. Поверстанный из числа «всяких чинов людей» в «приборные» служилые люди, он проделал путь до сибирского сына боярского. Несмотря на такую трагедию, как гибель отца от рук сослуживцев, Милослав Кольцов на протяжении почти всей своей сознательной жизни оставался одним из лидеров служилой корпорации Красноярского острога и руководил наиболее важными походами красноярцев в первой половине XVII в. против енисейских кыргызов и бурятов.
По долгу службы Милославу Кольцову приходилось выполнять самые различные поручения военного и административного характера, такие как предводительство в военных предприятиях, строительство острожков, посольство к кыргызским князьям, приведение в государево подданство сибирских «иноземцев», сбор ясака, руководство над казаками-годовальщиками на дальних рубежах Красноярского уезда, сопровождение хлебных запасов и иных ценных грузов из Енисейского острога в Красноярск. На примере Милослава Ивановича видно, насколько универсальны были функции сибирского служилого человека в XVII в. Само собой разумеется, что для выполнения таких функций человек должен был обладать обширными знаниями и умениями. Определенно, правительство отдавало должное Милославу Кольцову, награждая его чинами и прибавочным жалованием.
Список литературы Службы красноярского атамана Милослава Кольцова
- Абдыкалыков А. Н. Енисейские киргизы в XVII в. Фрунзе: Илим, 1968. 140 с.
- Александров В. А. Русское население Сибири XVII -начала XVIII в. (Енисейский край). М.: Наука, 1964. 302 с.
- Копкоев К. Г. Добровольное присоединение Хакасии к России//250 лет вместе с великим русским народом. Абакан: Хакас. кн. изд-во, 1959. С. 19-37.
- Арзыматов А. А. Из истории политических отношений енисейских киргизов с Россией в XVII -первой половине XVIII века. Фрунзе: Кыргызстан, 1966. 90 с.
- Барсуков А. П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII столетия по напечатанным правительственным актам. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1902. 611 с.
- Бахрушин С. В. Научные труды. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 3, ч. 2. 299 с.
- Бахрушин С. В. Научные труды. М.: Изд-во АН СССР, 1959. Т. 4. 258 с.
- Бобров Л. А., Худяков Ю. С. Вооружение и тактика кочевников Центральной Азии и Южной Сибири в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени (XV -первая половина XVIII в.). СПб., 2008. 784 с.
- Бутанаев В. Я., Абдыкалыков А. Н. Материалы по истории Хакасии XVII -начала XVIII в. Абакан, 1995. 258 с.
- Бутанаев В. Я., Худяков Ю. С. История енисейских кыргызов. Абакан: Изд-во ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2000. 272 с.
- Быконя Г. Ф. Заселение русскими при-енисейского края в XVIII в. Новосибирск: Наука, 1981. 248 c.
- Дворцовые разряды, по высочайшему повелению изданные II Отделением Собственной Е. И. В. канцелярии. СПб., 1851. Т. 2: С 1628 по 1645 г. 498 с.
- Козьмин Н. Н. Хакасы. Историко-этнографический и хозяйственный очерк Минусинского края. Иркутск, 1926. 186 с.
- Миллер Г. Ф. История Сибири. М.: Вост. лит., 2000. Т. 2. 800 с. Миллер Г. Ф. История Сибири. М.: Вост. лит., 2005. Т. 3. 599 с. Никольский В. К. Сибирская ссылка протопопа Аввакума//Учен. зап. Института истории РАНИИОН. М., 1927. Т. 2. С. 137-167.
- Новосельский А. А. Борьба Русского государства с татарами в XVII веке. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 1948. 448 с.
- Окладников А. П. Очерки из истории западных бурят-монголов. Л.: ОГИЗ, 1937. 428 с.
- Потапов Л. П. Краткие очерки истории и этнографии хакасов (XVII-XIX вв.). Абакан: Хакоблгосиздат, 1952. 218 с.
- Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. М.: Тип. Селивановского, 1822. Ч. 3. 566 с.
- Чертыков В. К. Хакасия в XVII -начале XVIII века и ее взаимоотношения с Россией и государствами Центральной Азии. Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2007. 336 с.
- Шерстова Л. И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические процессы и этнокультурная динамика XVII -начала XX века. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. 312 с.