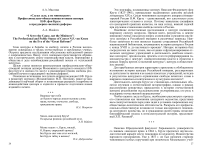«Служу делу, а не министрам»: профессионально-общественная позиция цензора Н.Ф. фон Крузе в преддверии «великих реформ»
Автор: Маслова Анна Александровна
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Российская государственность
Статья в выпуске: 74, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается деятельность цензора Московского цензурного комитета Н.Ф. фон Крузе. Впервые в отечественной историографии в качестве источника использованы его письма, хранящиеся в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки. Эти «персональные тексты» позволили прояснить вопрос о вкладе Крузе в развитие отечественной журналистики в преддверии «великих реформ», в начало «гласности» времен Александра II. Научная новизна статьи определятся также подходом к исследованию цензурной деятельности Крузе через установление специфики его взаимодействия с авторами и издателями. Основное внимание уделяется особенностям порядка цензурирования рукописей, установленным во время царствования императора Николая I, и его сопоставлению с методами работы Крузе. Автор приходит к выводу, что практика конструктивного подхода цензора Крузе позволяла продуктивно сотрудничать с авторами и издателями, способствовала плодотворным результатам их деятельности и расширению границ свободы печати в России. В переходный период первых лет царствования Александра II, на который пришлась деятельность Крузе, новый, более либеральный, цензурный устав еще не был издан, но уже было публично заявлено о необходимости отмены крепостного права сверху. Эта перемена правительственного курса, а также личное гражданское мужество Крузе позволили постепенно открыть дорогу «гласности» Александра II.
Издательское дело, свобода печати, цензура, цензурная политика, цензурный устав, цензурный комитет, «великие реформы», крестьянская реформа, интеллектуальная история, н.ф. фон крузе, м.п. погодин
Короткий адрес: https://sciup.org/149141319
IDR: 149141319 | DOI: 10.54770/20729286_2022_4_26
Текст научной статьи «Служу делу, а не министрам»: профессионально-общественная позиция цензора Н.Ф. фон Крузе в преддверии «великих реформ»
Хвала, наш цензор Крузе!
Он крылья развязал российской музе.
Молва гласит: о, Крузе, милый, О, Норов, скаредный хромец! Без Крузе свет мне стал могилой, Без Крузе гибну я вконец!
Эти эпиграфы, посвященные цензору Николаю Федоровичу фон Крузе (1823-1901), принадлежат выдающимся деятелям русской литературы XIX в. Среди чиновников цензурного аппарата императорской России Н.Ф. Крузе - единственный, кто удостоился столь панегирических отзывов в стихах. Поэтому выявление специфики его цензорской практики является, на наш взгляд, важной задачей при изучении становления свободы печати в России.
Новейшие отечественные исследования о цензуре посвящены широкому спектру вопросов. Прежде всего, разумеется, в центре внимания ученых находится вопрос становления и развития института цензуры в Российской империи в различные периоды. Наиболее заметным из них является издание сотрудников Российской национальной библиотеки, посвященное истории цензуры в России с конца XVIII в. до настоящего времени1. Интерес историков был сосредоточен на таких темах, как создание и функционирование отдельных цензурных учреждений и деятельность наиболее известных цензоров2, предпосылки, проекты и итоги реформирования законодательства о цензуре3, взаимоотношения власти и общества в рамках борьбы против «стеснений цензуры»4, цензура и общественное мнение5.
Для зарубежных авторов характерно стремление к обобщенному изложению истории цензуры Российской империи, регулирующих ее деятельность законов и ее самых известных учреждений, методов и результатов цензурного ограничения свободы печатного слова в широком социально-политическом и культурном контексте6.
Деятельность цензора Крузе не становилась специальным объектом изучения в отечественной историографии, однако в рамках рассмотрения конкретных прецедентов в истории отечественной цензуры российскими исследователями подчеркивалась его роль в поддержке отечественной журналистики7.
Чтобы оценить заслуги Крузе, необходимо рассмотреть процесс его становления как чиновника цензурного ведомства, представив весь спектр встающих перед ним задач в условиях современных ему общественно-политических обстоятельств. Раскрыть его профессионально-общественную позицию не только как коронного чиновника цензурного ведомства, но и гражданина своей страны позволяет биографический подход в интеллектуальной истории, предложенный Л.П. Репиной8.
* * *
Окончив Юридический факультет Харьковского университета со званием «кандидат прав» в 1844 г, Крузе предпочел научно-педагогической карьере место чиновника по ведомству Министерства народного просвещения. Уже в 1853 г. он был назначен старшим чиновником особых поручений при попечителе Московского учеб- ного округа, а весной 1855 г. - цензором в Московском цензурном комитете, состоявшем в ведении попечителя Московского учебного округа.
По его собственным воспоминаниям, этому назначению предшествовало сделанное в последние годы царствования Николая I предложение В.И. Назимова (попечителя Московского учебного округа с 1849 по 1855 гг.) занять эту вакантную должность, от которой Крузе отказался: «При существующих условиях и порядках цензор не может действовать добросовестно, по долгу гражданскому, не имея под собой никакой твердой почвы - ни в законе, ни в пользах и нуждах государственных, ни в здравом уме. ... Я считаю литературу одним из важнейших факторов народной жизни и сочувствую ей горячо, но не могу ей быть полезным при господстве настоящих порядков»9.
Однако позднее, после восшествия на престол нового императора Александра II и прихода «гласности», Крузе принял предложение занять место цензора.
В первое десятилетие царствования Александра II законом, регулирующим порядок цензуры, являлся Устав 1828 г. По сравнению с уставом 1826 г, он отличался прогрессивностью и понятной структурой. Контроль над печатью находился в ведении Министерства народного просвещения, при котором действовало Главное управление цензуры, - центральное цензурное учреждение империи, возглавляемое министром. Это управление осуществляло надзор за всеми существующими в университетских городах цензурными комитетами, а также занималось рассмотрением особых случаев цензурирования по просьбе цензоров и жалоб на цензуру. Вся цензура делилась на внутреннюю и иностранную, последняя из которых переводила и дозволяла к публикации зарубежные книги. Помимо этого, существовала ведомственная цензура, где проводилось рецензирование по темам, касающимся отдельных сфер государства. Устав 1828 г. обязывал чиновников «обращать особенное внимание на дух рассматриваемой книги, на видимую цель и намерения», в то же время ограничивая своеволие цензора, которому предписывалось «в суждениях автора принимать всегда за основание явный смысл речи, не дозволяя себе произвольного толкования оной в другую сторону»10. Сами авторы получили возможность обращения в Главное управление цензуры с целью обжалования решения контролеров печатного слова.
Между тем в течение Николаевской эпохи этот Устав был видоизменен пропорционально ужесточению режима властвования, что превратило его в «чугунный устав», лишив его прежних преимуществ, а литераторов - прежней свободы. «Самые верноподданные россияне, - подчеркивала историк ВТ. Чернуха, - вроде М.П. Погодина, еще при жизни Николая I выступили за необходимость дать обществу возможность говорить истину, а правительству прислушаться к его голосу»11.
В начале правления императора Александра II, как известно, создалась особая атмосфера, в том числе и в отношении печати. Инициированное правительством гласное обсуждение пути решения крестьянского вопроса укрепило в общественном настроении убежденность в скорой реализации перемен во всех сферах. Ожидание обещанных реформ вызвало оживление литературной жизни, а вместе с тем, - и надежды на ослабление цензурных оков. В частности, даже консерватор Погодин в 1855 г. передал Александру II записку «Царское время», в которой предлагалось установить гласность, но «в пределах благоразумной осторожности» для контроля общественного мнения12. В среде высшей бюрократии также шло обсуждение целесообразности пересмотра цензурного законодательства. К примеру, В.И. Назимов писал министру народного просвещения А.С. Норову: «Для выхода из того запутанного положения, в которое поставлена наша цензура, необходимо вернуться к коренному уставу 1828 г, отменив все последующие дополнительные постановления, ничего существенного не дополняющие и только затрудняющие прямые действия благоразумной цензуры»13.
Предвкушение эпохи перемен нередко проявлялось игнорированием многочисленных циркуляров императора Николая I. «Создавалась, наконец, возможность, - писал Б.Э. Нольде, - все накопленные в тиши Николаевского царствования умственные богатства, все споры и все сложившиеся в них убеждения вынести на свет Божий, не считаясь более с необходимостью торговаться с цензором о каждой фразе»14. Оценивая положение печати, Б.Н. Чичерин вспоминал: «Правительство в то время было исполнено добрых намерений, но ни на какой положительный шаг не решалось. Цензурные законы оставались прежние; даже все безобразные циркуляры и инструкции, которыми в последние годы Николая думали задушить несчастную русскую мысль, сохранялись во всей своей силе. В таком положении Крузе взял на себя инициативу и стал пропускать все статьи, которые он считал безвредными. Правительство молчало, и русская печать вздохнула свободнее»15.
К моменту вступления Крузе в должность Московский цензурный комитет уже был известен применением уникального в своем роде подхода к цензурированию рукописей. Эта политика «совещательной» цензуры, заложенная еще писателем С.Н. Глинкой, служившим цензором Московского цензурного комитета в 1827-1830 гг, предполагала совместную работу цензора и автора над устранением «изъянов» рукописи.
Цензорская деятельность Крузе включала в себя работу с различными видами рукописей, существенную часть которых составляла периодика. Примечателен сам характер его взаимодействия с авторами, раскрывающий особенность позиции Крузе как чиновника цензурного ведомства. Наше внимание привлекли его отношения с владельцем журнала «Москвитянин». Этот учено-литературный печатный орган издавался Погодиным с 1841 по 1856 гг. в Москве. Крузе рецензировал «Москвитянин» с 1855 г. до его закрытия, а позже и научные труды историка16.
В фонде Погодина, хранящемся в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки, нами была обнаружена его переписка с Крузе. Архивное дело содержит в себе 26 писем последнего к историку-издателю, охватывает промежуток с 1856 по 1859 гг. и совпадает с периодом работы Крузе в Московском цензурном комитете. Этот источник, впервые вводимый в научный оборот, тем ценнее, что существенно дополняет сохранившееся эпистолярное наследие Крузе, крайне незначительное по своему объему. Данная переписка освещает в основном характер сотрудничества цензора по вопросам публикации и рецензирования произведений Погодина, позицию цензора в отношении дозволения рукописей и его советы, позволяющие путем наименьших потерь достичь пропуска материалов в печать. Все письма написаны одним почерком, принадлежащим, судя по подписи, самому Крузе, на белой и серой бумаге, а также голубой бумаге с водными знаками. Тематика писем включает также общественно-политические и личные вопросы. Знакомство их состоялось, вероятно, еще в 1849 г, когда Николай Федорович адресовал в письме к Михаилу Петровичу просьбу о возможности посетить его древлехранилище17.
Порядок рассмотрения сочинений в цензурном комитете подразумевал подачу автором рукописи секретарю Комитета и последующее распределение поступивших черновиков между всеми сотрудниками в произвольном порядке. А в случае периодических изданий редактор мог доставлять готовящиеся выпуски напрямую к цензору, за которым закреплялся журнал. Таким образом, исследуемые нами письма Крузе являются ответом на подачу Погодиным свежих выпусков для одобрения цензурой и частью бюрократического порядка подготовки «Москвитянина» к печати. Стоит также подчеркнуть, что, согласно Уставу 1828 г, рассматривать периодические издания необходимо было «с особым вниманием и в пропуске назначаемых для них статей соблюдать крайнюю осмотрительность и осторожность, под опасением строгой ответственности цензора, которой вместе с ним подвергались лично и редакторы, за всякое дурное направление статей их изданий»18. Итак, обратимся к некоторым отрывкам из упомянутых писем с целью раскрыть подробности взаимодействия редактора и цензора.
При анализе корреспонденции обращает на себя внимание содействие Крузе интересам автора. В первом же из сохранившихся писем, датированном 1 февраля 1856 г, цензор обещает ускорить процесс допуска к печати материалов, требующих принятия решения высшего начальства: «“Отрывок из письма в Петербург] из Москвы” должен быть отправлен на рассмотрение Министерства] [Императорского] Двора, как все статьи, в которых говорится о чле-зо нах царствующего дома19. Завтра я передам эти материалы в Комитет, где и дам распоряжение о немедленной отправке его в Министерство»20. Менее чем через месяц Погодиным уже была получена виза «с отметкой тех мест, которые необходимо изменить»21.
Одной из характерных черт подхода Крузе к работе в цензурном комитете был поиск компромиссных решений: «Пересмотрите, Михаил Петрович, замеченные места карандашом и если не найдете в них повода к каким-либо неудовольствиям, то прикажите к печатанию»22. В действительности регламент работы и предписывал цензору «заметив противное правилам место красными чернилами, предоставить сочинителю исключить, или переменить оное, и потом уже подписывать одобрение рукописи к печати»23. В случае несогласия сочинителя закон позволял отказать в публикации материала. Вместе с тем, обращает на себя внимание деликатность, которую проявляет цензор Крузе к работе автора: «...Если не найдете в них повода к каким-либо неудовольствиям, то прикажите к печатанию». Тем самым, при наличии «неудовольствий», надо полагать, чиновник выражал решимость к дальнейшему взаимодействию с Погодиным по подготовке сочинения к печати. В той же манере Крузе, в письме от 27 февраля 1856 г, советовался с писателем, как лучше поступить с его сочинением, не нанеся ему вред: «Статью “Иннокентий III” я оттого остановил, чтобы повидаться с Вами, Михаил Петрович, но ... я не хотел Вас отвлекать. В этой статье некоторые места затрудняют меня, и я хотел спросить Вас не послать ее в Петербург], чтобы ничего в ней не портить?»24.
Взаимодействуя с Погодиным, Крузе проявлял осмотрительность и дальновидность, советуя отложить издание «рискованных» материалов до лучших времен: «Я отметил карандашом самые нежелательные места и пожелал бы послать их в Петербург] - писал Крузе 16 мая 1856 г- Впрочем, как Вам будет угодно. Пересмотрите и сообщите Ваше мнение. Я не знаю, будут ли виды правит[ельства] совпадать с Вашим мнением и потому думаю благоразумней подождать»25. Общаясь с редактором-Погодиным, Крузе не позволял себе судить авторские высказывания, оставляя вопрос об их «благонадежности» на усмотрение самого сочинителя, как то и предписывал Устав 1828 г. Уважение к литератору и его труду было движущей силой в деятельности Крузе, который не вычеркивал «сомнительные» выражения в рукописи, а лишь предлагал их к изменению. Этот образ действий цензора представляет собой так называемую политику совещательной цензуры, состоящую в конструктивном подходе и рассудительной осторожности.
Тот же прием проявил Крузе, рецензируя эпистолярное наследие Н.В. Гоголя, которое готовил к публикации Погодин. Первое издание сочинений, опубликованное П.А. Кулишем26, получило нелестный отклик Погодина: «Это материалы для биографии Гоголя, а не биография. При том автор воспользовался не всеми письмами:
у меня, например, найдется их вероятно до двухсот, о которых у автора, судя по его сочинению, не было и чаяния!»27. Вероятно, эта несправедливость тем сильнее получила отпечаток в восприятии Погодина, что он и сам предпринимал попытку опубликовать свою переписку с Гоголем. Еще в 1855 г. он переслал несколько писем Николая Васильевича для рецензирования Крузе. Тот же, посоветовавшись с начальством, понял, что их публикация возможна лишь с изъятием отрывков, которые представляли литературную ценность. Крузе отвечал Погодину: «Письма Гоголя я читал Владимиру Ивановичу [Назимову], с согласия которого и сделаны все замечания красными чернилами. Он поручил мне между прочим передать Вам, что он находит печатание этих писем преждевременным и советует Вам обождать с ними, тем более, что с означенными пропусками они теряют много интереса для публики»28. В данном случае Крузе предстал перед нами как цензор, сделавший выбор в пользу значимости произведения. Одно из гоголевских писем к Погодину все-таки вышло в свет в последнем выпуске «Москвитянина»29, однако, большинство из них так и не было опубликовано30, вероятно именно в связи с советом, который был дан цензором.
Подобное благоразумие Крузе проявлял сам и призывал к тому же Погодина не только в случае рассмотрения «опасных» материалов, но и «посредственных». В письме 8 августа 1856 г. Крузе писал Погодину: «Возвращаю Вам корректуры комедии с покорнейшей просьбою не печатать ее в Вашем журнале; она не имеет, по моему мнению никакого достоинства и поэтому Москвит[янин] не только проиграет, но еще и много выиграет с оставлением такого произведения; а между тем в этой комедии много таких мест, которые могут не понравиться Главн[ому] Управлению] Цензуры. Вы вероятно согласитесь со мной, что не стоит подвергать себя ответственности за произведение ниже всякой посредственности. Поэтому я и не дал этому делу никакой формальности, а обращаюсь к Вам на Ваше благоусмотрение. Первую часть, уже появившуюся [в печати] прежде, я подписывал с большой неохотой, но надеялся, что после выйдет что-нибудь хорошее. Теперь же ясное дело»31. Хотя, заметим, параграф 15 цензурного Устава запрещал цензорам «входить в суждение о том, полезно или бесполезно рассматриваемое сочинение, если только оно не вредно», а также «поправлять слога и замечать ошибок Автора в литературном отношении»32.
Последний прецедент примечателен еще и тем, что Крузе следовал долгу сопротивляться литературным произведениям с низким художественным уровнем, даже когда уже было анонсировано о закрытии журнала «Москвитянин». Об этом сам Погодин объявил читателям в эпилоге к заключительному выпуску 1855 г. Любопытна реакция цензора на это сообщение: «Напрасно нападаете Вы на Вашего цензора, любезнейший Михаил Петрович! Я не за себя беспокоился, а за Ваш журнал. Дело вот в чем: послесловие Ваше в 32
печати словами: «оставляя журнальное поприще и т.д.»... Не следовало ли мне заключить из этих слов, что Вы перестаете быть издателем-редактором и передаете это право другому? А Вам известно, что подобная передача может сделаться у нас только с разрешения высшего начальства33? К тому же мне было известно, что еще в прошлом году Вы ходатайствовали у Министерства] Народ[ного] Просвещ[ения] о дозволении Вам передать редакцию Москвитянина г. Протопопову [Вероятно, речь идет об Александре Павловиче Протопопове-Славине (1814-1867), писателе и драматическом актере. - А.М.], который отказался от принятия его на себя, вследствие чего дело не состоялось. Вот почему я и испугался за Ваш журнал и просил Г. Бартенева передать Вам мое опасение. Впрочем, Вы знаете лучше меня, что Вам делать и как»34. Это письмо иллюстрирует альтруизм Крузе во взаимоотношениях с литераторами, для которых он старался избегать худшей участи не менее, нежели для себя.
Горячо сочувствуя литераторам и издателям, Крузе делился с Погодиным не только своими переживаниями, но и новостями: «Нового пока еще ... ничего, кроме двух выговоров моим товарищам и совершенно за пустяки; но это имеет то грустное веяние на литературу, что заставляет их еще более быть осторожными»35. А также - сведениями о состоявшихся или предполагаемых переменах в цензурном ведомстве: «У нас новый цензор Гиляров; а в Петербурге - Лажечников [Писатель Иван Иванович Лажечников (1792-1869), один из зачинателей русского исторического романа. - А.М.]»36. Не стал он скрывать от Погодина и свое намерение изложить правительству собственный проект преобразования законодательства о цензуре печати: «Вчера получено известие из Министерства, что приступили к пересмотру Цензурного Устава и поэтому требуют моего мнения о том, что должно изменить, что не менять и что прибавить к прежнему Закону. Вот Вам последняя новость и кажется весьма утешительная? Теперь я изложу свое мнение очень широко»37. Перспектива усовершенствования и облегчения цензурного законодательства и атмосферы в целом была в том числе связана с назначением в марте 1858 г. нового министра народного просвещения Е.П. Ковалевского, которые, однако, не оправдались: «Наши дела вовсе не красивы, -писал Крузе Погодину о новом начальстве, - и перемена послужила нам не в пользу, вопреки всем моим ожиданиям»38.
В переписке с издателем Погодиным раскрывается цензорское амплуа Крузе, для которого была характерна дальновидность и заинтересованность в том, чтобы плоды творчества писателей стали достоянием общественности. Просматривая рукописи, он не удалял «сомнительные места», а шел по пути «совещательной» цензуры, который был апробирован его предшественниками времен «чугунного устава». В должности цензора Крузе приобрел среди литераторов славу защитника печатного слова и чиновника, известного своим «разумным» отношением к журналистике, идущего «навстречу зз авторам». Это не ускользнуло из поля зрения политической полиции и не осталось без внимания высших чинов белокаменной. Московский генерал-губернатор А.А. Закревский в записке от 28 августа 1858 г. о «неблагонамеренных» людях, которую он представил главноуправляющему III отделения Собственной Е.И.В. канцелярии и шефу Отдельного корпуса жандармов В .А. Долгорукову, так отозвался о чиновнике: «Н.Ф. фон Краузе (цензор) - приятель всех западников и славянофилов, друг Каткова, корреспондент Герцена, готовый на все и желающий переворотов»39.
Другим эпизодом цензурной практики Крузе стало то, что благодаря его деятельности увидели свет материалы, не допущенные к публикации в других изданиях. Например, биографическая статья о А.Н. Радищеве, размещенная в одном из номеров «Русского вестника» за 1858 г40, которая в том же году была запрещена Главным управлением для печати в журнале «Иллюстрация» (издавался В.Р Зотовым в Санкт-Петербурге в 1858-1863 гг.). То есть одну и ту же публикацию дозволили в Москве и запретили в Санкт-Петербурге.
Одна из причин данного прецедента заключается в том, что цензурирование иллюстраций осуществлялось с большей строгостью, как могущих произвести сильнейшее впечатление на народные массы в отличие от текста. И все же стоит отметить заслугу московского цензора Крузе в появлении такой статьи, поскольку при существовании единого цензурного законодательства именно контролерам была отведена ведущая роль в определении дозволенного к печати материала41.
Похожий прецедент произошел при издании трудов П.И. Мельникова-Печерского. Большая часть его сочинений была опубликована в журнале «Русский Вестник», который в тот период цензурировал Крузе. По словам автора, последний допускал «для редакции [Русского Вестника] такую свободу печати, которая заставляла завидовать петербургских редакторов своему московскому собрату»42. При попытке выпустить отдельное издание «Рассказов А. Печерского» цензор Крузе одобрил их к печати, а петербургское Главное управление запретило, отменив также и разрешение московского коллеги43.
В дополнение к упомянутым заслугам, стоит отметить, что Крузе подписал цензурное одобрение 23-му выпуску «Библиографических записок», в котором присутствует статья кн. Н.Б. Голицына «Современные известия о Радищеве»44. За ее пропуск цензор также получил выговор. Этот журнал издавался в Москве А.Н. Афанасьевым и Н.М. Щепкиным в 1858-1861 гг. Крузе рецензировал все номера за 1858 г, за исключением двух. Интересна характеристика контролеров печати, данная редактором Афанасьевым, которую он адресовал в письме П.П. Пекарскому 23 сентября 1858 г: «Крузе взял отпуск на месяц, теперь дали нашим журналам нового цензора, некоего Капниста [Писатель Петр Иванович Капнист служил цензо- 34
ром в Московском комитете в 1856 - 1859 гг. - А.М.], который если бы можно, кажется, запретил бы «Ябеду» своего однофамильца»45.
Кроме того, с этим же журналом связан очередной примечательный эпизод деятельности Крузе. В нескольких номерах «Библиографических записок» за 1858 г. с его дозволения напечатаны письма А. С. Пушкина к брату Льву (сообщены С .А. Соболевским) с приложением снимка с рисунка Пушкина. По поводу этой публикации последовало возмущение наследников поэта тем, что не было получено их разрешение на обнародование интимного материала. Публикации освещают взаимоотношения между братьями, дружбу и личные связи Пушкина с другими литераторами, а также содержат его просьбы прислать чтиво и издать его труды с какой угодно правкой и в любом журнале по причине острой нужды. Помимо прочего, Александр Сергеевич в этих письмах рассуждал с братом о цензуре и новостях. Их содержание представляет огромный интерес и в наше время, тем более - в середине XIX в. С этой точки зрения Крузе, даже преступив грань приватности, действовал прежде всего в интересах читателя, в интересах русской истории и культуры.
Добавим, что и в воспоминаниях редактора журнала «Русская беседа» (издавался в Москве в 1856-1860 гг.) А.И. Кошелева обнаружился замечательный пример проявленного Крузе гражданского мужества и применения практики «совещательной» цензуры. При рассмотрении статьи авторства Кошелева «О замене обязанной работы наемною и о поземельной общественной собственности» Крузе сообщил, что работа «очень хороша, мысли, высказанные в ней, ему вполне сочувственны», но имеется опасение, «как бы за пропуск этой статьи не досталось и ему, и журналу»46. На просьбу Кошелева возвратить рукопись, чтобы не подвергать Крузе ответственности за непростое решение о публикации, «благородный цензор с пропуском к напечатанию ее вернул»47. В итоге ни цензору, ни журналу ни от кого не «досталось», поскольку выход этого материала счастливо совпал с обнародованием рескрипта Александра II генерал-губернатору Виленской, Ковенской и Гродненской губерний В.И. Назимову от 20 ноября 1857 г. об учреждении губернских комитетов из числа местных помещиков для разработки проектов отмены крепостного права48.
Очередной важной страницей цензурной практики Н.Ф. Крузе стало его взаимодействие с Б.Н. Чичериным. Общеизвестно, что магистерская диссертация виднейшего в будущем правоведа «Областные учреждения России в XVII веке» была изначально не принята к защите по причине содержания в ней «ложного представления о деятельности старой администрации России». Потерпев неудачу, он «решился представить ее в общую цензуру»49. «Цензором в Москве был в то время человек, - вспоминал Чичерин, - о котором русская литература не может не вспомнить с благодарностью. Он был умен, честен, образован, с либеральным направлением. В то время Крузе носили на руках»50. Таким образом, и сочинение Бориса Николаевича увидело свет в 1856 г. благодаря конструктивному подходу Крузе.
Продолжение их сотрудничества состоялось в рамках работы с журналом «Атеней». Журналистский круг этого ежемесячного издания под редакцией Е.Ф. Корша, выходившего в Москве в 1858-1859 гг, составили ведущие силы литературы и публицистики второй половины XIX в. В частности, в двух первых номерах были опубликованы статьи Чичерина «О настоящем и будущем положении помещичьих крестьян в России», «О французских крестьянах», «О народности в науке», что, разумеется, не могло не обратить на себя внимание Главного управления цензуры. За появление этих сочинений Крузе получил строгое замечание по личному приказанию министра народного просвещения Е.П. Ковалевского51. Параллельно с этим качества и усилия, вновь проявленные фон Крузе для выхода в свет достойных материалов, высоко оценил Чичерин, подчеркнув смелость цензора и объяснив общественный восторг относительно его деятельности в Московском цензурном комитете52.
Положение Крузе на службе уже в начале 1857 г. стало зыбко и нестабильно в связи со всеми прецедентами и замечаниями, о чем он сообщал Погодину: «Слухи, дошедшие до Вас, к сожалению, совершенно правдивы. Неприятности, которые я имел, способны всякого сбить с совершенного толку. Но я продолжаю по возможности действовать более по совести, ибо служу делу, а не министрам»53.
Современники не раз обсуждали трудность его цензорского положения, которое являлось дополнительным поводом для симпатии к чиновнику. К примеру, публицист и литературовед Н.К. Михайловский писал, что деятельность Крузе пришлась на противоречивое время «пылких надежд и злобных страхов, подготовки ряда реформ всего государственного строя России и яростных усилий задержать их»54. Н.В. Шаховской отметил, что Крузе как цензор, который «не был лишен самостоятельности и понимания, буквально задыхался под гнетом этой, порой крайне бесцеремонной и невежественной, цензуры»55. Целое поколение литераторов воздавали должное Крузе за то, что при такой обстановке он «не считал “сверхъестественным” пользоваться репутацией честного человека»56. Честность и благородство чиновника любого ведомства, и, в частности, цензурного комитета, может проявиться в разумном отношении контролера к печатному слову и уважении к авторам и издателям. Именно правомерным, но в то же время не бюрократическим, отличался подход цензора фон Крузе к произведениям писателей и журналистов.
Крузе не отказался от своей позиции ни под угрозой выговоров и замечаний, ни даже получив распоряжения о его отставке. 12 декабря 1858 г. он был уволен со службы с причислением к Министерству народного просвещения, а 1 января 1859 г, согласно его же собственному прошению, вовсе уволен с государственной службы57.
Уже осведомленный о своем предстоящем увольнении, Крузе, цензурируя новую газету «Парус», по-прежнему проявлял предусмотрительность и чуткое отношение к труду автора и издателя: в своем письме к издателю газеты И.С. Аксакову он советовал тому быть дальновидным. «Оставьте Вы теперь стихи «Свободное слово». Я совершенно разделяю мнение, - писал Крузе, - что в них, в сущности, нет ни одной неблагонамеренной мысли; но самый способ выражения и некоторые фразы непременно произведут сильнейшее возбуждение там, где надо непременно действовать другим путем. Что с этим делать, а обстоятельствам иногда необходимо уступать ввиду более серьезной пользы и общественных интересов. Верьте моему опыту, а тем более в такую минуту, когда я на днях должен расстаться с Вами как Ваш помощник. Из Петербурга есть уже известие, что я порешен. Вы видите, что мне ничего не стоит теперь подписать Ваши стихи, но ведь предстоит еще много впереди. Зачем же вызывать духов подводных и давать им победу? Вступление я подписал и ничего Вам не говорю»58.
Стихотворением своего брата К.С. Аксакова «Свободное слово», написанным в 1854 г, И.С. Аксаков намеревался открыть издание газеты «Парус». Во вступительной статье первого номера «Паруса» обыгрывалось название газеты и под «духами подводными» подразумевались ретроградно мыслящие сановники и рептильные цензоры: «При всем нашем желании совершить спокойное плавание, при всем старании изучить свойства местности и погоды, мы не раз испытывали нечто вроде кораблекрушения и потому, не доверяя своему искусству, сознавая несостоятельность в настоящем случае всяких логических выводов и соображений, мы обращаемся просто с заклинанием ко всем подводным владыкам, духам и демонам, древним и новым, чужим и доморощенным, от Нептуна с его трезубцем до русского синего водяного, с тритонами, нереидами, русалками и со всем их причтом: да даруют они нам плавание ровное и безмятежное, да покоятся смирно в своих кристальных чертогах, не всплывая наверх, не пугая пловцов, не воздвигая подводных преград, а с ними вместе стремнин и водоворотов, всегда и всегда опасных!»59.
В результате увольнения Крузе первый номер «Паруса» был подписан двумя цензурными разрешениями: помимо Крузе от 15 декабря, указано дозволение к печати П.И. Капниста от 22 декабря. Это объясняется тем, что почте потребовалось время, чтобы приказ об увольнении Крузе от должности, подписанный министром народного просвещения 12 декабря в С.-Петербурге, доставить в Москву.
Сильнейшее возбуждение в обществе первые выпуски «Паруса», как и предвидел Крузе, действительно произвели, вследствие чего газета была незамедлительно закрыта, а выговоры были объявлены министром всему Московскому цензурному комитету, в том числе и уже бывшему цензору.
Отставка фон Крузе, разумеется, масштабно отозвалась в сердцах столичных, московских и даже провинциальных литераторов.
«Крузе, - сетовали современники, - человек очень умный и вполне почтенный, был уволен за то, что не притеснял писателей и не давил мысль человеческую. Бескорыстие его всем известно»60. М.Н. Катков в письме к В.П. Безобразову отметил ценность цензорской деятельности Крузе и ее значение для русской литературы: «Он понял смысл современных требований и обрек себя на энергическое служение им. Он был пионером новой области, которая открылась для русской мысли и слова; он шел вперед, разведывая пути, не отступая ни на шаг, и пространство, пройденное им, останется навсегда за русским словом; никакая реакция, никакие интриги не отобьют назад этого пространства; могут быть еще жертвы, но общее дело вне всякой опасности61. Заслугой Крузе, которую отметили Некрасов и Катков, являлась не просто работа цензора по совещательному отбору рукописей для издания, но в особенности его практика конструктивного взаимодействия цензора с авторами.
Сам Крузе был удовлетворен своей работой, имея основания внутри самого себя для гордости за тот путь, который он прошел в качестве цензора. Его самооценка отразилась в одном из писем Погодину: «Когда я перечитываю нынешние журналы и газеты, я глубоко радуюсь их успеху; сколько они впереди против того времени, когда мне приходилось их цензурировать. Ведь все то, за что я выносил так много гонений и преследований, теперь уже не остановило бы самого строгого и мнительного цензора, а расстояния всего с небольшим два года. Кажется, я смею тоже несколько погордиться таким успехом и сказать, что не даром я прошел в жизни России»62.
* * *
Таким образом, фон Крузе предстал перед нами не просто как либеральный чиновник, а как цензор, отличающийся своим гибким отношением к литературе и печати. Действуя строго в рамках закона, Крузе принимал мудрые решения относительно пропуска в печать достойных произведений и советовал отложить ценный для читателей материал, не имевший в тот период возможности быть опубликованным. Практика конструктивного подхода, которую демонстрировал фон Крузе, заключалась в добросовестном рецензировании сочинений без оценивания намерений авторов и продуктивном взаимодействии с ними. Он позволил себе аккуратно маневрировать между стесняющими литераторов дополнениями к Уставу 1828 г.
Этому феномену, безусловно, способствовала социально-политическая атмосфера и нарождавшаяся сила общественного мнения, а также уже имевшаяся в истории отечественной печати политика «совещательной» цензуры. В эпоху «великих реформ» общество исключительно критично относилось к тому, что цензура являлась инструментом государственной политики. Среда высокообразованных чиновников породила рефлексию отторжения цензурного законодательства времен императора Николая I, которая выразилась в тенденции пренебрежениями правилами - тенденции, инициированной С.Т. Аксаковым, С.Н. Глинкой, В.В. Измайловым, продолженная Н.Ф. фон Крузе.
Переходный период первых лет царствования Александра II, на который пришлась деятельность Крузе, интересен как раз тем, что новый устав еще не был издан и действовали старые порядки по инерции от «мрачного семилетия», но уже заявлено было публично о необходимости отмены крепостного права сверху Эта метаморфоза, а также личное гражданское мужество Н.Ф. фон Крузе позволили постепенно разрушить николаевский «чугунный устав», открыть дорогу «гласности» Александра II и расширить границы свободы печати в России.
Список литературы «Служу делу, а не министрам»: профессионально-общественная позиция цензора Н.Ф. фон Крузе в преддверии «великих реформ»
- Antonova, T.V. A.I. Gertsen: “Podnimite tsenzurnyy shlyuz!…” [A.I. Herzen: “Get over Censorship!”.]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta im. M.A. Sholokhova. Istoriya i politologiya, 2012, no. 3, pp. 10–22. (In Russian).
- Badalyan, D.A. S.S. Uvarov i zhurnalnaya borba 1830 – 1840-kh godov [S.S. Uvarov and Media Struggle in 1830s – 1840s.]. Tetradi po konservatizmu, 2018, no. 1, pp. 203–218. (In Russian).
- Blokhin, V.F. Glavnoe upravlenie tsenzury i ego nachalnik knyaz P.A. Vyazemskiy v usloviyakh podgotovki krestyanskoy reformy v Rossii [Major Censor Management and its Chief Prince P.A. Vyazemsky in the Conditions of Preparing Peasant Reform in Russia.]. Vestnik gosudarstvennogo i munitsipalnogo upravleniya, 2019, vol. 8, no. 4, pp. 131–147. (In Russian).
- Blokhin, V.F. Iz istorii tsenzurnogo reformatorstva: Gosudarstvo i legalnaya pechat Rossii v politicheskom kontekste (1865 – 1905 gody) [From the History of Censorship Reform: The State and Legal Press of Russia in Political Context (1865 – 1905).]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta, 2009, no. 6 (144), pp. 34–44. (In Russian).
- Chirskova, I.M. Tsenzura kak istoriko-kulturnyy fenomen v Rossii XIX veka [Censoring as the History-Cultural Phenomenon in Russia of the 19th Century.]. Vestnik RGGU. Seriya: Istoriya. Filologiya. Kulturologiya. Vostokovedenie, 2008, no. 10, pp. 115–125. (In Russian).
- Edwards, D.W. Russian Ecclesiastical Censorship during the Reign of Tsar Nicholas I. Journal of Church and State, 1977, vol. 19, no. 1, pp. 83–93. (In English).
- Foote, I.P. The St. Petersburg Censorship Committee, 1828 – 1905. Oxford Slavonic Papers. New Series, 1991, vol. 24, pp. 60–120. (In English).
- Galliulina, R.Kh. Reglamentatsiya tsenzury v Rossii (vtoraya polovina XVIII – nachalo XIX veka) [Regulation of Censorship in Russia (Second Half of the 18th – Early 19th Centuries).]. Vestnik Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii, 2022, vol. 13, no. 1 (47), pp. 15–24. (In Russian).
- Ivanova, A.A. “Opyt o prosveshchenii otnositelno k Rossii” I.P. Pnina v epitsentre stolknoveniy vlasti i obshchestva v nachale XIX v. [Pnin’s Work “An Essay on Enlightenment with Reference to Russia” as the Epicenter of Confrontation between Government and Society at the Dawn of the 19th Century”.]. Lokus: lyudi, obshchestvo, kultury, smysly, 2019, no. 3, pp. 28–37. (In Russian).
- Lincoln, W.B. The Problem of Glasnost’ in Mid-Nineteenth Century Russian Politics. European History Quaterly, 1981, vol. 11, no. 2, pp. 171–188. (In English).
- Makushin, L.M. Diskussiya 1862 g. o glasnosti i svobode pechati [Discussion of 1862 on Glasnost and Freedom of Press.]. Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 1: Problemy obrazovaniya, nauki i kultury, 2009, vol. 67, no. 3, pp. 71–79. (In Russian).
- Makushin, L.M. Programmy N.A. Valueva i A.V. Golovina nakanune tsenzurnoy reformy 1865 g. [The Programmes by N.A. Valuev and A.V. Golovin prior to the Censorship Reform of 1865.]. Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 1: Problemy obrazovaniya, nauki i kultury, 2009, vol. 62, no. 1-2, pp. 227–236. (In Russian).
- Maslova, A.A. N.F. fon Kruze ob obyazannosti tsenzora i znachenii literatury v Rossii [N.F. von Kruse on the Duty of the Censor and the Importance of Literature in Russia.]. Prepodavatel XXI vek, 2022, no. 4, pp. 286–293. (In Russian).
- Maslova, A.A. Pechatat zapreshchaetsya: k voprosu o publikatsii biografii A.N. Radishcheva v 1858 godu [Forbidden to Print: On the Issue of Publishing the Biography of A.N. Radishchev in 1858.]. Lokus: lyudi, obshchestvo, kultury, smysly, 2021, vol. 12, no. 1, pp. 11–19. (In Russian).
- Patrusheva, N.G. Meditsinskaya tsenzura v tsirkulyarakh tsenzurnogo vedomstva [Medical Censorship in Circulars of the Censorship Department.]. Trudy Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kultury, 2018, vol. 217, pp. 146–151. (In Russian).
- Patrusheva, N.G. Sbornik “Tsenzura v Rossii: istoriya i sovremennost” (k dvadtsatiletiyu izdaniya) [On the Twentieth Anniversary of the Publication of the Collection “Censorship in Russia: History and Modernity”.]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kultury, 2022, no. 1 (50), pp. 178–183. (In Russian).
- Patrusheva, N.G. Struktura i finansirovanie tsenzurnogo vedomstva vo vtoroy polovine XIX – nachale XX veka [The Structure and Financing of the Censorship Department in the Second Half of the 20th – Early 20th Centuries.]. Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta, 2010, no. 3, pp. 102–107. (In Russian).
- Perevalova, E.V. Programma russkogo liberalizma v pervye gody pravleniya Aleksandra II (po materialam zhurnala M.N. Katkova “Russkiy Vestnik”) [The Program of Russian Liberalism in the Early Years of the Reign of Alexander II (Based on the Materials of M.N. Katkov’s Journal “Russian Bulletin”).]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika, 2015, no. 2, pp. 125–132. (In Russian).
- Pustarnakov, V.O. Reformirovanie voennoy tsenzury v usloviyakh podgotovki zakona o pechati pri imperatore Aleksandre II [Military Censorship’s Reform in the Preparation of the Press Law under Alexander II.]. Nauchnye problemy gumanitarnykh issledovaniy, 2011, no. 10, pp. 97–103. (In Russian).
- Perevalova, E.V. “Istina ne dolzhna boyatsya glasnosti…” (Zhurnal “Russkiy vestnik” i tsenzura v pervye gody reform Aleksandra II) [“Truth Must Not Fear Publicity...” (The Journal “The Russian Bulletin” and Censorship in the Early Years of Alexander II’s Reforms.).]. Lokus: lyudi, obshchestvo, kultura, smysly, 2016, no. 1, pp. 21–31. (In Russian).
- Remy, J. The Valuev Circular and Censorship of Ukrainian Publications in the Russian Empire (1863 – 1876): Intention and Practice. Canadian Slavonic Papers = Revue Canadienne des Slavistes, 2007, vol. 49, no. 1-2, pp. 87–110. (In English).
- Repinetskiy, S.A. Moskovskiy tsenzurnyy komitet i politika v otnoshenii pechati nakanune otmeny krepostnogo prava [Moscow Censorship Committee and the Policy toward Public Press before the Emancipation.]. Rossiyskaya istoriya, 2011, no. 2, pp. 109–116. (In Russian).
- Solovev, P.K. Vedomstvennaya tsenzura v Rossii pri Nikolae I [Internal Departmental Censorship in Russia under Nicholas I.]. Voprosy istorii, 2004, no. 7, pp. 139–145. (In Russian).
- Starkova, L.K. Pravitelstvennye i obshchestvennye initsiativy v voprosakh reglamentatsii rossiyskoy tsenzury v nachale XIX veka [Governmental and Public Initiatives in Questions Concerning the Regulation of Russian Censorship at the Beginning of the 19th Century.]. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Istoriya. Mezhdunarodnye otnosheniya, 2011, vol. 11, no. 2-1, pp. 3–11. (In Russian).
- Stroganova, E.N. Moskovskiy tsenzor D.S. Rzhevskiy: shtrikhi k portretu [Moscow Censor D.S. Rzhevsky: Touches to the Portrait.]. Kultura i tekst [Digital Journal], 2014, no. 1 (16), pp. 101–118. (In Russian).
- Walkin, J. Government Controls Over the Press in Russia, 1905 – 1914. The Russian Review, 1954, vol. 13, no. 3, pp. 203–209. (In English).
- Balmuth, D. Censorship in Russia, 1865 – 1905. Washington (DC): University Press of America, 1979, 249 p. (In English).
- Chernukha, V.G. Issledovaniya po istorii vnutrenney politiki Rossii vtoroy poloviny XIX veka [Studies on the History of Russia’s Domestic Policy in the Second Half of the 20th Century.]. St. Petersburg, 2020, 543 p. (In Russian).
- Choldin, M.T. A Fence around the Empire: Russian Censorship of Western Ideas under the Tsars. Durham (NC): Duke University Press, 1985, 281 p. (In English).
- Choldin, M.T. Garden of Broken Statues: Exploring Censorship in Russia. Boston (MA): Academic Studies Press, 2016, 204 p. (In English).
- Fedyashin, A.A. Liberals under Autocracy: Modernization and Civil Society in Russia, 1866 – 1904. Madison (WI): University of Wisconsin Press, 2012, 282 p. (In English).
- Lemke, M.K. Epokha tsenzurnykh reform 1859 – 1865 godov [The Era of Censorship Reforms, 1859 – 1865.]. St. Petersburg, 1904, 512 p. (In Russian).
- Repina, L.P. Istoricheskaya nauka na rubezhe XX – XXI vv.: sotsialnyye teorii i istoriograficheskaya praktika [Historical Science at the Turn of the 20th and 21st Centuries: Social Theories and Historiographical Practice.]. Moscow, 2011, 560 p. (In Russian).
- Ruud, C.A. Fighting Words: Imperial Censorship and the Russian Press, 1804 – 1906. Toronto: University of Toronto Press, 2009, 330 p. (In English).
- Skabichevskiy, A.M. Ocherki istorii russkoy tsenzury (1700 – 1863 g.) [Essays on the History of Russian Censorship (1700 – 1863)]. St. Petersburg, 1892, 495 p. (In Russian).