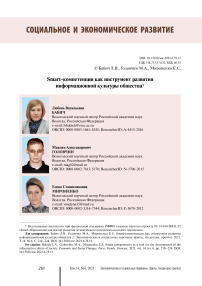Smart-компетенции как инструмент развития информационной культуры общества
Автор: Бабич Любовь Васильевна, Головчин Максим Александрович, Мироненко Елена Станиславовна
Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc
Рубрика: Социальное и экономическое развитие
Статья в выпуске: 6 т.14, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье в качестве инструмента для создания образцов культуры информационного общества рассматривается процесс формирования smart-компетенций, имеющих синергическую природу. Цель исследования - оценка результативности формирования smart-компетенций в управляемой (институционализированной) и неуправляемой (неинституционализированной) среде. В работе представлено концептуальное понимание smart-компетенций как интеграции современных базовых и гибких навыков в образовательном профиле обучающегося. Авторами приведены результаты моделирующего эксперимента, осуществленного в 2020-2021 гг. Эксперимент состоял из констатирующего, формирующего и результирующего этапов. В каждом из них приняли участие 76 школьников из Вологды и Старой Руссы, объединенные в контрольную и экспериментальные группы. В рамках эксперимента в соответствии с предложенными в исследовании принципами проводилось два замера smart-компетенций (начальный и контрольный уровень). В промежутке между ними на испытуемых оказывалось воздействие в целях поддержания стабильного уровня smart-компетенций. В результате эксперимента выявлены большие возможности процесса формирования smart-компетенций в управляемой среде в традиционных классах. Именно в этом случае в ходе эксперимента был сохранен стратегический уровень развития компетенций. В заключение определено, какие именно образцы информационной культуры создает smart-образование. Новизна проекта состоит в оригинальной модели исследования smart-компетенций, которая определяет структуру и признаки этого феномена. В рамках исследования предложен методологический подход к организации формирующего процесса в направлении развития современных компетенций в smart-среде. Он может быть использован образовательными организациями в российских регионах.
Smart-компетенции, информационная культура, моделирующий эксперимент, диагностический тест, культурные паттерны
Короткий адрес: https://sciup.org/147236368
IDR: 147236368 | УДК: 316.733:37.032 | DOI: 10.15838/esc.2021.6.78.12
Текст научной статьи Smart-компетенции как инструмент развития информационной культуры общества
В современном мире технические навыки с каждым годом устаревают, а востребованными становятся специалисты, обладающие балансом «мягких» и «жестких» компетенций, чему способствует специфика информационного общества, которая формирует качественно новые культурные образцы и практики [1].
Современный этап развития цивилизации характеризуется доминирующей ролью информации и знаний как движущей силы общественного прогресса и построением информационного общества как «универсальной идеологии в условиях глобализации» [2]. В научном сообществе к настоящему времени сформулировано довольно большое количество определений данного феномена и ряд концептуальных подходов к его изучению. Подробно классификация концепций информационного общества рассмотрена в работах нескольких авторов [2–5]. В целом можно констатировать, что идея информационного общества зародилась среди социологов, философов и футурологов. Основоположниками введения в научный оборот понятия «информационное общество» считаются японские ученые Т. Умэсао («Тео- рия информационной индустрии», 1963 г.) и Ю. Хаяси («Информатизированное общество: от индустриального общества к интеллектуальному обществу», 1969 г.). Среди пионерных работ по этой тематике также можно отметить «Будущее постиндустриального общества» Д. Белла [6], где он утверждает, что научно-технический прогресс способствует доминированию деятельности по обработке информации. В монографии «Информационное общество как постиндустриальное общество» И. Масуда обозначил отличие будущего информационного общества от существующего индустриального и показал, что «производство информационного продукта, а не продукта материального, будет движущей силой образования и развития общества» [7, с. 49]. Э. Тоффлер обозначил третью волну социальной революции переходом к информационному обществу [8]. П. Леви предложил идею «коллективного разума», считая им глобальную сеть Интернет [9]. Концепция информационного общества в отечественной научной среде была признана чуть позже благодаря трудам А.И. Анчишкина, Н.Н. Моисеева, А.Д. Урсула и др.
В основу термина «информационное общество» как у зарубежных, так и российских ученых заложена идея возрастания роли достоверной информации и ценности теоретического знания на фоне повсеместного внедрения информационно-коммуникационных технологий. В этих условиях становится очевидным влияние ИКТ на все сферы жизнедеятельности человека: политику, экономику, общепринятые нормы и правила поведения, т. е. на общество в целом [10]. Соответствующие процессы порождают новую культуру общества – информационную культуру, которая является информационным базисом развития социума [11]. Информационная культура «отражает и выражает сложные процессы, происходящие в обществе в связи с информатизацией ее различных сфер, преобразования в экономической, социально-политической и духовной жизни» [12, с. 80].
Понятие и содержание информационной культуры в настоящее время рассматривается как в российском, так и зарубежном научном сообществе с точки зрения различных подходов. Так, например, А. Curry и С. Moore, используя обозначенное понятие, говорят о культуре, «в которой признается ценность и полезность информации для достижения операционного и стратегического успеха, где информация составляет основу принятия организационных решений, а информационные технологии легко используются как инструмент для эффективных информационных систем» [13, c. 94].
Мы, придерживаясь мнения российских исследователей (А.А. Городновой и др.), будем рассматривать информационную культуру как «новый тип общения и мышления, формирующийся в результате освобождения человека от рутинной информационно-интеллектуальной работы, среди черт которого ярко проявляется ориентация на саморазвитие и самообучение» [14, с. 85]. В формировании информационной культуры очевидна роль человеческого потенциала, поскольку значение и роль личности в рамках этого процесса значительно возрастает. «От такой личности требуется чувство нового, прогностическая ориентация на будущее, у нее другие личностные и профессиональные компетенции, другая система ценностей, другая культура, тип сознания, мировоззрения, роль которых возрастает как в условиях кри- зиса, так и переходного состояния общества» [15, с. 6]. Это значит, что для каждого субъекта информационной культуры в отдельности необходимо формирование таких компетенций, которые будут использоваться для успешной социализации и создания общественно-полезных благ. На взгляд авторов, ими могут стать smart-компетенции.
В современных условиях именно smart-компетенции (S – самоуправляемые, M – мотивирующие, A – гибкие, R – вариативные, T – технологические) являются надежным инструментом формирования культуры информационного общества на ранних этапах развития личности и профессионала (старший школьный возраст). Процесс развития smart-компетенций у отдельной личности сам по себе синхронизирован с темпами развития информационного общества. Другими словами, они обычно формируются в процессе получения опыта взаимодействия личности с современной культурой, обществом и экономикой. Чем более развитым становится информационное общество, чем больше образцов повседневности оно предлагает, тем больше различных компетенций получает личность. Однако культура информационного общества создает как позитивные, так и негативные образцы. К первым относятся демассификация и персонализация культуры, максимизация возможностей для раскрытия потенциала отдельной личности в сфере экономики и творчества; ко вторым – интер-нет-аддикции, ретретизм, электронная агрессия и кризис самоидентификации [16, с. 1362].
В связи с этим возникают вопросы, как определить минимум условий, достаточных для поддержания и трансляции позитивных образцов информационной культуры молодому поколению; какой институт должен взять на себя функции по отбору и культивации выверенных образцов культуры информационного общества, а также соответствующих им современных компетенций? Семья? Образование? Средства массовой информации? Гражданское общество? Власть?
В рамках исследования мы подтверждали рабочую гипотезу: становление позитивных образцов информационной культуры лучше проходит в рамках целенаправленного процесса формирования smart-компетенций (т. е. в контролируемых условиях образовательной smart- среды). В ходе свободного развития (вне образовательной среды, в процессе приобретения и обогащения жизненного опыта, общения) подобный эффект не достигается.
Цель нашего исследования – оценить возможности для формирования smart-компетенций в разных образовательных условиях (свободных и контролируемых) в качестве драйвера развития информационного общества и информационной культуры. Для реализации цели была разработана теоретическая модель smart-компетенций как совокупности базовых знаний и гибких навыков, необходимых для адаптации молодого поколения к информационному обществу; представлен алгоритм оценки этих компетенций в процессе их формирования; проведен эксперимент в малых группах испытуемых, на основании результатов которого оценена возможность продуктивного формирования smart-компетенций в разных образовательных условиях. В рамках исследования мы постарались внедрить экспериментальную модель целенаправленного формирования smart-компетенций в образовательный процесс.
Теоретические рамки исследования
Жизнь в «информационном обществе» подразумевает ежедневную работу с огромным потоком информации. Наш успех и выживание зависят от нашей способности умело и надлежащим образом находить, анализировать и использовать информацию. Решение проблем, принятие решений, критическое мышление, сбор информации и осмысление – это способности, связанные с особым видом грамотности и культуры. Новые компетенции готовят личность к удовлетворению особых требований информационной эпохи.
М.И. Орлов полагает, что в современных условиях парадигмой цивилизационного развития может стать идея построения общества знания как социальной структуры, постоянно производящей и потребляющей знания (особую форму информации). Автор подчеркивает общность концепций информационного общества и общества знаний, которая заключается в «их принципиальном согласии относительно сути протекающих в современном обществе процессов – интенсификации социальных и экономических процессов, возрастании значимости нематериальных факторов в процессе изменения человеческой жизни» [17].
Также указывается на возможности развития современной информационно-технологической парадигмы в направлении учета потребностей общества в непрерывном обучении, реализация которого связана с преодолением главного противоречия между стремительными темпами роста объемов информации в мире и естественными ограничениями возможностей их усвоения человеком. Это противоречие побуждает образовательные структуры формировать у населения качественно новые навыки, среди которых умение учиться, находить информацию, критически ее оценивать и творчески осмысливать. Названные компетенции в будущем могут обеспечить населению возможность успешно жить и работать в информационном обществе [18]. Г. Халас рассматривает новые образовательные компетенции как прямой ответ на вызовы, стоящие перед современной Европой (сохранение открытого общества, мультилингвизм, мультикультурализм, развитие комплексных организаций, динамические изменения в экономике и т. д.) [19].
Для информационного общества компетенция – больше, чем просто знания, навыки и умения, поскольку она включает в себя способность удовлетворять сложные требования, привлекая и мобилизуя психосоциальные ресурсы (включая навыки и отношения) в конкретном контексте [20]. Изменения в обществе и культуре, основанные на применении новых технологий, их быстрое развитие влияют на выбор тех или иных компетенций. Существование в информационном пространстве требует от современного человека компетенций, которые открывают большие возможности для взаимодействия в профессиональных сетевых сообществах, способствуют эффективной социализации и дальнейшей самореализации. На этом фоне новая грамотность и гибкие навыки становятся важнейшими компетенциями для полноценного участия человека в информационном обществе.
С нашей точки зрения, парадигму развития информационного общества на современном этапе могла бы дополнить концепция формирования smart-компетенций как основы для адаптации населения к условиям современного социума, рынка труда, а также технологической среды. Эти компетенции отражают принципы постановки жизненных задач в современ- ном мире: способность к незамедлительному реагированию на изменения во внешней среде; адаптация к трансформирующимся условиям; самостоятельное развитие и самоконтроль; эффективное достижение результатов. Подобные компетенции основаны на управлении знаниями в реальном и виртуальном мире [21]. Под smart-компетенциями мы понимаем систему «новых» знаний и гибких навыков, необходимых человеку, для того чтобы адаптироваться к современному миру и новой информационной культуре. Подобные компетенции формируются с раннего возраста. В идеальной ситуации человек будет обладать комбинацией навыков, характер которых, вероятно, изменится на протяжении жизненного пути в ответ на меняющиеся обстоятельства и контекст [22].
По своей природе smart-компетенции принципиально отличаются от предметных знаний, развивающихся в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов и программ, и выполняют дополнительную по отношению к ним роль. Smart-компетенции принципиально важны не для общей культуры человека, а для деятельности работников нового типа, «работников знаний», для адаптации к быстро меняющимся информационным и коммуникационным технологиям, которые постоянно появляются в нашем мире и влияют на все области личной и профессиональной жизни. Новые знания позволяют использовать интернет и другие технологии, для того чтобы найти и синтезировать информацию, критически оценить ее полезность, ответить на вопросы, а затем сообщить ответы другим. Smart-компетенции во многом лежат в основе эффективного участия в ключевых сферах жизни и работы. В сегодняшних высокотехнологических условиях они являются базисом для полноценного участия в жизни общества и, как таковые, должны развиваться и совершенствоваться с течением времени и в соответствии с личными и профессиональными обстоятельствами отдельных лиц. Благодаря своей специфике smart-компетенции широко затрагивают межличностную область, относящуюся к командной работе и сотрудничеству (включая коммуникативные навыки, сотрудничество, умение работать в команде); внутрилич-ностную область, связанную с интеллектуальной открытостью, положительной самооценкой
(гибкость, инициатива и метапознание); когнитивную область, связанную с познавательными процессами, знаниями и творчеством (включая навыки критического мышления, информационной и финансовой грамотности, аргументации, а также креативности).
Мы предлагаем подход к smart-компетенциям как к сложному явлению, состоящему из ряда структур:
-
а) компетенции «новых» знаний, весьма актуальные для информационного общества и «профессий будущего»; к ним относятся цифровая грамотность (ЦГ) как умение работать с современным программным обеспечением и инструментами сети Интернет; финансовая грамотность (ФГ) как совокупность знаний, навыков и установок в сфере финансового поведения человека; проектная грамотность (ПГ) как умение работать с массивами данных, научной информацией, осуществлять исследовательский анализ;
-
б) гибкие навыки (soft skills) – кроссфунк-циональные навыки, которые в современном мире требуются вне зависимости от занятости и профессии; это коммуникативная грамотность (умение общаться с людьми, КомГ), организаторские способности и умение работать в команде (РК), а также сетевая культура (ценностно-этическое отношение к интернет-технологиям, СК). Обоснование состава этих компетенций было представлено в предыдущих публикациях авторского коллектива [22; 23].
В рамках идеи исследования мы полагаем, что процесс формирования и обновления smart-компетенций в современном мире происходит постоянно, что связано с особенностями информационного общества и информационной культуры. Однако в настоящее время он слабо институционализирован и развивается, главным образом, в неконтролируемой среде (проще говоря, связан с приобретением жизненного опыта, развитием личности и профессионала в информационном обществе).
Мы считаем, что каждая из smart-компетенций проявляет себя на нескольких уровнях: стратегическом (уровень владения достаточен для самостоятельного принятия решения с учетом долгосрочных последствий); автономном (уровень владения достаточен для самостоятельного выполнения профессиональных и образовательных задач); базовом (уровень владе- ния достаточен для работы и обучения, но при этом личность испытывает затруднения в выполнении различных задач) [23].
Для выделения уровней развития smart-компетенций мы воспользовались подходом О.Ю. Свергун, в рамках которого предлагается описывать проявления компетенций в поведенческих терминах. Критерием для отбора уровней выступает объект, на который направлен потенциал накопленных компетенций (внутренняя или внешняя среда). Так, в рамках предложенной типологии носитель компетенции либо стремится проявлять нужный навык в жизни (базовый уровень), либо использует его для личностного развития (автономный уровень), либо не только сам применяет навык, но и создает возможности для развития компетенций у других людей: одноклассников, родственников, коллег (стратегический уровень). Подобные образцы поведения как нельзя лучше характеризуют применение smart-компетенций на практике [24].
В отношении цифровой грамотности стратегический уровень развития компетенций означает, что обучающийся знает все компьютерные программы, умеет с ними работать и т. д.; средний указывает на то, что он обладает этими знаниями лишь в общих чертах; базовый – на то, что он вовсе не владеет подобной информацией [23].
Для того чтобы обладать стратегическим уровнем финансовой грамотности, обучающийся должен быть отлично осведомлен в вопросах использования денежных средств, личного бюджета и его планирования, финансовой безопасности, кредитных операций, инвестирования и работы фондового рынка; часто сталкиваться с ведением личного и семейного бюджета, планированием сумм расходов, необходимостью жить по средствам и т. д. Автономный уровень формируется тогда, когда осведомленность в вопросах финансовой грамотности является частичной, а полное отсутствие знаний указывает на базовый уровень. Кроме того, для базового уровня развития финансовой грамотности характерны отсутствие убежденности в необходимости сбережений, нежелание экономить, стремление совершать спонтанные покупки и уверенность в том, что посторонним можно сообщать реквизиты банковского счета или их часть [23].
Стратегический уровень проектной грамотности указывает на постоянный осознанный интерес испытуемого к научно-исследовательской деятельности (планомерно затрачивается по несколько часов в неделю); автономный уровень – на эпизодический интерес (реже одного дня в неделю); базовый – на полное отсутствие интереса к подобной деятельности [23].
Стратегический уровень коммуникативной грамотности и умения работать в команде определяет высокий уровень коммуникативных способностей (по тесту КОС В.В. Синявского и В.А. Федорошина); контактность, дружелюбность, легкость в общении. Автономный уровень – средний уровень коммуникативных способностей, закрытость, отсутствие гибкости и принципиальности. Базовый уровень – низкий уровень коммуникативных способностей, неак-тивность в команде и самодостаточность [23].
Стратегический уровень сетевой культуры означает, что испытуемый не имеет конфликтов с родителями и окружающими людьми по поводу контента и времени, проводимого в интернете; не скрывает от родителей количество времени, проводимого онлайн; перепроверяет информацию из интернета, пользуясь альтернативными источниками; старается не открывать сообщения, приходящие на электронную почту от незнакомых людей; не общается с людьми, оскорбляющими в интернете, сразу заносит их в «черный список» контактов; считает, что для общения в сети требуются правила вежливости; не использует никнеймы и фейковые аккаунты для оскорбления людей. Базовый уровень сетевой культуры означает, что испытуемый считает жизнь без интернета скучной, пустой и безрадостной; часто пренебрегает общением с родителями, домашними делами из-за интернета; находит в интернете готовые работы и выдает их за свои; испытывает безграничное доверие к информации в интернете и онлайн-собеседни-кам; считает, что личные данные можно безопасно выкладывать в интернет; в конфликтных ситуациях в сети выясняет отношения публично на форуме (сайте) [23].
Таким образом, формирование smart-компетенций рассматривается нами как процесс поэтапного перехода «новых» знаний и гибких навыков от базового к стратегическому уровню развития. Мы предполагаем, что подобный эффект может быть достигнут как в управ- ляемой, так и неуправляемой среде, но с разной результативностью. Для того чтобы обосновать эту результативность, мы в плане эксперимента воспроизвели элементы формирования smart-компетенций в малой опытной группе.
Методика исследования
Оценка уровня развития компетенций как результата образовательной деятельности является одной из наиболее обсуждаемых, спорных и пока нерешенных проблем в связи с непрерывно изменяющимися требованиями общества к системе образования. Выбор методов и методик изучения уровня развития компетенций составляет наибольшую трудность, что объясняется сложностью самой структуры компетенций [25, с. 103].
В рамках диагностики общих и профессиональных компетенций в науке обычно используются два методологических подхода. Первый – традиционный подход, ориентированный на оценку академических результатов на основе измерения педагогическими измерительными материалами, которые создаются на основе опыта, а их качество оценивается интуитивно. Второй – технологический подход, предполагающий применение современных оценочных средств, которые создаются на основе технологии (а не опыта), их надежность и валидность оценивается на базе эмпирических данных. Диагностика и оценка уровня развития компетенций в этом случае происходит в результате реализации самого развития компетенций, что подразумевает предоставление обучающемуся возможности самому выступить в роли носителя компетенции и оценщика. Инструментом, используемым в рамках традиционного подхода, обычно является тест, который применяется в ходе контрольно-оценочных процедур; в рамках технологического подхода – анкета, диагностический опросник, портфолио, которые применяются в рамках наблюдения, кейс-стади, анкетирования, интервью и эксперимента. Преимуществом традиционного подхода выступает кажущаяся простота интерпретации данных; недостатком – выявление не компетенций как таковых, а, скорее, уровня информированности о данной компетенции. Технологический подход дает намного более богатый материал для размышлений (характер и личностные особенности носителя компетен- ций, мотивы и склонности), но при этом предоставляет исследователю, главным образом, набор субъективных результатов [23].
В нашем исследовании в рамках апробации авторского подхода к smart-компетенциям предложен метод моделирующего эксперимента, который представляет собой систему наблюдений за краткосрочными изменениями в личностном развитии человека (психологическом или образовательном). Это наблюдение осуществляется в процессе оказания активного воздействия исследователя на испытуемого.
Моделирующий эксперимент построен в соответствии с принципами технологического подхода к оценке компетенций. Этот метод был выбран нами, поскольку он не ограничивается регистрацией отдельных фактов о развитии личности, а посредством создания специальных ситуаций раскрывает закономерности и позволяет оценить результативность самого процесса личностного развития в динамике, что соответствует цели нашего исследования [26].
Эксперимент проводился в рамках научного проекта РФФИ «Smart-образование как вектор развития человеческого потенциала молодого поколения». В качестве объекта моделирующего эксперимента рассматривается уровень развития smart-компетенций у детей, обучающихся в 9–10 классах школы. Ставилась задача создать условия, способствующие оптимальному формированию smart-компетенций в управляемой среде, а также сравнить уровень развития компетенций в управляемой и неуправляемой среде [23].
В соответствии с рекомендациями экспертов эксперимент состоял из трех этапов: 1) констатирующий (в рамках которого выяснялся исходный уровень развития smart-компетенций); 2) формирующий (реализация формирующего smart-компетенции воздействия); 3) контрольный (в ходе которого проводилась оценка эффективности и результативности работы по формированию smart-компетенций методом сравнения с исходным уровнем) [26]. Таким образом, проектный коллектив имел возможность прийти к выводам о том, при каких условиях формируются изучаемые компетенции, сохраняя при этом важные естественные условия жизнедеятельности объекта исследования.
Моделирующий эксперимент проводился в течение 2020/2021 учебного года. На всех этапах эксперимента сохранялся постоянный состав испытуемых – 76 чел. Испытуемые были объединены в три группы: а) контрольная группа (КГ) – обучающиеся Средней общеобразовательной школы № 13 города Вологды (28 чел.); б) экспериментальная группа № 1 (ЭГ1) – обучающиеся академического класса Научно-образовательного центра ВолНЦ РАН (27 чел.); в) экспериментальная группа № 2 (ЭГ2) – обучающиеся школ города Старая Русса, которые принимали участие в проекте Интернет-школа ВолНЦ РАН. Таким образом, группы создавались исходя из принципов наличия схожих условий личностного и образовательного развития [23].
Испытуемые, входящие в КГ, формировали smart-компетенции в свободной (неуправляемой) среде, в ходе эксперимента на них не оказывалось никакого воздействия. На испытуемых из экспериментальных групп в рамках работы Научно-образовательного центра ВолНЦ РАН (далее – НОЦ ВолНЦ РАН) целенаправленно оказывалось воздействие по формированию smart-компетенций (формирующее воздействие).
В исследовании мы исходили из понимания о том, что испытуемые до начала эксперимента уже обладали неким стартовым уровнем развития smart-компетенций, который может быть неодинаков. Система образования пока не может предложить условия для целенаправленного формирования соответствующих компетенций. Это означает, что они формируются у детей нецеленаправленно, не в образовательной среде, а в свободном режиме, в ходе приобретения и обогащения жизненного опыта.
Результаты исследования
В рамках эксперимента мы попытались предложить программу действий для целенаправленного формирования smart-компетенций в экспериментальных группах. Алгоритм проведения эксперимента представлял собой последовательность нескольких этапов.
Первый этап – констатирующий (сентябрь 2020 года). В его рамках был проведен начальный замер наличного уровня компетенций у всех испытуемых (до оказания формирующего воздействия). Инструментарием оценки стал диагностический тест, вопросы которого на- целены на самооценку испытуемыми наличия у них признаков smart-компетенций. Для формирования теста использовались как разработки авторского коллектива, так и известные методики психологической диагностики.
Во время констатирующего этапа эксперимента было определено, что представители двух групп (КГ и ЭГ1) обладали начальным уровнем владения smart-компетенциями на нижнем пределе стратегического уровня (0,71). Однако уровень развития smart-компетенций представителей ЭГ2 не достиг стратегических значений. Вместе с тем во всех группах испытуемых наблюдалось отставание в развитии коммуникативных навыков и умения работать в команде. У представителей ЭГ2, например, коммуникативная грамотность была развита лишь на базовом уровне.
На втором этапе (октябрь 2020 – май 2021 года) на испытуемых из экспериментальных групп оказывалось формирующее воздействие, направленное на развитие отдельных smart-компетенций. Формирующее воздействие заключалось в сохранении в управляемой среде стратегического уровня развития smart-компетенций и усилении коммуникативной грамотности и умения работать в команде. Мероприятия проводились на базе НОЦ ВолНЦ РАН (для ЭГ1 в офлайн-формате) и Интернет-школы ВолНЦ РАН (для ЭГ2 в онлайн-форма-те), в частности, в системе реализовывалились элективные курсы (финансовая грамотность, экономическая математика, основы исследовательской деятельности), мастер-классы «Искусственный интеллект. Как подружиться с компьютерным разумом», «Как защитить информацию на своих гаджетах?», Неделя науки и предпринимательства, Неделя финансовой грамотности, дискуссионный клуб (на котором были рассмотрены темы «Трудности профессионального выбора», «Искусство публичного выступления», «Как построить индивидуальную траекторию профессионального развития»).
Формирующее воздействие оказывалось в рамках активного использования преподавателями в процессе образования цифровых технологий и онлайн-сервисов, позволяющих создавать интерактивные упражнения для проверки знаний (LearningApps, Etreniki, Quizizz, Baamboozle, Gamilab, Worldwall, Educandy). Применялись активные и интерактивные тех- нологии и методы обучения, основанные на собственной активности обучающихся, интерактивной коммуникации, командной работе, групповой и индивидуальной рефлексии: технология развития критического мышления, технология коммуникативного обучения; дискуссия, игровые технологии, кейс-технологии, презентации, мозговой штурм, уроки с применением аудио- и видеоматериалов, тесты в режиме онлайн, мастер-классы, тренинги, интерактивные голосования, опросы, организация исследовательской деятельности, технологии дистанционного обучения, технологии «смешанного обучения» (blended learning), в том числе «перевёрнутое обучение» (flipped learning), мобильное обучение и т. д. Также использовались собственные онлайн-курсы преподавателей НОЦ ВолНЦ РАН.
На третьем этапе (май – июнь 2021 года) с помощью диагностического теста был проведен контрольный замер уровня smart-компетенций. Тест полностью соответствовал тому, что использовался на констатирующем этапе.
После формирования баз данных двух волн замеров мы провели диагностику искренности (добросовестности) испытуемых на основании использования социологической техники мультипликации опросов. В итоге в базе первой волны замеров в рамках анализа было отсортировано 22,4% тестов, которые не соответствовали признакам добросовестности; в базе второй волны – 10,5%.
В рамках рефлексии над экспериментальными данными нами была апробирована следующая схема действий для сравнения краткосрочных результатов целенаправленного и нецеленаправленного формирования smart-компетенций у испытуемых. Сначала производилась обработка ответов по единой схеме, каждому ответу присваивалось значение от 0 до 1 в зависимости от того, на каком уровне развита соответствующая компетенция (стратегический уровень – 1; автономный – 0,5; базовый – 0). Таким образом, получено два массива значений. Затем путем усреднения соответствующих значений находились субиндексы. После этого формировался итоговый индекс smart-компетенции (Isk) посредством нахождения среднего арифметического от значений субиндексов. Далее сравнивались индек- сы развития smart-компетенций за два периода измерений, на основе чего определялся тренд изменений (табл. 1). На следующем этапе индексные значения соотносились с уровнем развития smart-компетенций по следующей схеме: стратегический уровень – от 0,7 до 1; автономный уровень – от 0,5 до 0,69; базовый уровень – индекс меньше 0,5 (табл. 2). Пороговые значения показателей были определены с помощью кластеризации всего массива экспериментальных данных методом k-средних.
Измерения показали, что в ходе эксперимента результативность развития компетенций у испытуемых в целом несколько снизилась, но это снижение произошло за счет группы, которая не подвергалась формирующему воздействию. Итоги контрольного замера свидетельствуют, что в контрольной группе испытуемых общий уровень smart-компетенций снизился (от стратегического до автономного). Причем за период эксперимента сокращение затронуло значения субиндексов по всем отдельно взятым компетенциям (от цифровой грамотности до сетевой культуры). В целом же главной причиной такого перехода стало снижение уровня сетевой культуры, который из стратегического трансформировался в автономный.
Экспериментальная группа, подвергавшаяся формирующему воздействию в традиционном аудиторном формате (ЭГ1), сумела сохранить стратегический уровень развития smart-компетенций. Значения субиндексов базовых знаний (цифровой, финансовой и проектной грамотности) у этих испытуемых даже повысились (в контрольной группе в этом случае произошло сокращение). ЭГ1 единственная в ходе эксперимента смогла сохранить стратегический уровень развития сетевой культуры.
Итоговый уровень развития smart-компетенций у испытуемых из ЭГ2 так и не смог усилиться до стратегического, главным образом из-за резкого снижения уровня развития сетевой культуры (как и в КГ). Вместе с тем есть и позитивные результаты формирующего воздействия для ЭГ2. За период эксперимента коммуникативная грамотность у ее представителей развилась от базового до автономного уровня. В остальных группах подобной динамики в отношении коммуникативной грамотности не наблюдалось.
|
|
a |
< |
5 03 EZ |
< |
о |
< |
1 ш S CD 5 И |
|
a |
о |
О |
о |
< |
|||
|
a |
< |
< |
о |
< |
|||
|
a |
о |
о |
о |
ш |
|||
|
a |
< |
< |
< |
< |
|||
|
a |
< |
< |
< |
< |
|||
|
a |
< |
< |
< |
< |
|||
|
a |
< |
< |
< |
ш |
|||
|
1= |
a |
о |
о |
о |
о |
||
|
a |
о |
о |
о |
о |
|||
|
e |
a |
о |
о |
о |
о |
||
|
a |
о |
о |
о |
о |
|||
|
=r |
a |
о |
о |
о |
о |
||
|
a |
о |
о |
о |
о |
|||
|
^ CD СП |
о |
о |
|||||
Таблица 1. Динамика индексов сформированности smart-компетенций у испытуемых
Таблица 3. Удельный вес испытуемых с разным уровнем развития smart-компетенций на разных этапах эксперимента, %
|
Уровень |
КГ |
ЭГ1 |
ЭГ2 |
|||
|
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
|
|
Стратегический |
65,0 |
45,8 |
60,9 |
62,5 |
56,3 |
40,0 |
|
Автономный |
30,0 |
41,7 |
39,1 |
33,3 |
37,5 |
50,0 |
|
Базовый |
5,0 |
12,5 |
0,0 |
4,2 |
6,3 |
10,0 |
|
Всего |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Источник: расчеты авторов. |
||||||
Таким образом, за период проведения эксперимента без оказания формирующего воздействия в контрольной группе резко сократился удельный вес испытуемых со стратегическим уровнем развития smart-компетенций (с 65 до 46%). Испытуемые начали пополнять группу как с автономным, так и с базовым уровнем развития (табл. 3) .
Нечто подобное произошло и в ЭГ2, представители которой подвергались формирующему воздействию онлайн. Правда, в этом случае, главным образом, прослеживается переход от стратегического до автономного уровня (и то в основном за счет сетевой культуры).
Качественно иные тренды характерны для ЭГ1, представители которой получали формирующее воздействие в традиционных классах. Удельный вес испытуемых, достигших стратегического уровня smart-компетенций, несколько увеличился (с 61 до 63%). Это наилучший результат среди всех групп. Всего 4% испытуемых остались на базовом уровне (в КГ – 13%; в ЭГ2 – 10%).
Важным ограничением предпринятого эксперимента оказалась низкая результативность развития умения работать в команде. Во всех группах эти навыки за время измерений так и не достигли стратегического уровня, хотя в ЭГ2 заметны позитивные сдвиги в данном направлении. Возможно, это связано с необходимостью планирования более длительного периода формирующего воздействия и более детального учета психологических особенностей испытуемых.
Заключение
Очень важный результат проведенного эксперимента – это доказательство того, что уровень smart-компетенций, являющихся инструментом формирования информационной культуры, со временем способен снижать- ся. Возможности сохранения стратегического уровня smart-компетенций дает лишь управляемое формирующее воздействие в формате классических (аудиторных) занятий. Подобного эффекта, к сожалению, пока сложно достичь в рамках использования технологий дистанционного обучения, поскольку в этом случае важен непосредственный контакт, личное общение с испытуемым. Интернет-среда сама по себе может негативно отразиться на сетевой культуре (как одной из smart-компетенций), поскольку зачастую несет неоднозначные культурные образцы (интернет-буллинг, сетевой импринтинг, плавающий консьюмеризм) [16].
В этом состоит еще одно преимущество процесса формирования smart-компетенций. Для него обычно не требуется использование передовых технологий, необходимо учитывать потенциал существующих форм и инструментов.
Особенно заметным снижение smart-компетенций становится в неуправлямой (необразовательной) среде, поскольку она не является стабильной и ее влияние формируется под действием популярной культуры. Сетевая культура в неуправляемой среде намного больше подвергается негативным трансформациям, что грозит формированием у молодежи неоднозначных культурных образцов (среди которых отдельно можно отметить склонность к интернет-бул-лингу).
Каким же образом smart-компетенции создают образцы культуры информационного общества (культурные паттерны)? В зависимости от уровня владения компетенциями эти образцы будут разными (рисунок) .
Мы считаем, что стратегический уровень smart-компетенций, который может стать стабильным только в управляемой среде, является основой для формирования у молодого поколе-
Эволюция паттернов информационной культуры в рамках развития smart-компетенций

Источник: составлено авторами.
ния российского общества цифровой и финансовой зрелости, цифрового этикета, сциентизма (восприятие научных знаний как наивысшей культурной ценности), высокого уровня общения и взаимопонимания, а также командной гибкости и принятия плюрализма мнений. То есть всего того, что требуется от жизни и работы в современном информационном обществе.
Экспериментальное исследование в целом дает право рассуждать о возможности учета модели smart-компетенций в образовательных программах школы. Апробация, правда, не показала, что модель имеет результативность в отношении всех компетенций, что объясняется весьма коротким периодом формирующего воздействия. Образование должно стать базовой площадкой для развития smart-компетенций. Развитие компетенций должно происходить во всем диапазоне образовательных контекстов: от формальных институтов, таких как школы, колледжи и университеты, до неформального обучения, а также различных форм самостоятельного и неформального обучения.
Перспективы развития идеи формирования smart-компетенций в информационно-технологической парадигме и парадигме общества знания прежде всего связаны с проработкой концепции smart-компетенций как основы для развития человеческого потенциала. В этой концепции должно быть определено, что smart-компетенции возникают в условиях smart-образования как системы, в которую входят smart-агенты (smart-обучающиеся, smart-педагоги, smart-администрация и smart-родители), smart-среда (которая основана на применении в образовании умных устройств, техники и методов проектной деятельности) и smart-принципы (метапредметность, интерактивность, непрерывность, равноправие, осознанность, активность) [22]. Решение этой задачи должно стать частью стратегии развития страны и глобального сообщества. В будущем оно качественно преобразует всю систему образования и требования к работникам в отраслях экономики.
Подходы к выбору smart-компетенций должны быть динамичными и регулярно пересматриваться в связи с появлением новых технологий. Необходимо прилагать усилия для изучения концептуализации требуемых smart-компетенций, а затем включать их в образовательные стандарты. Процесс формирования smart-компетенций выигрывает от привлечения ресурсов и опыта как государственного, так и частного сектора, особенно от участия субъектов, обладающих глубокими знаниями о навыках, необходимых сегодня и актуальных в будущем.
В рамках исследования мы постарались предложить методологическую схему формирования smart-компетенций в образовательной (управляемой) среде, а также подход к экспериментальной диагностике этого процесса. По итогам эксперимента будет подготовлено методическое издание с подробными инструкциями по применению авторской модели в образовательных структурах.
Список литературы Smart-компетенции как инструмент развития информационной культуры общества
- Зенков А.Р., Удовенко И.П. Человеческий капитал в условиях нового технологического уклада: траектория формирования и развития // Общественные науки и современность. 2021. № 4. С. 7-19.
- Литвак Н. К вопросу о классификации концепций информационного общества // Социс. 2010. № 8. С. 3-11.
- Webster F. Theories of the Information Society. Routledge, 2006. 323 p.
- Dutton W.H. Social Transformation in an Information Society: Rethinking Access to You and the World. UNESCO. 2004.
- Nath H.K. The Information Society. SIBCOLTEJO - A Journal of the SCTU, 2009, vol. 4, pp. 19-29.
- Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. Revised Edition. New York: Free Press, 1973.
- Yoneji M. The Information Society as Post-Industrial Society. Washington, 1983. P. 49.
- Toffler A. The Third Wave. New York: Bantam Books, 1980.
- Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace. Perseus, 1999.
- Шмидт Э., Коэн Дж. Новый цифровой мир: как технологии меняют жизнь людей, модели бизнеса и понятие государства. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. С. 18-19.
- Levin I., Mamlok D. Culture and society in the Digital Age. Information, 2021, no. 12, p. 68. Available at: https:// doi.org/10.3390/info12020068
- Журавлева И.А. Информационное общество. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2013. 141 с.
- Curry A., Moore C. Assessing information culture: An exploratory model. International Journal of Information Management, 2003, no. 23(2), pp. 91-110.
- Городнов А.А. Информационная культура и информационное общество. Нижний Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии госслужбы, 2010. 174 с.
- Личность в информационно-инновационном обществе / под ред. проф. В.Н. Стегния. Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехи. ун-та, 2015. 448 с.
- Головчин М.А. Влияние интернет-активности на жизнь в эпоху цифровизации общества и экономики: на данных регионального исследования // Актуальные проблемы экономики и права. 2019. Т. 13. № 3. С. 1356-1369. DOI: http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.13.2019.3.1356-1369
- Орлов М.И. От информационного общества к обществу знаний: концептуализация новой парадигмы цивилизационного развития // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2011. № 2 (55). С. 237-245.
- Павлюк Р.А. Генезис понятия «информационная компетентность» в контексте непрерывного педагогического образования // Гуманитарные научные исследования. 2014. № 1. URL: https://human. snauka.ru/2014/01/5529 (дата обращения 15.09.2021).
- Halasz G., Michel A.P. Key competences in Europe: Interpretation, policy formulation and implementation. European Journal of Education, 2011, no. 46, pp. 289-306.
- The OECD Program Definition and Selection of Competencies (2005). The definition and selection of key competencies. Executive summary. June 30, 2005. Available at: http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367. pdf
- Табачук Н.П. Информационная, цифровая и smart-компетенции личности: трансформация взглядов // Ped.Rev. 2019. № 4 (26). С. 133-141.
- Бабич Л.В., Головчин М.А., Мироненко Е.С. Модель smart-компетенций как основа формирования человеческого капитала // Экономика образования. 2021. № 1 (122). С. 4-17.
- Головчин М.А., Россошанский А.И. Измерение smart-компетенций в рамках формирующего эксперимента: проверка оценочной модели // Педагогические измерения. 2021. № 1. С. 80-89.
- HR-практика. Управление персоналом: Как это есть на самом деле / О. Свергун [и др.]. СПб.: Питер, 2005. 320 с.
- Петренко Е.А. Современные подходы к оценке общих компетенций и основные проблемы их диагностирования // Педагогика и психология образования. 2014. № 4. С. 102-109.
- Егоров Д.В. Использование формирующего эксперимента в учебном процессе вуза // Вестник ТИУиЭ. 2010. № 1. С. 81-83.
- Ардашева А.Л. Формирующий эксперимент как один из основных методов педагогической психологии // Экономика и социум. 2017. № 11 (42). С. 94-97.