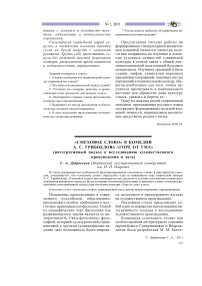«Смеховое слово» в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (интегративный подход к исследованию художественного произведения в вузе)
Автор: Дубровская Светлана Анатольевна
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Филологическое образование
Статья в выпуске: 1 (62), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются особенности функционирования «смехового слова» в пространстве комедии, доказывается, что «смеховое слово» определяет одну из важнейших черт творческой манеры А. С. Грибоедова. «Смеховое слово» рассматривается как средство и условие достижения адекватного понимания авторского замысла. Использование бахтинской категории «смехового слова» позволяет реализовать интегративный подход при изучении комедии «Горе от ума» в вузе.
"смеховое слово", карнавальный смех, автор, травестирование, пародирование
Короткий адрес: https://sciup.org/147136722
IDR: 147136722
Текст научной статьи «Смеховое слово» в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (интегративный подход к исследованию художественного произведения в вузе)
Изменения, происходящие в современном российском образовании, предъявляют особые требования к подготовке преподавателя-филолога. Одной из специфических черт филологии как развивающегося знания является ее интегративность. Связь филологии с философией, историей, культурологией, герменевтикой и другими гуманитарными науками дает возможность более широко го, целостного и многогранного взгляда на художественное произведение.
Настоящая статья представляет собой один из вариантов использования интегративного подхода к исследованию художественного произведения.
Концепция «смехового слова» как особого явления литературного сознания европейского Средневековья и Возрождения была разработана М. М. Бахти-
ным в ходе исследования романа Ф. Рабле [3]. Опираясь на концептуальные положения М. М. Бахтина, рассмотрим особенности функционирования «смехового слова» в пространстве комедии А. С. Грибоедова. Генетическим истоком «смехового слова» является смех карнавальный. Его праздничность, всеобщность, амбивалентность определяют сущностные характеристики «смехового слова», которое реализуется в «обрядово-зрелищных формах», «словесно-смеховых произведениях (в том числе пародийных)», «формах и жанрах фамильярно-площадной речи» [3, с. 9].
Во время работы над комедией «Горе от ума» в поле исследовательских интересов А. С. Грибоедова показательно сходятся изучение европейской драматургии и обостренное внимание к народной жизни, народному миропониманию, народной культуре1. В 1817 г. А. С. Грибоедов создает фацецию «Лубочный театр». Написанная раешным стихом, в духе фольклорного театра, фацеция является своеобразным экспериментом А. С. Грибоедова с представлением народного площадного зрелища. Балаганная интонация «Лубочного театра» узнаваема в монологах Чацкого [15, с. 225— 226].
Художественный мир комедии «Горе от ума» насыщен смехом (герои смеются, хохочут, усмехаются, осмеивают). Все оттенки смеха звучат в пьесе — от смеха дурацкого (Лиза) до смеха высокого (Чацкий). Смеховой заряд имеют серьезные реплики и монологи (Софья о Молчалине, Фамусов о дяде), герои и сюжетные ситуации интонированы смехом автора. В этом смехе есть черты, связывающие слово поэта с народной смеховой культурой. По свидетельству современников, молодого А. С. Грибоедова характеризовала не только «неистощимая веселость»2, но и способность к пониманию жизненных ситуаций в их амбивалентном звучании: «В апреле я женился, — пишет С. Н. Бегичев, — событие это интересно только для одного меня, и я бы, конечно, об нем умолчал без маленького происшествия, которое характеризует поэтическую натуру Гри боедова. Он был у меня шафером и в церкви стоял возле меня. Перед началом службы священнику вздумалось сказать нам речь, Грибоедов, с обыкновенной своей тогдашней веселостью, перетолковывал мне на ухо эту проповедь, и я насилу мог удержаться от смеха. Потом он замолчал, но, когда держал венец надо мной, я заметил, что руки его трясутся, и, оглянувшись, увидел его бледным и со слезами на глазах. По окончании службы, на вопрос мой: „Что с тобой сделалось?“ — „Глупость, — отвечал он, — мне вообразилось, что тебя, отпевают и хоронят“» [1, с. 28] (здесь и далее курсив наш. — С. Д.). Знаменательны и слова из письма Грибоедова к П. А. Катенину: «Я как живу, так и пишу свободно и свободно» [9, с. 509]. Эта свобода отразилась и в слове «Горя от ума».
Карнавальность пьесы задана уже заглавием. «Горе от ума» — смеховое снижение слов Екклесиаста: «во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь» (1:18). В унисон звучит имя героини — София (мудрость). «Всякий шаг Чацкого, почти всякое слово в пьесе, — замечал И. А. Гончаров, — тесно связаны с игрой чувства его к Софье» [6, с. 252].
В монологе Чацкого «И точно начал свет глупеть...» амбивалентно сходятся «век нынешний и век минувший». Это осмеяние старого как предчувствие нового, начало перемен. В поле смеха вовлекаются и смехом испытываются многие составляющие жизни. И. А. Гончаров отметил историческую закономерность появления Чацких: «Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим. <...> Каждое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого» [6, с. 269]. «Карнавальный смех, — утверждает М. М. Бахтин, — не дает абсолютизироваться и застыть в односторонней серьезности ни одному из этих моментов смены» [2, с. 79].
Характерными приметами века нынешнего становятся для Чацкого смех («нынче смех страшит» [9, с. 57]) и свобода («Вольнее всякий дышит / И не торопится вписаться в полк шутов» [9, с. 57]). Диалог Фамусова и Чацкого во втором действии звучит как традиционный для народного театра «диалог глухих». Комизм усиливается репликой Фамусова «Добро, заткнул я уши» [9, с. 58] и авторской ремаркой «ничего не видит и не слышит» [9, с. 59].
Травестийный характер имеют и фа-мусовские фразы «Хоть душу отпусти па покаянье!» [9, с. 58], «А? бунт? Ну так и жду содома» [9, с. 59].
В рассказанной Скалозубом истории о графине Ласовой слышится обыгрывание перевернутого библейского сюжета:
И без того, как слышно, неуклюжа, Теперь ребра недостает,
Так для поддержки ищет мужа [9, с. 71].
Одновременно эта история пародийно откликается на падение Молчалина (Скалозуб о Молчалине: «Воскрес и невредим.» [9, с. 70]).
Внутренняя смеховая заряженность монологов проявляется благодаря фаму-совской реплике, сказанной более чем серьезно:
Не надобно иного образца,
Когда в глазах пример отца.
Смотри ты на меня: не хвастаю сложеньем;
Однако бодр и свеж, и дожил до седин. Свободен, вдов, себе я господин.
Монашеским известен поведеньем!.. [9, с. 40].
То, что фраза «монашеское поведенье» — это смеховой сигнал, очевидно не только из предшествующей сцены заигрывания барина с горничной, но и из карнавализованного распорядка недели Фамусова. Запись ведет слуга Петрушка (так он представлен в перечне действующих лиц, так к нему обращается Фамусов). Имя отсылает к главному герою русских балаганных представлений. Костюм слуги также характерно ярмарочный («Петрушка, вечно ты с обновкой, / С разодранным локтем...» [9, с. 53]). Показательны и комментарии Фамусова к распорядку «разных дел». Гротескными чертами представлен обед: «Ешь три часа, а в три дни не сварит ся»3 [9, с. 54]. Соблюден обряд поминания как восхваления покойника:
Скончался; все о нем прискорбно поминают.
Кузьма Петрович! Мир ему! —
Что за тузы в Москве живут и умирают! [9, с. 54].
Заканчивается монолог «смеховым словом». Смерть и рождение карнавально близки: «вдова должна родить ». Помимо соединения в одном образе жизни и смерти слова Фамусова обнаруживают оборотную сторону монашеского поведения — его распутность:
Я должен у вдовы, у докторши крестить.
Она не родила, но по расчету
По моему: должна родить [9, с. 54].
Карнавально-смеховая составляющая образа Фамусова дополняется словами негодования в адрес учителей-французов:
Берем же побродяг, и в дом и по билетам, Чтоб наших дочерей всему учить, всему — И танцам! и пенью! и нежностям! и вздохам!
Как будто в жены их готовим скоморохам [9, с. 40].
В этой реплике слово «скоморох» произносится с осмеивающей интонацией. Однако скоморошество ради «карьерного роста» восхищает Фамусова. Вот как он отзывается о Максиме Петровиче:
Упал, да так, что чуть затылка не пришиб;
Старик заохал, голос хрипкой:
Был высочайшею пожалован улыбкой;
Изволили смеяться; как же он?
Привстал, оправился, хотел отдать поклон, Упал вдругорядь — уж нарочно,
А хохот пуще, он и в третий так же точно.
А? как по-вашему? по-нашему — смышлен.
Упал он больно, встал здорово.
Зато, бывало, в вист кто чаще приглашен?
Кто слышит при дворе приветливое слово?
Максим Петрович! Кто пред всеми знал почет?
Максим Петрович! Шутка!
В чины выводит кто и пенсии дает?
Максим Петрович!.. [9, с. 56].
В монологе травестируется средневековое понимание скомороха как профессионала, жертвующего достатком ради искусства4. Одновременно скоморошье поведенье дяди представляется как пример для подражания: «Упал он больно, встал здорово». Согласно фаму-совской логике, дочерей готовят в жены современным скоморохам, наследникам Максима Петровича. Еще одна характерная деталь: слово «побродяги» актуализирует тему безродного Молчалина, которого Фамусов «пригрел» и ввел в свое семейство, «дал чин асессора и взял в секретари» [9, с. 41]. Молчалин, живущий в доме (хотя и в «чуланчике»), следуя исключительно заветам своего отца («угождать всем людям без изъятья» [9, с. 124]), посягает на святое для Фамусова — его дочь, предоставляя Софье возможность пережить опыт запретной любви («дочерей всему учить, всему — / И танцам! и пенью! и нежностям! и вздохам!» [9, с. 40]).
Прозрачен в пьесе факт ошибки Софьи. Она наделяет Молчалина чертами, ему несвойственными. Это подмечает Чацкий: «Бог знает, за него что выдумали вы, / Чем голова его ввек не была набита. / Быть может, качеств ваших тьму, / Любуясь им, вы придали ему» [9, с. 77]. В какой-то мере Софье «помогает обмануться» автор, который дает герою амбивалентную фамилию: Молчалин как «бессловесный»5 обыгрывается в репликах Чацкого и авторской ремарке «Ползает у ног ее» [9, с. 125], и Молчалин как производное от «молчания». Как обоснованно показал А. Белый, Софья оценивает поведение Молчалина сквозь призму религиозных аллюзий6. Символична в этом смысле реплика Чацкого: «Не грешен он ни в чем, вы во сто раз грешнее» [9, с. 77]. Примечательна и позиция А. С. Грибоедова в отношении Софьи: в письме к П. Катенину автор передает основной план комедии репликами Софьи [9, с. 508—509].
Действие комедии «Горе от ума» разворачивается в день приема гостей. Возможно, это был бы обычный день (Чацкий: «Что нового покажет мне Москва? /
Вчера был бал, а завтра будет два » [9, с. 48]. Вспоминая детство, герой вновь обращается ко времени бала: «На бале, помните, открыли мы вдвоем...» [9, с. 49]). Балы были «визитной карточкой» московского дома. Так, Молчалин, характеризуя Татьяну Юрьевну, подчеркивает:
Как обходительна! добра! мила! проста!
Балы дает нельзя богаче.
От Рождества и до поста,
И летом праздники на даче [9, с. 83].
На необычность бала указывает одна деталь: приглашая Скалозуба, Софья уточняет:
.Съедутся домашние друзья
Потанцевать под фортепьяно, —
Мы в трауре, так балу дать нельзя [9, с. 71]. (Первоначально было: «Великий пост, так балу дать нельзя».)
В унисон звучат жалобы старухи Хлестовой: «Ночь — света представленье!» [9, с. 94]. Тема смерти присутствует в репликах и графини внучки (примечательна и ремарка «покуда ее укутывают»):
Ну бал! Ну Фамусов! умел гостей назвать!
Какие-то уроды с того света,
И не с кем говорить, и не с кем танцевать.
[9, с. 109]
и графини бабушки:
Когда-нибудь я с пала та в могилу [9, с. 109].
Зачем А. С. Грибоедову нужна эта деталь? Известно, насколько официальны и церемониальны были устраиваемые в Александровскую эпоху балы7. Возможно, эта особенность (траур или Великий пост) потребовалась автору для разрушения «обычности» бала: праздник у Фамусова выпадает из официального распорядка «от Рождества и до поста». Может быть, А. С. Грибоедову необходимо было задать определенный (смеховой) ракурс восприятия сюжета8.
«Смеховое слово» обнажает карнавали-зованный характер комедии, авторский смеховой взгляд. Серьезность высказываний Фамусова и Чацкого «подсвечена» смехом Грибоедова. Именно во время бала происходит «превращение» Чацкого в сумасшедшего или шута (в представлении Софьи). Все, что он говорит, «позволено» говорить шуту, сумасшедшему9. Его правда не страшна гостям: они или не слышат Чацкого, или воспринимают его слова с «поправкой» на сумасшествие. Ю. Тынянов показал связь безумия как сюжетообразующего мотива комедии с представлением, унаследованным от Средневековья, о любви как причине безумия. «Центр комедии — в комичности положения самого Чацкого, и здесь комичность является средством трагического, а комедия — видом трагедии» [14, с. 172—173]. В комедии высокий мотив безумия трансформировался в комический мотив непонимания. В данном контексте реплика Чацкого «Я езжу к женщинам — да только не за этим» [9, с. 83] звучит как смеховое снижение.
В записной книжке писателя сохранилась характерная заметка: «Не славяне, а словене — в противоположность немцам» [7, с. 100]. Полагая, что слово определяет нацию, А. С. Грибоедов включил в комедию фразы, осмеивающие класс «полуевропейцев». Это осмеяние звучит в пьесе как явно (монологи Чацкого, ответ героя графине внучке «...смели предпочесть / Оригиналы спискам...» [9, с. 92]), так и завуалированно. Вспомним, как при встрече с княжнами Наталья Дмитриевна хвалится новым «тюрлюрлю» атласным (здесь: дамская накидка). Однако уличное парижское слово «тюрлюрлю» имеет несколько значений, в том числе и «общедоступная девица» [12, с. 26—27]. Она придает сцене саркастический смысл, причем сарказм направлен не только на Наталью Дмитриевну, но и на всех московских барышень.
Введение «смехового слова» в поле комедии расширяет границы текста. Автор травестирует библейские мотивы и сюжеты, активно использует гротескные сравнения («нет невестам перевода», «родных мильон», «сто человек к услугам», «мильон терзаний»). Смеховой потенциал имеют «серьезные» монологи, поэтому в сферу смеха попадают многие нравственно-философские проблемы.