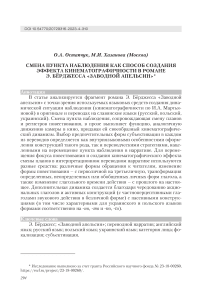Смена пункта наблюдения как способ создания эффекта кинематографичности в романе Э. Бёрджесса «Заводной апельсин»
Автор: Остапчук О.А., Хазанова М.И.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 4 (67), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется фрагмент романа Э. Бёрджесса «Заводной апельсин» с точки зрения используемых языковых средств создания динамической ситуации наблюдения (кинематографичности по И.А. Мартьяновой) в оригинале и переводах на славянские языки (русский, польский, украинский). Смена пункта наблюдения, сопровождающая смену планов и регистров повествования, в прозе выполняет функцию, аналогичную движению камеры в кино, придавая ей своеобразный кинематографический динамизм. Выбор предпочтительных форм субъективации в каждом из переводов определяется как внутриязыковыми особенностями оформления конструкций такого рода, так и переводческими стратегиями, нацеленными на перемещение пункта наблюдения в нарративе. Для перемещения фокуса повествования и создания кинематографического эффекта смены планов в интерпретационном переводном нарративе используются разные средства: различные формы обращения к читателям, изменение формы повествования - с перволичной на третьеличную, трансформация определенных, неопределенных или обобщенных личных форм глагола, а также изменение глагольного времени действия - с прошлого на настоящее. Дополнительная динамика создается благодаря чередованию акциональных глаголов и активных конструкций (с частноперцептивными глаголами звукового действия в безличной форме) с пассивными конструкциями (в том числе характерными для украинского и польского языков формами соответственно на -но, -то и -no, -to).
Э. бёрджесс, «заводной апельсин», переводной нарратив, английский язык, русский язык, польский язык, украинский язык, категория лица, фокализация, субъективация
Короткий адрес: https://sciup.org/149144359
IDR: 149144359 | DOI: 10.54770/20729316-2023-4-310
Текст научной статьи Смена пункта наблюдения как способ создания эффекта кинематографичности в романе Э. Бёрджесса «Заводной апельсин»
Искусство XX в. с появлением новых форм все больше принимает синкретичный характер, границы между ними становятся все менее выраженными, очевидно их взаимовлияние. Вряд ли будет преувеличением сказать, что именно кинематограф среди всех искусств начинает играть главную роль, не только сам по себе (с учетом охвата аудитории), но и с учетом влияния на другие формы искусства. Целый ряд исследователей обращают внимание на сближение кинематографа и литературы [Мартьянова 2017; Михайловская, Тортунова 2015; Можаева 2006 и др.]. Кино, киномонтаж, особый стиль повествования – все это влияет на то, как строится литературное произведение, а сама перспектива возможной экранизации накладывает отпечаток на работу автора с текстом.
Влияние кинематографа на литературу можно проследить на разных уровнях: в композиционной организации текста, повествовательной манере, а также в отборе лингвистических средств. Именно последнему уровню будет посвящена настоящая работа. Мы будем говорить о явлении литературной кинематографичности, которое вслед за И.А. Мартьяновой мы понимаем как «характеристику текста с монтажной техникой композиции, в котором различными, но прежде всего композиционно-синтаксическими средствами изображается динамическая ситуация наблюдения» [Мартьянова 2017, 136].
Среди особенностей литературной кинематографичности особо отмечают так называемый «фотографический реализм», то есть фиксацию с фотографической точностью изображаемых объектов; соположение планов, обозначаемых дейктиками и задающими ориентацию во времени и пространстве: «здесь и сейчас» и «там и тогда», возможность их смены и переключения между ними («смена кадров»); лексические и грамматические характеристики текста, которые передают динамизм, а также языковые средства изменения позиции наблюдателя на оси автор – персонаж – читатель, передающие движение «камеры». Исследователи кинематографической прозы выделяют прежде всего лексические средства создания фотографического реализма: конкретно-предметную лексику, лексику чувственного восприятия, лексические средства репрезентации действия (образ действия), лексику пространственной локализации, лексику, описывающую световое и цветовое оформление и т.д. [Можаева 2006]. В то же время, увеличение доли лексики с частноперцептивной семантикой, ориентированной не только на зрительный (создающий общее впечатление), но и на другие каналы восприятия (цветовой, световой, слуховой, тактильный) в литературном тексте исследователи рассматривают как важное средство локализации точки зрения наблюдателя, выявляющее волю автора в структурировании хронотопа [ср. Золотова, Онипенко, Сидорова 1998, 349]. Смена наблюдательного пункта в прозе выполняет функцию, аналогичную движению камеры в кино, и придает повествованию своеобразный кинематографический динамизм. Именно поэтому нам кажется неверным ограничиваться только лексическим уровнем языка при анализе эффекта кинематографичности в тексте: динамизм ситуации, смена планов и регистров повествования создаются не в последнюю очередь при помощи соответствующего строения предикативных структур, участвующих в фокализации и временной локализации нарратива. В этой связи особую важность приобретают языковые средства перемещения во временной плоскости пункта наблюдения, той точки отсчета, которая понимается как «избираемый говорящим воображаемый момент восприятия и воспроизведения в речи событий по отношению к самим событиям» [Золотова 1982, 322], излагаемым в повествовании в соответствии с целеполаганием автора.
В настоящей статье мы намерены проанализировать с точки зрения используемых языковых средств создания кинематографичности фрагмент романа Э. Бёрджесса «Заводной апельсин», который неоднократно привлекал внимание исследователей сложностью языка повествования [Окс 2006] и композиционной организации, в том числе в сопоставлении с переводом [Уржа 2021]. В анализируемом произведении эффект кинематографичности достигается разными средствами, однако особый интерес в части организации текста романа вызывает эпизод, в котором главного героя вынуждают смотреть фильмы со сценами насилия. Дело не только в том, что здесь используется прием «фильм в тексте»; автор имитирует здесь также целый ряд других приемов, оцениваемых как кинематографические (например, смена планов с крупного на средний, наплыв, ретроспекция, ускоренная и замедленная прокрутка) и опирающихся на традиционную нарративную технику смены пункта наблюдения [см. Золотова, Онипенко, Сидорова 1998]. Хотя средства передачи событийного ряда и ощущений персонажа-рассказчика отличаются как в оригинале, так и на разных языках, в том числе в разных переводах на один язык, в них воспроизводится особая кинематографическая логика, позволяющая почувствовать, как могла бы двигаться камера, будь это не текст, а видеоряд. Работа с языком на разных уровнях позволяет переводчикам, в частности, менять степень вовлеченности читателя в происходящее, сближая его роль с ролью самого главного героя-рассказчика.
В качестве материала для анализа нами использованы переводы на русский, польский и украинский языки (последний авторства А. Буцен-ко). Переводчики по-разному подходили к переводу такого сложно организованного текста, что хорошо видно при сопоставлении как переводов на разные, так и на один язык. Так, в настоящее время существует пять вариантов перевода на русский язык: это переводы В. Бошняка (получивший больше всего переизданий), Е. Синельщикова (издан единожды, однако активно представлен в интернете), А. Газова-Гинзберга, Е.В. Нетесовой и С. Розенфельда (последний существует только в аудиоварианте). В своих рассуждениях мы будем опираться прежде всего на два первых из упомянутых варианта русского текста романа. Существует также две версии перевода, осуществленного Р. Стиллером на польский язык, которые отличаются не только названиями и временем создания ( Mechaniczna pomarańcz a, 1998; Nakręcana pomarańcza , 2001), но и языком, который, наряду с польским, участвует в конструировании особого «сленга» Nadsat в его польской версии. Однако для целей нашего исследования различиями между польскими версиями перевода можно пренебречь, поскольку автор перевода придерживается в данном фрагменте единой стратегии в плане передачи текстового времени и фокализации повествования.
Целью настоящей статьи является сопоставительный анализ оригинала и переводов романа Э. Бёрджесса на славянские языки (русский, украинский и польский) с точки зрения того, как соотносятся выбранные переводчикам стратегии с оригинальной композицией выбранного фрагмента, где смена пункта наблюдения и манипуляции с текстовым временем служат, в частности, для создания эффекта кинематографичности.
В целях нашего анализа мы считаем целесообразным использование понятия композитив, понимаемого как «единица организации текста, выделяемая пунктуационно-графически в силу своей композиционной значимости, объем которой обусловлен участием в выполнении различных композиционных функций: выражения точки зрения, изображения художественного времени, крупности плана и др.» [Мартьянова 2017, 111]. Одним из средств разграничения композитивов мы будем считать смену фокуса (пункта наблюдения) повествования, отражающего движение «камеры», а также способы создания динамизма, происходящего при помощи смены временной перспективы, игру с проспективными и ретроспективными планами.
Повествование в оригинале романа ведется от первого лица, поэтому читатель вполне ожидаемо видит местоименные формы первого лица, соотносимые с глаголом:
Then I could slooshy voices saying Right right right from like a distance, then nearer to, then there was a quiet like humming shoom as though things had been switched on [Burgess].
Очевидно, что и точкой отсчета расстояния ( distance, nearer) является главный герой романа, это относительно него звуки голоса и шум работающего прибора становятся ближе (или дальше). Читатель, как правило, оказывается сторонним наблюдателем событий, происходящих с главным героем. В русском и украинском переводах романа сохраняется повествование от первого лица, таким образом, в каждом из анализируемых текстов главный герой транслирует основную точку наблюдения, относительно которой выстраивается, в частности, пространство фона, на котором разворачивается действие.
Перволичная перспектива в первом из анализируемых фрагмен-тов-композитивов является организующим композиционным приемом повествования также в польском переводе. Более того, здесь заметна тенденция к усилению внутренней фокализации, в том числе за счет введения личного местоимения, дублирующего обозначение лица, выраженное узуальной для польского языка личной (синтетической) формой глагола прошедшего времени:
No i zobaczy łem ja tego doktora Brodzkiego [Burges 1999].
Языковые средства позволяют дополнительно зафиксировать фокус повествования и местоположение пункта наблюдения («камеры») за счет введения общеперцептивного глагола зрительного восприятия в личной форме, позволяющего обрисовать общую картину происходящего:
Таблица 1.
|
1а. I could just viddy that he had a real horrorshow suit on, absolutely the heighth of fashion, and he had a like very delicate and subtle von of operating-theatres coming from him [Burgess]. |
1б. Костюм его, распространявший слабый запашок операционной, был, однако, shikarni и diko моднющий [Бёрджесс 2011]. |
|
1в. Dojrzałem , że odziany jest w garnitur po nastojaszczy horror szoł i absolutny szczyt mody, a wydaw ał z siebie oczeń subtylną i leciutką woń sali operacyjnej [Burgess 1999]. |
1г. Aj did notys , że odziany jest w garnitur niedlapucu a ryjli horror szoł i absolutny top feszn, a wydawał z siebie bardzo subtelny i le-ciutki sztynk sali operacyjnej [Burgess 2001]. |
В оригинале и в следующем его логике польском переводе четкое указание на субъект восприятия (при помощи узуального польского глагола в личной форме в первом случае и транслитерированного английского заимствования во втором), переводит нарратив в изобразительный регистр [см. Золотова 1982, 335] и подчеркивает внутреннюю фокализацию фрагмента, отражающего специфику восприятия персонажа, который и перемещает «камеру»: читатель «видит» сцену именно его глазами.
Таблица 2.
|
2а. Then I could |
2б. (В. Бошняк) |
2в. I usły- |
2г. Я почув , як |
2д. (Е. Синель- |
|
slooshy voices |
Какие-то люди |
szałem głosy |
йому відповіда- |
щиков) Отовсю- |
|
saying Right |
отозвались, |
wykrzykujące: |
ли : «Готово!.. |
ду раздались |
|
right right from |
рапортуя готов- |
ta jest! ta jest! |
Готово!.. Го- |
утвердительные |
|
like a distance, |
ность, — сперва |
ta jest! najpierw |
тово!..» Потім |
ответы, и тут |
|
then nearer to, |
в отдалении, |
z odległości, a |
спершу десь да- |
же послыша- |
|
then there was a |
потом поближе, |
potem bliżej, |
леко почулося |
лось слабое |
|
quiet like hum- |
а потом послы- |
no i r ozległ się |
жужжаніє – так |
жужжание |
|
ming shoom as |
шалос ь тихое |
taki buczący |
наче там щось |
многочислен- |
|
though things |
жужжанье, |
szum, jakby coś |
увімкнули ; |
ных приборов |
|
had been |
что-то вклю- |
powkluczano |
воно лунало все |
[Бёрджесс 1991]. |
|
switched on [Burgess]. |
чили , значит [Бёрджесс 2011]. |
[Burgess 1999]. |
ближче, ближ-че… [Бёрджесс 2003]. |
Сопоставление различных языковых версий данного фрагмента демонстрирует различную динамику внутри композитива. Все глагольные действия квалифицируются здесь как наблюдаемые [Золотова 1982, 346] с преимущественно слуховым каналом восприятия; слуховые ощущения дополнительно усиливаются при помощи лексики, передающей звучание (анг. humming shoom – рус. тихое жужжанье – укр. жужжаніє – пол. buczący szum). Присутствие автора-наблюдателя проявляется в употреблении соответствующих глагольных и местоименных форм лица. Выдвижение рассказчика в инициальную позицию (в оригинале и украинском переводе – за счет местоимения 1-го лица, в польской версии – за счет личной формы глагола в прошедшем времени) акцентирует его роль как главного источника ощущений, описываемых при помощи глагола частноперцептивной семантики. Дополнительная динамика создается благодаря смене акциональных глаголов, предполагающих активное участие говорящего (англ. I could slooshy – пол. usłyszałem – укр. я почув) на глаголы звукового действия в безличной форме (укр. почулося – рус. послышалось) и, как в польском, не предполагающих указания на воспринимающего звуки субъекта (rozległ się szum). Завершающая фрагмент английская форма пассива и польская безличная форма на -но c перфективным значением (ср. англ. things had been switched on – пол. coś powkluczano) окончательно смещает центр внимания (ср. обобщенно-личные формы рус. что-то включили – укр. щось увімкнули; о противопоставлении значению определенного лица неопределенно-личных форм на -но, -то в польском языке [см. Тихомирова 2005, 367]), подготавливая тем самым перемещение фокуса повествования на внешний объект-раздражитель – фильм. Движение «камеры» дополнительно подчеркивается при помощи лексико-грамматических средств пространственной ориентации на оси ‘дальше – ближе’ (анл. from like a distance, then nearer to – рус. сперва в отдалении, потом поближе – пол. najpierw z odległości, a potem bliżej – укр. потім спершу десь далеко – все ближче, ближче). Очевидно, что точкой отсчета расстояния является именно главный герой романа, это относительно него звуки голоса и шум работающего прибора становятся ближе (или дальше). Читатель, как правило, оказывается сторонним наблюдателем событий, происходящих с главным героем. При этом в русском переводе за счет формального устранения рассказчика и благодаря появлению дополнительных субъектов действия (люди отозвались) достигается эффект равномерного удаления «камеры» и объективации описываемых событий.
В этом контексте значимым следует признать также происходящую в следующем композитиве смену формы повествования с перволичного на третьеличное:
And then the lights went out and there was Your Humble Narrator And Friend sitting alone in the dark, all on his frightened oddy knocky, not able to move nor shut his glazzies nor anything [Burgess].
Своеобразное раздвоение говорящего лица на собственно рассказчика и участника-наблюдателя события [ср. Золотова 1982, 347] одновременно готовит читателя к тому, что его внимание должно переключиться с главного героя как фокуса повествования на какой-то иной центр организации событий. Это подчеркивается синтаксическим строением следующей фразы:
And then, O my brothers, the film-show started off with some very gromky atmosphere music coming from the speakers, very fierce and full of discord. And then on the screen the picture came on, but there was no title and no credits [Burgess].
На первый план выдвигается действие на экране ( the film-show) , с которым соотносится глагол-сказуемое (started off) и дальнейшие подробности, описывающие фон для развития сюжета. Вновь переключается регистр повествования (на сей раз на нарративный [Золотова 1982; Золотова, Онипенко, Сидорова 1998]) и одновременно создается ощущение, подобное кинематографическому переключению планов, когда в первых кадрах крупным планом показан главный герой, затем камера отдаляется и наводится на происходящее на экране. Таким образом, герой-рассказчик перестает быть центром внимания, а сам читатель становится свидетелем и / или соучастником событий на экране, превращаясь также в зрителя фильма.
Использованный в оригинале прием введения абстрагированной фигуры рассказчика при помощи смены перволичной перспективы на третьеличную способствует определенной объективации повествования, демонстрируя смещение точки наблюдения, совпадающее с движением «камеры» в направлении от говорящего. Подобно оригиналу, в переводах композитива, предваряющего просмотр фильма, также меняется лицо, от которого ведется повествование; в них появляется соответственно рус. скромный ваш повествователь , пол. Wasz Pokorny i Opowiadający To Wszystko Przyjaciel , укр. ваш скромний оповідач і друг , что диктует дальнейшее оформление фрагмента в 3-м лице.
Таблица 3.
|
3а. And then the |
3б. (В. Бошняк) |
3в. A potem |
3г. Світло |
3.д (Е. Синель- |
|
lights went ou t |
Но вот гаснет |
światła zgasły i |
погасло, і ваш |
щиков) Свет |
|
and there was |
свет, и ваш по- |
został się Wasz |
скромний |
в зале погас |
|
Your Humble |
корный слуга, |
Pokorny i Opo- |
оповідач і друг |
совсем, и ваш |
|
Narrator And |
скромный ваш |
wiadający To |
залишився си- |
покорный рас- |
|
Friend sitting |
повествова- |
Wszystko Przy- |
діти в темряві, |
сказчик оцепе- |
|
alone in the |
тель, сидит |
jaciel , sam jeden |
переляканий, у |
нело уставился |
|
dark, all on his |
испуганный и |
po ciemku, cały |
самко-мотності, |
на высветлен- |
|
frightened oddy |
odinoki, не в |
w strachu sam na |
не в змозі ні |
ный экран, |
|
knocky, not able |
силах ни ше- |
sam i adzinoko , |
поворухнутися, |
не в силах |
|
to move nor |
вельнуться, ни |
nie mogący się |
ні заплющити |
пошевелиться |
|
shut his glazzies |
закрыть glazzja |
ani poruszyć, ani |
глаза [Бёрджесс |
или оторвать |
|
nor anything |
[Бёрджесс |
zamknąć oczu, |
2003]. |
от него взгляд |
|
[Burgess]. |
2011]. |
ani w ogóle nic |
[Бёрджесс |
|
|
[Burgess 1999]. |
1991]. |
Заметим, что если в польском (3в) и украинском (3г) переводе эффект смещения фокуса с внутреннего субъекта на внешний объект и приближения читателя к пункту наблюдения сочетается с использованием глагольных форм прошедшего времени, увеличивающих временную перспективу между описываемым моментом и временем восприятия (чтения), то в русском переводе В. Бошняка (3б) третьеличное повествование сопровождается использованием настоящего времени глагола, что сокращает этот временной разрыв, а в переводе Е. Синельщиков (3д) все повествование идет в прошедшем времени.
Одним из дополнительных средств, способствующих созданию эффекта кинематографичности, может служить усиление монтажности композиции. Отмечается, что в кинематографической прозе динамический эффект может создаваться «за счет лаконичного повествования с минимумом описаний и лишь с некоторыми деталями, данными «крупно» [Михайловская, Тортунова 2015, 101].
Так, в польском переводе (4в) и переводе Е. Синельщикова (4д) это достигается за счет фактического устранения акциональных глаголов, называющих действия, и использования назывных конструкций и синтаксических дериватов глагола: так передается движение «камеры», переключающейся на очередной объект (ср. изобразительно-повествовательный и изобразительно-описательный регистры [Золотова 1982, 348]).
Таблица 4.
|
4а. |
4б. (В. Бошняк) |
4в. Tylko ulica, |
4г. Показували |
4д. (Е. Синель- |
|
What came on |
Появилась |
mogła to być |
вулицю, звичайну |
щиков) Ночь. |
|
was a street, as |
улица, самая |
jaka bądź ulica |
міську вулицю |
Пустынная |
|
it might have |
обыкновенная, |
w jakim bądź |
темної ночі, коли |
улица, какую |
|
been any street |
каких сотни в |
mieście, w |
вже ввім кнено |
можно най- |
|
in any town, |
любом городе, |
mroku nocy i |
фонарі . Відчува- |
ти в любом |
|
and it was a |
время ночное, |
przy palących |
лася високопро- |
городе. Ярко |
|
real dark nochy |
горят фонари . |
się latarniac h. |
фесійна зйомка |
горят оборван- |
|
and the lamps |
Снято вроде как |
Film tak jakby |
без отих звичних |
цы- фонари . |
|
were lit . It was |
профессиональ- |
oczeń charoszy |
спалахів і плям, |
Зловещая му- |
|
a very good |
но – никаких |
i profesjonalny, |
що завжди так |
зыка нагнетает |
|
like profession- |
мельканий, ника- |
żadnych tam |
дратують, коли |
атмосферу |
|
al piece of sin- |
ких приставших |
chlups chlaps i |
дивишся пор |
безотчетного |
|
ny, and there |
к оптике шер- |
migania, jak w |
фільм у чиємусь |
страха, сме- |
|
were none of |
стинок и грязи, |
tych dajmy na |
будинку в глу- |
няющегося |
|
these flickers |
которые порой то |
to świńskich |
хому завулку |
звериным ужа- |
|
and blobs you |
и дело с качут по |
obrazkach, co |
[Бёрджесс 2003]. |
сом [Бёрджесс |
|
get , say , when |
экрану на домаш- |
widuje się u |
1991]. |
|
|
you viddy one |
нем просмотре у |
kogoś w ciem- |
||
|
of these dirty |
дворового кино- |
nym zaułku |
||
|
films in some- |
любителя-пор- |
[Burgess 1999]. |
||
|
body’s house |
нографиста |
|||
|
in a back street |
[Бёрджесс 2011]. |
|||
|
[Burgess]. |
В свою очередь, в русском переводе В. Бошняка (4б) динамизм, передающий движение камеры, создается, в частности, благодаря смене временных планов: общий план с общеперцептивным глаголом в прошедшем времени, ориентированным на изображение целостной картины, сменяется конкретной деталью, как бы выхваченной «камерой» из тьмы и переданной частноперцептивным глаголом в настоящем времени (ср. прием «наплыва» камеры): ср. англ. the lamps were lit – рус. горят фонари – пол. przy palących się latarniac h – укр. ввімкнено фонарі , что также создает эффект приближения событийного центра к читателю.
Заметим, для описания изображаемого на экране использованы также дополнительные лексические элементы, как будто выделяющие происходящее светом (ср. [Мартьянова 2017, 137] об активном использовании лексики зрительного восприятия в кинематографической прозе) и апеллирующие к частным каналам восприятия, световому:
What came on was a street, as it might have been any street in any town, and it was a real dark nochy and the lamps were lit,
– описывается темная улица с зажженными фонарями, и слуховому, что усиливает кинематографический эффект:
All the time the music bumped out, very like sinister.
В русских версиях переводчики повторяют за оригиналом и свето-, и звукописание, словно готовя читателя к тому, что последует дальше в полном соответствии с кинематографической логикой (ср. роль музыки и света в драматических киноэпизодах): ср. у В. Бошняка: горят фонари; Музыка нарастает, diko зловеще (4б) – у Е. Синельщикова: какофонией диссонирующей музыки, лавиной обрушившейся на меня из всех лаудспике-ров (4д) . В украинском переводе при помощи лексики, фиксирующей ощущения от света и звука, читатель также подготавливается к событиям, которые последуют далее: в темряві; з дуже громкої, немилозвучної какофонії; серед темної ночі ввімкнено фонарі (4г) . Таким образом, в тексте создается цвето-световой и звуковой контраст между местом, где находится главный герой, и тем, что показано на экране, подчеркивая тем самым смену фокуса повествования. Украинский язык помогает подчеркнуть этот контраст благодаря форме ввімкнено , которая является главным членом безличного предложения и помогает перенести акцент именно на действие, а не на его объект [Ющук 2004, 396]. Если сопоставить формулировки в разных языках, то можно заметить, что одно и то же событие показано под разным углом: the lamps were lit – рус. горят фонари – пол. przy palących się latarniac h – укр. ввімкнено фонарі . При изображении этой важной с точки зрения движения «камеры» детали во всех версиях, кроме украинской, акцент ставится на фонарях ( lamps – фонари – latarnie ), и только в украинском переводе фокус именно на действии, дополнительно усиливающем освещенность и сообщающем динамизм всей сцене.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что и автор, и переводчики по-разному решали задачу достижения большей кинематографической выразительности текста, используя языковые средства смещения фокуса повествования и выстраивания временной перспективы. Если повторить уже упоминавшуюся метафору операторской работы, движения камеры, то и автор оригинала, и переводчики в рассматриваемом фрагменте пытаются создать у читателя ощущение, что главный герой «удаляется» из повествования, предлагая наблюдать за происходящим самому читателю, который тем самым уподобляется персонажу читаемого произведения.
Для перемещения фокуса повествования и создания кинематографического эффекта смены планов в интерпретационном переводном нарративе используются разные средства: различные формы обращения к читателям, изменение формы повествования – с перволичной на третьеличную, трансформация определенных, неопределенных или обобщенных личных форм глагола, а также изменение глагольного времени действия – с прошлого на настоящее. Выбор конкретных способов фокализации повествования в каждом из переводов определяется внутриязыковыми особенностями оформления конструкций такого рода, а также переводческими стратегиями, нацеленными на перемещение пункта наблюдения.
Список литературы Смена пункта наблюдения как способ создания эффекта кинематографичности в романе Э. Бёрджесса «Заводной апельсин»
- Бёрджесс Э. Заводной апельсин / пер. В. Бошняка. М.: АСТ, 2011. URL: https://litmir.club/br/?b=3258 (дата обращения: 07.11.2023).
- Бёрджесс Э. Заводной апельсин / пер. Е. Синельщикова // Юность. 1991. № 3, 4. URL: https://www.many-books.org/auth/6880/book/25043/berdjess_entoni/ zavodnoy_apelsin_peresinelschikova/read (дата обращения: 07.11.2023).
- Бёрджесс Е. Мехашчний апельсин. Львiв: Кальварiя, 2003. URL: https:// www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1855 (дата обращения: 07.11.2023).
- Burgess A. A Clockwork Orange. URL: https://avidreaders.ru/read-book/a-clockwork-orange.html (дата обращения: 07.11.2023).
- Burgess A. Mechaniczna pomarancza / przel. R. Stiller. Krakow: Etiuda, 1999. 255 s.
- Burgess A. Nakrçcana pomarancza / przel. R. Stiller. Krakow: Etiuda, 2001. 219 s.
- Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М.: Наука, 1982. 366 с.
- Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М.: Издательство филологического факультета МГУ, 1998. 540 с.
- Мартьянова И.А. Кинематографичность литературного текста (на материале современной русской прозы) // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 1. С. 136-141.
- Михайловская Е.В., Тортунова И.А. Литературная кинематографичность российской и британской прозы XX века: сопоставительный аспект (на примере прозы В.М. Шукшина и Г. Грина) // Научный диалог. 2015. № 11(47). С. 97-118.
- Можаева Т.Г. Языковые средства реализации кинематографичности в художественном тексте (на материале произведений Г. Грина, Э. Хемингуэя, М. Этвуд): автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.02.04. Барнаул, 2006. 21 с.
- Окс М.В. Вымышленный сленг «надцать» в романе Э. Бёрджессса «Заводной апельсин» // Игровая поэтика. Вып. 1. Ростов-на-Дону: Литфонд, 2006. С. 99-162.
- Тихомирова Т.С. Польский язык // Языки мира: Славянские языки / ред. кол. А.М. Молдован, С.С. Скорвид, А.А. Кибрик и др. М.: Academia, 2005. С. 347-383.
- Уржа А.В. Функциональное взаимодействие эгоцентриков в русских переводных нарративах (на материале прозаических текстов конца XIX - начала XX вв.): дис. ... д. филол. н.: 10.02.01; 10.02.20. М., 2021. 564 с.
- Ющук 1.П. Украшська мова. К.: Либщь, 2004. 639 c.