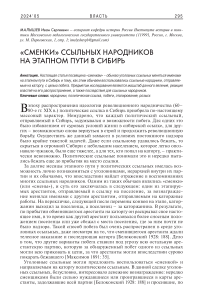"Сменки" ссыльных народников на этапном пути в Сибирь
Автор: Малышев И.С.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 5, 2024 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья посвящена «сменкам» - обычаю уголовных ссыльных меняться именами на этапном пути в Сибирь и тому, как этим обычаем воспользовались ссыльные народники, отправляемые на каторгу, с целью побега. Предметом исследования являются масштаб данного явления, реакция властей на его распространение, а также последствия для ссыльных народников.
Народники, политическая ссылка, побеги, этапирование, розыск
Короткий адрес: https://sciup.org/170206621
IDR: 170206621 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-5-295-298
Текст научной статьи "Сменки" ссыльных народников на этапном пути в Сибирь
В эпоху распространения идеологии революционного народничества (60– 80-е гг. XIX в.) политическая ссылка в Сибирь приобрела по-настоящему массовый характер. Немудрено, что каждый политический ссыльный, отправляемый в Сибирь, задумывался о возможности побега. Для одних это было избавлением от суровых условий жизни в сибирской ссылке, для других – возможностью снова вернуться в строй и продолжить революционную борьбу. Осуществить же данный замысел в условиях постоянного надзора было крайне тяжелой задачей. Даже если ссыльному удавалось бежать, то скрыться в огромной Сибири с небольшим населением, которое легко опознавало чужаков, было еще тяжелее, а для тех, кто попал на каторгу, – практически невозможно. Политические ссыльные понимали это и нередко пытались бежать еще до прибытия на место ссылки.
За долгие месяцы этапного пути у политических ссыльных имелась возможность лично познакомиться с уголовниками, иерархией внутри их партии и их обычаями, что впоследствии найдет отражение в воспоминаниях многих ссыльных народников. Одним из таких обычаев являлись «сменки» (или «смены»), и суть его заключалась в следующем: один из этапируемых арестантов, отправляемый в ссылку на поселение, за вознаграждение менялся именами с другим арестантом, отправляемым на каторжные работы. На перекличке, следующей после перемены конвоя на этапе, каторжанин выходил за поселенца, а поселенец – за каторжанина. В результате, по прибытии обменявшегося арестанта на каторгу он раскрывал свое настоящее имя, в то время как другой арестант пользовался более сносным положением поселенца или уже сбежал с места поселения, где за ним почти не было надзора. Такой способ побега был очень распространен в среде уголовных ссыльных, даже несмотря на то, что сменившегося арестанта ждали телесное наказание и последующая каторга [Белоконский 1928: 188]. Дело в том, что другие варианты побега ставили под угрозу всю остальную арестантскую партию, которую за обнаруженный побег одного из ссыльных могли всю приковать к цепи, за что арестанты могли впоследствии сурово покарать бежавшего [Максимов 1891: 35].
Уголовные ссыльные могли предложить воспользоваться «сменкой» и направляемым на каторгу политическим ссыльным. В данной сделке уголовных ссыльных, безусловно, интересовало денежное вознаграждение: нередко сменщиками были сильно нуждавшиеся или проигравшиеся в карты арестанты, задолжавшие всей партии [Белоконский 1928: 188] и просившие, по меркам политических ссыльных, совершенно ничтожные суммы за такую услугу [Торгашов 1914: 115]. При этом у политических ссыльных были основания доверять уголовным: донос был для них страшным преступлением, а назначенную им при «сменке» роль они старались исправно исполнять [Дебогорий-Мокриевич 1930: 190].
Всего за период народнической ссылки в Сибирь известно о четырех случаях, когда политические ссыльные, приговоренные к каторжным работам, воспользовались «сменкой» для совершения побега, причем только один из них был успешным.
Первый случай побега таким способом произошел в 1867 г. Бежавшим был О.А. Мотков, осужденный в связи с делом Каракозова за принадлежность к «Организации» Н.А. Ишутина и тайному обществу «Ад». По дороге в Сибирь, обменявшись документами со ссыльнопоселенцем Бачинским, он в марте бежал с этапного пункта в Нижнеудинске, но уже в следующем месяце был пойман в окрестностях Иркутска1.
Три остальные «сменки» политических ссыльных произошли в промежутке всего четырех месяцев – с августа по ноябрь 1879 г., несмотря на то, что они не были связаны друг с другом.
Первым бежавшим был В.О. Избицкий, состоявший в террористическом кружке В. Осинского2. Его «сменка» и последующий побег были частью плана освобождения всей партии политических ссыльных. В.О. Избицкий, сменившись с уголовным ссыльным Курдюковым, в августе 1879 г. должен был на собранные политическими ссыльными деньги купить коня с телегой и, обогнав идущую партию, подготовить подкоп на ссыльном тракте – на одном из полуэтапов, пустовавших после ухода арестантов, а также подготовить припасы для беглецов. Собранных партией денег ему, однако, не хватило, что вынудило его вернуться в Томск. После отъезда из Томска и попытки догнать уже далеко ушедшую партию его следы окончательно теряются – Избицкий так и не был найден [Дебогорий-Мокриевич 1930: 179].
Вторым сбежавшим с помощью «сменки» и единственным, кому удалось скрыться, был В.К. Дебогорий-Мокриевич – активный участник «киевской коммуны» и сторонник «бунтарского» течения в народничестве3. На одном из этапов, недалеко от Иркутска, в середине октября 1879 г. он сменился с уголовным ссыльным Павловым. Из Иркутска он был отправлен на поселение в с. Тельминское, откуда сбежал практически сразу, скрывшись от начатого вскоре розыска в домах у других политических ссыльных, проживавших в сельской местности [Дебогорий-Мокриевич 1930: 217].
Наконец, последним из воспользовавшихся «сменкой» ссыльных народников был П.А. Орлов, состоявший в кружке В. Осинского и осужденный по делу о «пропаганде» (процесс 193-х). По дороге в Сибирь он в начале ноября 1879 г. поменялся с уголовным арестантом Арзамасцевым, но был пойман, не успев скрыться с места поселения4.
Обнаружение побега трех опасных государственных преступников, направлявшихся на каторжные работы, вызвало незамедлительную реакцию властей – циркулярное предписание о розыске с приметами трех бежавших уже в конце ноября было разослано всем губернаторам, о случившемся был уведомлен министр внутренних дел1. Сведения об этих побегах были сообщены шефом жандармов и самому Александру II, отметившему отсутствие настоящего надзора за государственными преступниками и потребовавшему подвергнуть виновных строгому взысканию за «преступное неряшество, если не потворство» [Иванов 2018: 167]. Розыск всех трех бежавших начался одновременно, несмотря на то, что побеги были совершены порознь в течение четырех месяцев. В.К. Дебогорий-Мокриевич подозревал, что кто-то из арестантов выдал его «сменку», причем донос поступил одновременно на всех троих. В Иркутской губернии, где состоялся побег Дебогория-Мокриевича, шел активный поиск: в деревнях проводились облавы, на дорогах останавливали бродяг и подозрительных личностей, поиски были постепенно прекращены лишь через полтора месяца [Дебогорий-Мокриевич 1930: 216-219].
Итак, для ссыльных народников побег был единственным шансом на возвращение в строй и продолжение революционной борьбы, а «сменки» стали одним из немногих ярких примеров взаимодействия политических ссыльных и уголовников при организации побегов, хотя, разумеется, они и здесь преследовали совершенно разные цели. Совершивший успешный побег В.К. Дебогорий-Мокриевич до своего отъезда в Швейцарию еще год пробыл в Сибири, где принял активное участие в подготовке побега восьми политических ссыльных из Иркутской тюрьмы [Дебогорий-Мокриевич 1930: 221]. В то же время череда дерзких побегов, в результате которых сразу двум «государственным преступникам» удалось скрыться, не могла остаться без последствий. Власти значительно усилили надзор за этапируемыми политическими ссыльными. Л.Г. Дейч отмечал, что именно после этих побегов стали обязательными фотокарточки при статейных списках, а этапируемую партию политических ссыльных от города до города стал сопровождать отдельный конвой, знавший их в лицо. Это сделало «сменки» практически невозможными и серьезно затруднило побеги с этапного пути [Дейч 1924: 89].
Список литературы "Сменки" ссыльных народников на этапном пути в Сибирь
- Белоконский И.П. 1928. Дань времени. Воспоминания. М.: Изд-во политкаторжан. 371 с.
- Дебогорий-Мокриевич В.К. 1930. От бунтарства к терроризму. М.: Молодая гвардия. Кн. 2. 339 с.
- Дейч Л.Г. 1924. 16 лет в Сибири. М.: "Девятое января" Транпосекции. 360 с.
- Иванов А.А. 2018. Побеги политических ссыльных Иркутской губернии в конце XIX - начале XX в. и их организация. - Известия Лаборатории древних технологий. Т. 14. № 2. С. 165-176. EDN: XRGCJV
- Максимов С.В. 1891. Сибирь и каторга. В 3 ч. Ч. 1. Несчастные. СПб: Типо-литография Н. Стефанова. 411 с.
- Торгашов П.И. 1914. Сибирские воспоминания. 1883-1903. - Голос минувшего. № 10. С. 110-151.