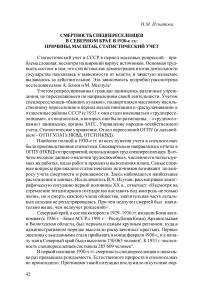Смертность спецпереселенцев в Северном крае в 1930-е годы: причины, масштаб, статистический учет
Автор: Игнатова Надежда Максимовна
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 28, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье на основании ранее не известных архивных документов рассматривается смертность спецпереселенцев («бывших кулаков») в Северном крае (Коми АССР, Архангельская и Вологодская области) и ее статистический учет в 1930-е гг. Особое внимание уделяется причинам высокой смертности спецпереселенцев, особенностям статистического учета смертности различными государственными учреждениями и влиянию различных политических, экономических и правовых факторов на статистический учет смертности. Делается вывод о том, что документы государственных учреждений различных ведомств не позволяют точно выяснить число спецпереселенцев, умерших в Северном крае в 1930-е гг.
Республика коми, архангельская область, вологодская область, спецпереселенцы, смертность, рождаемость, условия жизни, снабжение, медицинское обслуживание, статистический учет
Короткий адрес: https://sciup.org/14913581
IDR: 14913581
Текст научной статьи Смертность спецпереселенцев в Северном крае в 1930-е годы: причины, масштаб, статистический учет
Статистический учет в СССР в период массовых репрессий ‒ проблема сложная, несмотря на широкий корпус источников. Основная трудность состоит в том, что статистика как демонстрация итогов деятельности государства находилась в зависимости от власти, и зачастую желаемое выдавалось за действительное. Эта зависимость подробно рассмотрена исследователями А. Блюм и М. Меспуле1.
Учетом репрессированных граждан занимались различные учреждения, не пересекавшиеся по направлениям своей деятельности. Учетом спецпереселенцев-«бывших кулаков», подвергшихся массовому насильственному переселению в период коллективизации и «раскулачивания» в отдаленные районы СССР (с 1933 г. они стали именоваться «трудпересе-ленцами», а спецпоселки, в которых они были размещены, ‒ «трудпосел-ками») занимались органы ЗАГС, Управление народно-хозяйственного учета, Статистическое управление, Отдел переселений ОГПУ (в дальнейшем ‒ ОТП ГУЛАГа НКВД, ОТСП НКВД).
Наиболее полной в 1930-е гг. из всех пунктов учета в спецпоселках была производственная статистика. Ежеквартально направлялись отчеты в ОГПУ (НКВД) от предприятий, использующих труд спецпереселенцев. В отчеты входили данные о наличии трудоспособных, численности используемых на работах, виды работ и проценты выполнения плана. Самые спорные вопросы при анализе статистических источников возникают по вопросу учета смертности и рождаемости. Здесь наблюдается наибольшее расхождение в данных. Исследователь В.А. Исупов, рассматривая демографическую ситуацию первой половины ХХ в., отмечает: «Несмотря на стремление тоталитарного государства поставить под контроль не только жизнь, но и смерть каждого члена общества, значительная часть летальных исходов не регистрировалась. При чем недоучет смертей был значительно выше, чем недоучет рождений»2.
Северный край, в состав которого в 1929‒1936 гг. входили Коми автономная (с 1936 г. ‒ Коми АССР, с 1991 г. ‒ Республика Коми), Архангельская и Вологодская области, был первым и самым крупным регионом, куда в административном порядке выселяли раскулаченных крестьян. Первые эшелоны с высланными стали прибывать в конце февраля 1930 г., и к началу мая в Северный край было выселено 230 065 человек3. К 1931 г. численность спецпереселенцев составила 285 609 человек4.
В первой половине 1930-х гг. смертность спецпереселенцев в несколько раз превышала рождаемость. Естественного прироста в спецпоселках не происходило. Причинами такой ситуации послужило отсутствие нор- мального жилья, крайний недостаток продуктов питания и высокий уровень заболеваемости5. Заселение спецпереселенцев регламентировалось секретными постановлениями СНК СССР, ВСНХ СССР и приказами ОГПУ, а также договорами между ГУЛАГом ОГПУ и Всесоюзным объединением лесной промышленности и лесного хозяйства (Союзлеспром) ВСНХ СССР, Главслеспромом ВСНХ и ГУЛАГом ОГПУ, Наркомлесом и ГУЛАГом ОГПУ, Полномочным представительством (ПП) ОГПУ по Северному краю и трестом «Комилес». Несмотря на тщательную документальную регламентацию, на практике обустройство спецпереселенцев проводилось наспех, без проведения каких-либо подготовительных работ.
Спецпереселенцы доставлялись на территорию Коми автономной области по железной дороге, затем этапом (пешком, на телегах или баржах) до Сыктывкара, откуда ‒ этапом до райцентров, где спецпереселенцы распределялись по местам заселения (будущим спецпоселкам). Они временно размещались в близлежащих к предполагаемым местам заселения селах и деревнях. Иногда с барж людей высаживали непосредственно в тайге, где они сами должны были строить себе жилье, первоначально размещаясь в землянках. Многие из спецпереселенцев умирали уже в пути следования, потому что зачастую они не были обеспечены в достаточном количестве продуктами питания и питьевой водой. Все время следования конвоирование спецпереселенцев осуществлялось конвойными частями и сотрудниками Коми областного отдела ОГПУ, которые несли ответственность за жизнь и здоровье спецпереселенцев.
В начале 1930-х гг. отсутствие необходимого снабжения спецпересе-ленцев привело к голоду в спецпоселках. В отчетах Коми облисполкома по «освоению спецпереселенцев» в феврале 1932 г. констатировалось: «В поселковом разрезе дело обстоит ужасно скверно. В отдельных поселках обеспеченность на несколько дней...»6. 22 апреля 1933 г. заведующий Облздавотделом Коми облисполкома направил в Отдел переселений ОГПУ докладную записку: «Спецпереселенцы находятся в тяжелом положении. Отпускаемая норма 175 гр. муки и 10 гр. сахару далеко недостаточно, вследствие чего спецпересе-ленцы потребляют в пищу разные суррогаты, древесную кору, мох, травы. На почве недоедания наблюдаются массовые голодные отеки и, наконец, смерть от истощения. Хлебные лимиты поступают с большим опозданием»7.
Снабжение спецпереселенцев обеспечивалось в 1930-е гг. Комилес-продторгом и ОРСом (отдел рабочего снабжения) треста «Комилес». В 1939 г. в системе Комилеспродторга в лесных участках (в том числе и в спецпоселках) имелось 196 торговых точек, 20 столовых, 14 котлопунктов, 73 хлебопекарни8. Спецпереселенцы официально должны были снабжаться по месячным нормам рабочих промышленности и связи (мяса и рыбы ‒ 1,8 кг, жиров ‒ 0,4 кг, сахара ‒ 0,4 кг, крупы ‒ 1,2 кг)9. Но леспродторги, которые снабжали также и сезонных рабочих из местного населения, не имели дополнительных фондов и запасов продуктов и промтоваров для нормального снабжения спецпереселенцев.
Спецпереселенцы прибывали, как правило, без имущества, практически не имея сменной одежды и обуви. Поэтому возникала проблема снабжения спецодеждой для работы в лесу, повседневной одеждой, обувью и бельем. Типичной для всех спецпоселков была ситуация, сложившаяся в Сереговском и Турьинском лесопунктах в декабре 1934 г.: «Все без исключения трудпоселенцы ходят оборванные, мануфактуры и готовой одежды нигде нет, а где они и есть, то купить их трудпереселенец не в состоянии, так как на основные прейскурантные цены наложены неимоверно высокие накладные расходы. Тужурка на вате из бумазеи стоит 40 руб., шапка ‒ 13 руб., ватные брюки, которые должны быть выданы как спецодежда, стоят 16 руб. Рукавиц почти ни в одном ларьке не имеется»10.
27 июня 1935 г., после обследования спецпоселков, бюро Коми обкома ВКП(б) и президиум Коми облисполкома приняли постановление о необходимости улучшить снабжение спецпоселков. В нем, в частности, отмечалось: «Снабжение переселенцев не организовано. Систематические срывы и перебои в снабжении основными продуктами питания: мукой, крупой, рыбой, как в поселках, так и на лесозаготовках. Сахару и кондитерских изделий не бывает до четырех месяцев. По одному месяцу не бывает соли. Промтовары отсутствуют по году и более»11.
На фоне истощения и отсутствия должного медицинского обслуживания вспыхнули эпидемии сыпного и брюшного тифа, распространялись цинга и другие заболевания. 6 июня 1933 г. комендант спецпоселка Лесной Чер Усть-Куломского района Коми докладывал начальнику ОСП КОО ОГПУ (Отдел спецпоселения Коми областного отдела ОГПУ), а также в Облздра-вотдел Коми облисполкома, в Отдел переселения треста «Комилес» и в райкомендатуру ОСПКОО ОГПУ (с. Усть-Кулом) о заболеваемости спец-переселенцев: «Имеется повышенная смертность населения, вследствие употребления в пищу различных суррогатов. Заболевания характеризуются следующими признаками: исхудание, отеки конечностей и лица, с последующими отеками живота, в конце болезни развивается расстройство желудочно-кишечного тракта с сильными поносами, после чего больные погибают. За май имеем 71 случай смерти. В основном гибнут трудоспособные и дети школьного возраста. На 15 июня по всему поселку числится в среднем 120 человек лежачих и слабоходячих. Имеются от 150 до 200 человек с отечностями и истощениями. Цинготных на 15 июня ‒ 22 человека»12.
Аналогичная ситуация сложилась во всех местах проживания спец-переселенцев в Северном крае. Начальник Отдела спецпереселенцев Полномочного представительства ОГПУ Северного края в докладной записке начальнику ПП ОГПУ от 2 октября 1931 г. относительно положения в одном из мест заселения спецпереселенцев Архангельской области указывал: «Согласно распоряжения мною выявлено на месте нижеследующее состояние хозустройство спецпереселенцев, переданных ЛПХ [Леспромхозам. ‒ Н.И.] Мосгортопа на станцию Коноша. По плану строитель- ства намечено 2 500 домов, к 15 октября ‒ 1 700, к 15 ноября ‒ 800 для ввезенных контингентов. На 1 сентября заложено 702 дома, средний общий процент готовности 60 %. Для окончания строительства требуется 6 500. Работает фактически 2 226 ‒ 34 %. Стройматериалами жилстроительство не обеспечено. Все это свидетельствует о том, что жилстроительство по ЛТХ Мосгортопа бесспорно сорвано. Закончено не будет не только строительство, но и не будут закончены заложенные 702 дома. Причины... бездеятельность, нерасторопность, безответственное отношение директора ЛПХ. Часто рабочие не выходят [На работу. ‒ Н.И.] из-за отсутствия обуви... Задолженность по зарплате 286 тыс. рублей... В бараках скученность неимоверная, размещены на чердаках лесорубческих бараков, в помещениях сыро, грязь... положение спецпереселенцев катастрофическое. В результате таких тяжелых условий по всей Коноша-Вельской ветке среди спецпереселенцев свирепствует тиф, принимающий угрожающие масштабы и количество заболеваемых постоянно растет. За сентябрь зарегистрировано 115 случаев. Рабочая сила используется нерационально и неорганизованно, рабочий день не уплотнен. На самом строительстве можно встретить десятками рабочих, которые ничем не занимаются, вследствие нераспорядительности десятников и прорабов. Весьма характерным является тот факт, что вся рабочая сила, прикрепленная к строительству поселка на 6 км Коноша-Вельской ветки проживает на 10 км. той же ветки, которая вынуждена следовать пешком к месту строительства при наличии двух паровозов, которые безболезненно можно использовать на переброску рабсилы»13.
Медико-санитарных учреждений в районах массовых поселений спец-переселенцев остро не хватало. Медицинское обслуживание спецпересе-ленцев было возложено на Облздравотделы. Но они не имели финансовых и кадровых ресурсов, чтобы быстро решить проблему медицинского обслуживания спецпереселенцев. В 1931 г. в Северном крае на 130 тыс. спец-переселенцев имелись 4 больницы и 115 медпунктов14. В Коми области к 1933 г. было организовано 6 больниц (на 238 коек15) для 24 тыс. спецпересе-ленцев, одна больница обслуживала в 1933 г. около 4 тыс., а в 1935 г. ‒ около 3 тыс. (к 1935 г. численность спецпереселенцев снизилась до 16 тыс.)16. Однако в территориальном аспекте эти средние цифры не дают подлинной картины: медико-санитарные учреждения распределялись не равномерно, больницы для спецпереселенцев были организованы не во всех районах.
В 1930‒1931 гг. в СССР было выселено и расселено по спецпоселкам около 1,8 млн человек. К началу 1932 г. на спецпоселении находилось около 1,4‒1,3 млн. За два года численность спецпереселенцев уменьшилась на 400‒500 тыс. Такое сокращение произошло, прежде всего, за счет высокой смертности, а также побегов спецпереселенцев. В 1932 г. умерли почти 90 тыс., за четыре года (1932‒1935 гг.) ‒ более 300 тыс. Смертность во много раз превышала рождаемость (в 1932 г. ‒ в 5 раз, в 1933 г. ‒ в 9 раз)17. Аналогичная ситуация сложилась во многих спецпереселенческих регионах. Так, по данным Сиблага ОГПУ, с июня 1931 г. по июнь 1932 г. в Нарыме у спецпе-реселенцев родилось 3 841 детей, а умерло 25 213 человек18.
Наибольший разрыв между уровнями рождаемости и смертности у спецпереселенцев наблюдался в 1933 г. как по Северному краю, так и в СССР в целом. По Северному краю на 79 537 спецпереселенцев было зафиксировано 15 355 случая смерти в спецпоселках: уровень смертности превосходил уровень рождаемости (1 606 случаев) в 9,5 раз. В СССР, при общей численности 1 142 084 спецпереселенца, на 151 601 умерших приходилось в 17 082 родившихся: уровень смертности превышал уровень рождаемости в 8,8 раз. В целом по СССР количество умерших спецпереселен-цев составило 13 % их общего числа, по Северному краю ‒ 19 %. В середине 1930-х гг. это соотношение сохранялось: в 1934 г. по Северному краю на 403 родившихся спецпереселенцев приходилось 2 192 случая смерти, по СССР в спецпоселках ‒ 40 012 умерших на 14 033 родившихся. С 1935 г. в СССР и с 1936 г. в Северном крае прекращается превышение уровня смертности над уровнем рождаемости. Во второй половине 1930-х гг. рождаемость постепенно росла, а смертность снижалась19.
Высокий уровень смертности был зафиксирован и в лагерях ГУЛАГа. Как отметили С.И. Глотик и В.В. Минаев, «крупные всплески смертности в лагерях» в 1930-е гг. наблюдались дважды: в 1933 г., что было вызвано голодом, и в 1938 г. из-за ужесточения репрессий. В 1932 г. число умерших в ИТЛ составило 13 197 человек (4,8 % к среднесписочному составу), в 1933 г. ‒ 67 297 (15,3 %), в 1934 г. ‒ 25 187 (4,28 %)20.
В целом по стране смертность населения в 1933 г. также превысила рождаемость. По данным В.Б. Жиромской, в РСФСР смертность превысила рождаемость на 215 тыс. человек, «даже по неполным данным текущего учета умерло около 3 млн. человек»21. В 1934 г. был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости за десятилетие.
В Северном крае общая численность «бывших кулаков» в спецпо-селках уменьшилась с 280 тыс. в 1931 г. до 79 тыс. в 1933 г. как за счет смертности, так и за счет побегов. Н.А. Ивницкий считает, что основной причиной сокращения численности спецпереселенцев в 1930-е гг. было бегство из спецпоселков, которое достигало 72 % от их общего числа22. На наш взгляд, эта цифра завышена, хотя побеги действительно имели место. Например, за 1934‒1935 гг. из поселков Усть-Куломского района Коми бежало 615 человек, что составило 19 % взрослого населения23.
Важно иметь в виду, что отчеты комендантов имели некоторые особенности: какое-то количество умерших указывалось как сбежавшие, чтобы ситуация не выглядела катастрофической. Кроме того, не учтенные по какой-либо причине также могли быть записаны в сбежавшие. Например, в одном из отчетов ПП ОГПУ по Северному краю за 1934 г, указывалось, что в Архангельской и Вологодской областях было выявлено 6 922 труд-переселенца, проживающих вне спецпоселков. А также указывалось, что
1 176 человек убыло; из них 1 104 было восстановлено в гражданских правах, а «умерло, убежало, осуждено и проч. ‒ 72 человека»24.
«Побеги» и «возвращение из побегов» были пунктами квартальных отчетов региональных ОСП ГУЛАГа ОГПУ (НКВД) перед центральным аппаратом по наличию и движению спецконтингента. Формы отчетов разрабатывались и утверждались непосредственно в ОСП ГУЛАГа ОГПУ (НКВД). Наибольшее число побегов фиксировалось в первый год выселения для любых категорий высланных, независимо от того, в какой период они были высланы. Так, по Северному краю в 1934 г. было зафиксировано число бежавших, которое составило около 16 % от общего количества спец-переселенцев (см. таблицу 1).
Таблица 1. Рождаемость, смертность и побеги в спецпоселках Северного края
|
1933 г. |
1934 г. |
|
|
Всего спецпереселенцев на 1 января |
79 534 |
71 923 |
|
Родилось |
1 606 |
403 |
|
Родилось (%) |
2,03 |
0,56 |
|
Умерло |
15 355 |
2 192 |
|
Умерло (%) |
19,3 |
3,04 |
|
Бежало |
12 696 |
8 003 |
|
Бежало (%) |
16 |
11 |
|
Возвращено из бегов, задержано и вселено в спецпоселки |
3 028 |
2 556 |
|
Вернулось добровольно |
1 355 |
1 814 |
(Составлено по: Архив МВД Республики Коми. Ф. 31. Оп. 1. Д. 6. Л. 1, 6, 96, 99).
Большое значение имеют и косвенные данные. Следует согласиться с В.И. Коротаевым, который полагает, что «статистические данные о спец-переселенцах ненадежны, особенно зафиксировавшие информацию об их ввозе и обустройстве, ввиду высокого уровня побегов и высокого уровня смертности. Поэтому следует акцентировать внимание не только на абсолютных числах, но и на относительных (процентных соотношениях). Последние позволяют выявить тенденции в изменении численности и составе принудительных мигрантов, так они нейтрализуют неточность абсолютных данных и акцентируют внимание на самой динамике демографических процессов и облегчают применение сравнительно-исторического метода»25.
К таким показателям относятся данные органов ЗАГС. Они не являются полными: по ряду спецпоселков за некоторые годы статистика отсутствует. Тем не менее, они имеют большое значение, так как отражают общую демографическую ситуацию в спецпоселках. По учету органов ЗАГС, уровень смертности спецпереселенцев в Коми области в 1933 г. составил 2 857 человек, в 1934 г. уровень смертности снизился более чем в три раза (884 человек)26. Основными причинами смерти были заболевания, вызванные истощением организма. В актах о смерти в качестве причин чаще всего указывались рахит, порок сердца, грипп, туберкулез, понос, «воспаление мозговых оболочек мозга». В 1933‒1940 гг., когда органы ЗАГС вели учет в спецпоселках, по их данным, в спецпоселках Коми родилось 4 567 человек. Самый низкий уровень рождаемости пришелся на 1933 г. ‒ 139 человек. С 1936 г. сохранялось стабильное число рождений ‒ около 700. С 1936 по 1940 гг. всего в спецпоселках Коми АССР было зарегистрировано 3 637 рождений. Также с 1933 по 1940 гг. в спецпоселках также было учтено 988 случаев заключения брака и 56 случаев расторжения, при этом за восемь лет в 25-ти спецпоселках из 46-ти не было зарегистрировано ни одного развода27.
Учет смертности спецпереселенцев имел много особенностей.
Во-первых, нечеткое распределение функций учета между учреждениями (ОСП ГУЛАГа ОГПУ, учреждения ЗАГС, Статуправление) и неско-ординированность действий привели к тому, что учитывались различные параметры, которые могли не совпадать. Например, органы Статуправле-ния учитывали «население спецпоселков», куда входили и вольнонаемные. ОГПУ учитывало только спецпереселенцев в спецпоселках. Поэтому данные этих учреждений зачастую не совпадают как по общей численности, так и по смертности.
Во-вторых, можно говорить об определенном проценте ложных данных, так как на уровне комендантов умершие могли выдаваться за сбежавших, и наоборот: в зависимости от того, какие цифры выглядели наиболее выгодными для отчета. Кроме того, спецпереселенцев, сбежавших или перешедших на работу на другое предприятие, коменданты могли вносить в число проживающих в спецпоселке. И зафиксированный относительный уровень смертности, таким образом, понижался.
В-третьих, наиболее подробный учет смертности в 1930-е гг. вели спецпоселковые ЗАГСы, но их данные ‒ неполные. ОСП ГУЛАГа ОГПУ в 1930-е гг. на местах постоянного поквартального учета смертности не вели, так как большее внимание уделяли производственной занятости и выполнению спецпереселенцами производственных планов.
В-четвертых, точный статистический учет в некоторых регионах затруднялся чрезвычайно большим количеством спецпереселенцев.
Учитывая вышесказанное, на сегодняшний день нельзя установить точно, сколько спецпереселенцев умерло в определенных регионах в определенный год в течение 1930-х гг. Такая ситуация характерна и для страны в целом. В.Б. Жиромская отмечает, что учет смертей был неполным, особенно в сельской местности. Для сокрытия сильной убыли переписные листы во время переписи 1937 г. перераспределялись между региона- ми28. А. Блюм и М. Меспуле указывают на документы, включающие информацию о недоучете смертей до 80 %29. В.А. Исупов полагает, что недоучет демографических событий был скорее правилом, чем исключением, и приводит данные, судя по которым погрешности в учете населения СССР составляли от 7,6 % до 55 %30.
Данные различных учреждений, ведущих учет спецпереселенцев в Коми области, о смертности в спецпоселках разнятся в показателях за 1933 г. до 1,5 тыс. человек. При этом, по обобщенным данным Коми обкома (отчет о медико-санитарном обслуживании спецпереселенцев), в 1933 г. в спецпоселках умерло 1 356 человек. По документам Облисполкома о «хозяйственном обустройстве» за первое полугодие 1933 г., среди спецпере-селенцев Коми области умерло только детей 2 56331. Эта цифра ставит под сомнение другие данные учета, указанные в таблице 2. В переписке Коми обкома и КОО ОГПУ указывается, что за май‒июнь 1933 г. только в спец-поселках одного Усть-Куломского района умерло 667 человек, смертность составила 10 % к общему количеству спецпереселенцев в районе32. Учитывая все эти данные, можно считать, что максимальное число умерших ‒ 3 095 ‒ выглядит наиболее реальным. По данным Коми облисполкома среди всех 10 509 человек, умерших в Коми АССР в 1933 г., спецпереселенцы составили 29 % (3 095 человек) (см. таблицу 2).
Таблица 2. Смертность спецпереселенцев-«бывших кулаков» в Коми автономной области в 1933 г.
|
Учреждения, ведущие учет |
Умерло спецпереселенцев |
|
ЗАГС |
2 857 |
|
Коми облисполком |
3 095 |
|
Коми обком |
1 356 |
(Составлено по: Архив Управления ЗАГСа Республики Коми. Дело № 06-23. Книга учета архивного фонда (о смерти); Спецпоселки Коми области: Сборник документов. Сыктывкар, 1997. С. 253; НАРК. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 461. Л. 35).
В 1930-е гг. уровень смертности был крайне высоким. Вследствие отсутствия налаженной инфраструктуры спецпоселков, спецпереселен-цы испытывали недостаток продуктов питания, одежды, обуви, медикаментов. Такая ситуация вела к голоду и эпидемиям, и в итоге ‒ к высокой смертности. Самый высокий уровень смертности в спецпоселках наблюдался в 1932‒1933 гг. Тогда же был зафиксирован и наибольший разрыв между уровнями рождаемости и смертности у гражданского населения СССР, и самый высокий уровень смертности вследствие голода у заключенных в лагерях ГУЛАГа. Уровень смертности спецпереселенцев в Се- верном крае в 1933 г. составил 19 % при 13 % уровне смертности спецпере-селенцев в СССР. И в дальнейшем, в 1940-е гг., уровень смертности оставался чрезвычайно высоким не только для вновь прибывших на спецпосе-ления категорий репрессированных, но и для «бывших кулаков», которые прожили к этому времени в спецпоселках более 10 лет. В Коми АССР за 1945 г. на 48 рождений пришелся 301 случай смерти среди спецпереселен-цев-«бывших кулаков». Среди других категорий спецпереселенцев в том же году уровень смертности был гораздо выше. Так, у членов семей ОУНов-цев было зафиксировано 23 рождения и 650 смертей, у спецпереселенцев-немцев ‒ соответственно 2 и 281, у «ссыльнопоселенцев из Прибалтийских ССР» (учетная категория спецпереселенцев) ‒ ни одного рождения на 67 случаев смерти 33.
Итак, статистический учет спецпереселенцев в 1930-е гг. на местах и в целом по стране не был систематизированным, что стало следствием стихийности и масштабности насильственных переселений. Межведомственная разобщенность и отсутствие системности общего учета спецпе-реселенцев, в том числе и учета смертности, было следствием, на наш взгляд, неопределенного правового статуса спецпереселенцев. Официально они были лишены только права свободного передвижения и не имели наказания по Уголовному кодексу, как заключенные. Тем не менее, на практике, они являлись репрессированной категорией граждан, находившейся в полном подчинении ОГПУ (НКВД).
Список литературы Смертность спецпереселенцев в Северном крае в 1930-е годы: причины, масштаб, статистический учет
- Блюм А., Меспуле М. Бюрократическая анархия: Статистика и власть при Сталине. М., 2006. Blyum A., Mespule M. Byurokraticheskaya anarkhiya: Statistika i vlast pri Staline. Moscow, 2006.
- Исупов В.А. Демографические катастрофы и кризисы в России в первой половине ХХ века: Историко-демографические очерки. Новосибирск, 2000. С. 112. Isupov V.A. Demograficheskie katastrofy i krizisy v Rossii v pervoy polovine XX veka: Istoriko-demograficheskie ocherki. Novosibirsk, 2000. P. 112.
- Спецпоселки в Коми области: Сборник документов. Сыктывкар, 1997. С. 233, 234. Spetsposelki v Komi oblasti: Sbornik dokumentov. Syktyvkar, 1997. P. 233, 234.
- Коротаев В.И. На пороге демографической катастрофы: Принудительная колонизация и демографический кризис в Северном Крае в 30-е годы ХХ века. Архангельск, 2004. С. 37. Korotaev V.I. Na poroge demograficheskoy katastrofy: Prinuditelnaya kolonizatsiya i demografichesky krizis v Severnom Krae v 30-e gody XX veka. Arkhangelsk, 2004. P. 37.
- Игнатова Н.М. Спецпереселенцы в Республике Коми в 1930-50-е гг Сыктывкар, 2009. С. 27-35ю Ignatova N.M. Spetspereselentsy v Respublike Komi v 1930-50-e gg Syktyvkar, 2009. P. 27-35
- Упадышев Н.В. Спецпоселенцы в Северном крае: концептуальное видение проблемы // Вестник Поморского университета. 2005. № 2(8). С. 24-25ю Upadyshev N.V. Spetsposelentsy v Severnom krae: kontseptualnoe videnie problemy // Vestnik Pomorskogo universiteta. 2005. No. 2(8). S. 24-25
- Национальный архив Республики Коми (НАРК). Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2330. Л. 10. National Archive of Komi Republic (NARK). F. R-3. Op. 1. D. 2330. L. 10
- НАРК. Ф. П-1. Оп. 3. Д. 607. Л. 5. NARK. F. P-1. Op. 3. D. 607. L. 5.
- Государственный архив общественно-политических движений и формирований Архангельской области (ГАОПДФ АО). Ф. 290. Оп. 1. Д. 933. Л. 33-35. State Archive of social and political movements and formations of Arkhangelsk oblast (GAOPDF AO). F. 290. Op. 1. D. 933. L. 33-35.
- Ивницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивание (начало 1930-х годов). М., 1996. С. 269-270. Ivnitsky N.A. Kollektivizatsiya i raskulachivanie (nachalo 1930-kh godov). Moscow, 1996. P. 269-270.
- Гущин Н.Я. Раскулачивание в Сибири (1928-33 гг.): социально-экономические и демографические последствия // Гуманитарная наука в России: соросовские лауреаты. М., 1996. С. 51. Gushchin N.Ya. Raskulachivanie v Sibiri (1928-33 gg.): sotsialno-ekonomicheskie i demograficheskie posledstviya // Gumanitarnaya nauka v Rossii: sorosovskie laureaty. Moscow, 1996. P. 51
- Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930-1960. М., 2005. С. 20-42. Zemskov V.N. Spetsposelentsy v SSSR, 1930-1960. Moscow, 2005. P. 20-42.
- Голотик С.И., Минаев В.В. Население и власть: Очерки демографической истории СССР 1930-х годов. М., 2004. С. 161. Glotik S.I., Minaev V.V. Naselenie i vlast: Ocherki demograficheskoy istorii SSSR 1930-kh godov. Moscow, 2004. P. 161.
- Жиромская В.Б. Демографическая история России в 1930-е гг.: Взгляд в неизвестное. М., 2001. С. 12, 13. Zhiromskaya V.B. Demograficheskaya istoriya Rossii v 1930-e gg.: Vzglyad v neizvestnoe. Moscow, 2001. P. 12, 13.
- Архив МВД Республики Коми. Ф. 31. Оп. 1. Д. 6. Л. 1-21. Archive of Ministry of Internal Affairs of Komi Republic. F. 31. Op. 1. D. 6. L. 1-21.
- НАРК. Ф. Р-140. Оп. 2. Д. 279. Л. 1, 3. NARK. F. R-140. Op. 2. D. 279. L. 1, 3.
- хранения документов. Дело № 06-23. Книга учета архивного фонда (о регистрации и расторжении брака); Книга учета архивного фонда (о рождении); Книга учета архивного фонда (о смерти). Civil Registry Office of Komi Republic. The accounting department, handling and storage of documents. Delo № 06-23. Kniga ucheta arkhivnogo fonda (o registratsii i rastorzhenii braka); Kniga ucheta arkhivnogo fonda (o rozhdenii); Kniga ucheta arkhivnogo fonda (o smerti).