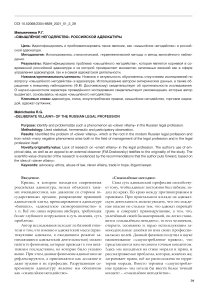"Смышлёное негодяйство" российской адвокатуры
Автор: Мельниченко Роман Григорьевич
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Проблемы организации и функционирования адвокатуры
Статья в выпуске: 2 (51), 2021 года.
Бесплатный доступ
Цель: Идентифицировать и проблематизировать такое явление, как «смышлёное негодяйство» в российской адвокатуре. Методология: Использовались статистический, герменевтический методы и метод включённого наблюдения. Результаты: Идентифицирована проблема «смышлёного негодяйства», которая является корневой в современной российской адвокатуре и из которой произрастает множество негативных явлений как в сфере управления адвокатурой, так и в самой адвокатской деятельности. Новизна/оригинальность/ценность: Новизна и актуальность обусловлены отсутствием исследований по вопросу «смышлёного негодяйства» в адвокатуре. Использование автором эмпирических данных, а также обращение к внешнему наблюдателю (Ф.М. Достоевскому) свидетельствует об оригинальности исследования. О научно-ценностном характере проведённого исследования свидетельствуют рекомендации, которые автор выдвигает, основываясь на идее «смышлёного негодяйства».
Адвокатура, этика, злоупотребление правом, смышлёное негодяйство, торговля надеждой, адвокат-сутяжник
Короткий адрес: https://sciup.org/140257922
IDR: 140257922 | DOI: 10.52068/2304-9839_2021_51_2_39
Текст научной статьи "Смышлёное негодяйство" российской адвокатуры
Введение.
Кризис, в котором находится современная российская адвокатура, нельзя объяснить такими очевидностями, как давление со стороны государственных органов, развращение правящей адвокатской элиты, превалирование в адвокатуре «бывших», «адвокатское скоморошничество» и т. п. Всё это лишь вершина айсберга, требующая более глубокого погружения в суть явления, суть проблемы.
Автор исследования исходит из базовой гипотезы о том, что именно в адвокатской массе (практикующие адвокаты, в ежедневном режиме занимающиеся адвокатской деятельностью) можно найти те феномены, которые приводят к тем негативным последствиям, на которые было указано выше. При этом данные феномены адвокатами не рефлексируются, а принимаются как должное и даже нужное в их профессии. Разрушающее современную адвокатуру явление мы обозначим как «смышлёное негодяйство».
«Смышлёные негодяи»
Сама суть адвокатской профессии способствует тому, чтобы адвокат постоянно был гибким, ходил по краю. По краю между противоправным и правовым. При пристальном взгляде на адвокатскую деятельность можно увидеть, что это хождение опасно не столько тем, что адвокат перейдёт грань и совершит правонарушение, а тем, что, увлечённый своей балансировкой, он легко становится «смышлёным негодяем», то есть человеком, открыто, осознанно и гордо использующим законодательные лазейки во имя своих профессиональных целей. Данный феномен получил в науке наименование «злоупотребление правом», что представляется нам не совсем точным концептом. Здесь мы находимся на стыке морали и права, и рассматриваемая проблема, которая, конечно же, затрагивает право, всё же расположена на территории морали. Вместо термина «злоупотребление правом» мы хотели бы ввести более точный концепт – «смышлёное негодяйство».
Термин «смышлёный негодяй» был введён в научный оборот Д. Юмом и обозначает жизненную позицию человека, который знает о честности, но считает, что «То, что честность есть наилучшая политика, быть может, и хорошее общее правило, однако оно подвержено многим исключениям. И быть может, можно подумать, что наиболее мудро ведет себя тот, кто соблюдает общее правило, но пользуется преимуществами всех исключений из него» [3]. «Смышлёный» адвокат юридический подчёркнуто безупречен, но является откровенным негодяем с позиции общества, а в случае, если такая манера поведения становится весьма распространённой в корпорации, то вся адвокатура предстаёт перед нашим взором смышлёной и негодяйской.
Рассмотрим примеры подобной «смышлёности» в адвокатуре.
Торговля надеждой
Адвокат предстаёт перед клиентом, который угнетён и раздавлен навалившейся на него ситуацией, в роли ангела надежды. Адвокат говорит: «Я тебя вытащу!» И доверитель попадает в плен к тому злу, которое, согласно древнегреческому мифу, осталось в ящике Пандоры, никуда не улетело и всегда с нами – это Надежда.
Впрочем, лучше, чем кто-либо, об этом виде адвокатского негодяйства нам поведает Фёдор Михайлович Достоевский: «Но все-таки чрезвычайно приятно иметь адвоката. Я сам испытал это ощущение, когда однажды, редактируя одну газету, вдруг нечаянно, по недосмотру (что со всеми случается) пропустил одно известие, которое не мог напечатать иначе, как с разрешения г-на министра двора. И вот мне вдруг объявили, что я под судом. Я и защищаться-то не хотел; «вина» моя была даже и мне очевидна: я преступил ясно начертанный закон, и юридического спору быть не могло. Но суд мне назначил адвоката (человека несколько мне знакомого и с которым мы заседали прежде в одном «Обществе»). Он мне вдруг объяснил, что я не только не виноват, но и совершенно прав, и что он твердо намерен отстоять меня изо всех сил. Я выслушал это, разумеется, с удовольствием; когда же настал суд, то, признаюсь, я вынес совершенно неожиданное впечатление: я видел и слушал, как говорил мой адвокат, и мысль о том, что я, совершенно виноватый, вдруг выхожу совсем правым, была так забавна и в то же время так почему-то привлекательна, что, признаюсь, эти полчаса в суде я отношу к самым веселым в моей жизни; но ведь я был не юрист и потому не понимал, что совершенно прав. Меня, конечно, осудили: литераторов судят строго; я за- платил двадцать пять рублей и, сверх того, отсидел два дня на Сенной, на гауптвахте, где провел время премило, даже с некоторою пользою и кое с кем и с чем познакомился» [2].
И подобная ситуация повторяется и повторяется, проходя через все исторические этапы российской адвокатуры. Например, в наши дни она ярко промелькнула в кейсе актёра Ефремова, обвиняемого в смертельном наезде в состоянии опьянения, у которого его адвокат, так же, как в своё время присяжный поверенный писателя Достоевского, заронил ложную надежду: «А может, выкрутимся?». Такой вид смышлёного негодяйства мы обозначим как «торговля надеждой».
Выделим основные признаки поведения смышлёного адвоката в ситуации с «даром адвокатской надежды»:
– доверитель психологически признаёт свою вину;
– адвокат убеждает своего доверителя в том, что его профессионализм позволит клиенту избежать наказания.
Что же является триггером, запускающим «смышлёное адвокатское негодяйство»? Со стороны доверителя всё ясно, сбивает его с пути надежда. Нам представляется, что для адвоката этим триггером является пресуппозиция ложного профессионализма, в которую входит представление о «чуде», чуде избавления от неминуемой неприятности. Адвокат воображает себя волшебником, который может выпутать клиента из любой ситуации, а добровольный отказ от чуда смешивается в сознании адвоката с непрофессионализмом. Есть и более прозаические объяснения подобной модели поведения адвокатов. Одно из них вошло в народную пословицу, которую приводит Достоевский: «Адвокат – это нанятая совесть».
Методы «смышлёных адвокатов»
Общеизвестным для юристов является разделение двух понятий: «буква закона» и «дух закона». Корни данного разделения можно найти в латинском юридическом выражении summum jus summa injuria (высший закон, высшая несправедливость). То есть не всегда буквальное выполнение закона является справедливым. В деятельности адвокатов случаются моменты, когда буква закона противоречит духу; зачастую в подобную ситуацию адвокаты попадают в состоянии «необходимой обороны». Например, для того чтобы не пропустить сроки подачи жалобы на какое-либо судебное решение (выдача которого в полной своей версии может быть затянута), адвокаты подают «летучку», которая по форме является приостанавливающим течение срока документом (по букве), а по содержанию (по духу) – нет. Однако смышлёные адвокаты идут дальше и на поток ставят ситуацию, когда закон превыше его духа, в результате происходит эрозия как самого права, так и его носителей.
Дело Ивана Павлова. В качестве яркого примера использования подобного метода можно привести дело адвоката Ивана Павлова. Органы следствия, пытаясь вывести адвоката Ивана Павлова из дела, возбудили в отношении него уголовное дело по явно надуманным обстоятельствам, но в полном соответствии с нормами права (вид смышлёного негодяйства). Под этим предлогом один из горных адвокатов (один из видов адвокатов периода номенклатурной адвокатуры) обратился к адвокатам со следующим воззванием: «Законом не ограничено число адвокатов, которые могут участвовать в защите обвиняемого. Я считаю, что все коллеги, поддерживающие Ивана Павлова (естественно, с его согласия), должны вступить в защиту Ивана. Пусть следователь уведомляет 100–200 адвокатов о каждом следственном действии, организовывает условия для допроса в присутствии такого количества адвокатов, выписывает пропуски для входа в здание и т. д. Если следствие возбуждает дело в отношении адвоката, чтобы его выкинуть из дела, то надо ему это «удовольствие» растянуть». Налицо превышение пределов «необходимой юридической обороны». Признаки необходимой обороны – негодяйский метод применяется в ответ на негодяйский метод, но то, что это превышение, говорит нам простое сравнение данного кейса с кейсом о «летучке». При подаче «летучки» адвокат ставит перед собой ясную юридическую цель – пресечь сроки подачи жалобы, а в кейсе Ивана Павлова цель негодяйского метода – причинить страдание («растянуть удовольствие») представителю органа следствия.
Дело адвоката Рамалданова. Использование негодяйских методов не является прерогативой лишь «простых» адвокатов, эти методы не брезгует применять и адвокатская правящая элита. Так, несколько адвокатов и адвокатских палат обратились в суд с иском об обжаловании Разъяснения Комиссии по этике и стандартам 03/19 и Резолюции IX Всероссийского съезда адвокатов «Об адвокатской этике» (дело 32 адвокатов) [1]. После чего с аналогичным иском к ФПА обратился адвокат А.Р. Рамалданов. Иск принял к своему производству тот же судья, но при размещении сведений об иске в системе ГАС РФ «Правосудие» было изменено наименование ответчика, что сделало невозможным авторам первого иска узнать о наличии второго. Разбирательство по первому делу было заволокичено, а по второму было принято решение об отказе в удовлетворении иска, что, в свою очередь, создало прецедент для отказа в удовлетворении и первого.
Налицо применение приёма «смышлёного негодяйства», когда лицо действует по праву (каждый имеет право обратиться в суд за защитой своих прав), но, с другой стороны, обращается в суд не за защитой своих прав, а для ограничения прав других лиц. Причём в данный проект были втянуты не только адвокаты (очевидно, что адвокат из Дагестана А.Р. Рамалданов не являлся интересантом по делу, иначе он присоединился бы к первоначальному иску), но и судья, и судебные служащие.
Методы «смышлёного негодяйства» в адвокатуре не только запускают круг негодяйства, в котором одно негодяйство оправдывается другим, но и расширяют этот круг за счёт вовлечения в него широкого круга юристов.
Отрицательный отбор современной адвокатуры
То, как происходит естественный отбор, в результате которого в адвокатуре остаются преимущественно «смышлёные негодяи», хорошо иллюстрирует рассказ одного юриста в социальной сети (стилистика текста сохранена):
«Приходит мамаша к честному адвокату, а тот ей и говорит: ваш сын – студент реально сядет по 228-й, так как статья – «грязная» и за нее реально сажают. Окажет содействие органам – получит семь лет лишения свободы, нет – одиннадцать лет лишения свободы.
И «маман» не готова принять правду. И кто готов платить деньги за такую консультацию? – Никто!
И «маман» пошла искать «более толкового» адвоката.
И тут же в соседнем офисе сидел «нечестный» адвокат, который ей сказал, что «мы сейчас характеристику приобщим, жалобу подадим на незаконный его арест, отделается условным сроком»! Цена 200 тыс. руб. И мамаша заплатила. Так как она услышала то, что хотела услышать.
Адвокат у следователя показательно громко поговорил со следователем, а на суде молчал.
Судья осудил студента-наркодилера на тот срок, о котором говорил первый адвокат, апелляция оставила всё в силе.
Что мы видим:
– честный, но бедный первый адвокат;
– мама купила себе надежду за 200 тыс. руб.;
– пацанчик получил, что получил;
– второй адвокат – «кучерявый, при бобах».
Печальный этот кейс, который является иллюстрацией к такому виду «смышлёного негодяйства», как «торговля надеждой», свидетельствует о плавном выдавливании из профессии лиц, не поддающихся смышлёному негодяйству.
Здесь самое время указать и путь спасения, который нам предлагает Д. Юм: «Такому человеку (благородной натуре. – прим. автора) часто доставляет удовольствие зрелище того, как, несмотря на все хитрости и уловки негодяев, их предают собственные принципы, и, в то время как они стремятся хладнокровно и скрыто осуществить свои мошенничества, им встречается соблазнительный случай, их природа оказывается слабой и они попадают в ловушку, откуда не могут выбраться, не утратив полностью репутации и не лишившись всякого доверия людей в будущем». Перелицовывая данную мысль на нашу культурную почву, можно привести следующую пословицу: «Сколько верёвочке ни виться – конец будет». Как бы тактически ни было бы выгодным применить методы «смышлёного негодяйства», в стратегическом плане получат преимущество те адвокаты, которые будут воздерживаться от подобного соблазна.
Адвокаты как распространители вируса «смышлёного негодяйства»
«Смышлёное негодяйство» бушует не только в рамках современной адвокатуры, оно, как круги на воде, распространяется и на смежные с адвокатской виды деятельности, например на деятельность экспертную. Изначально эксперты – это люди, обладающие особыми познаниями. «Смышлёные» адвокаты, подобно адвокатам дьявола, соблазнили экспертов тем, что открыли им путь к «божественной силе», а именно возможность доказать недоказуемое.
В нашем мире не существует абсолютных истин, и каждая из них обладает исключением, которое эту истину и подтверждает. «Смышлёные» адвокаты стали нанимать «падших» экспертов для подготовки экспертных доказательств к любому суждению, например, что через спутник можно перехватить управление автомобилем и совершить смертельное ДТП без участия пьяного водителя, в нём находящегося.
Подобно раковой опухоли «падшие» эксперты, в свою очередь, стали заражать «смышлёным негодяйством» те научные сферы, в которых они изначально специализировались. Яркий тому пример – лингвистика.
Похоже, что «падшие» филологи-русисты вознамерились вбить осиновый кол в имидж рус- ского языка, который и так в последние годы дышит на ладан и выдавливается из большинства европейских стран. Речь идёт о таком феномене, как «лингвистическая экспертиза». Впервые этот инструмент был использован карательными российскими органами в деле борьбы с инакомыслием. Отдал следователь текст на кафедру русского языка какого-нибудь университета, дал задание, например найти в тексте оскорбление чувств верующих, опля, и готово.
Вкусив крови и денег, а также отточив своё мастерство в плодотворном сотрудничестве с органами следствия, именитые филологи-русисты стали оптом и в розницу раздавать свои «заключения специалиста» уже по гражданским делам. Захотел, например, человек обидеться и подзаработать на том, что его посмели критиковать в социальной сети, обратился к эксперту-лингвисту, и опля: «В тексте содержится оскорбление».
Адвокат-сутяжник
Мир постоянно доставляет человеку неприятности. Право – это инструмент, который не избавит от неприятностей (они уже произошли), но поможет ещё раз, но уже с болезненным удовольствием, поковыряться в своей ране. Адвокаты уловили эту мазохистскую потребность, которая свойственна в большей или меньшей мере каждому человеку, и представляют людям услуги по обеспечению ковыряния в ране при помощи такого инструмента, как право.
Такой вид «смышлёного негодяя», как адвокат-сутяжник, будет постоянно «разжигать» своего клиента, как правило, потерпевшего. Сутяжник будет говорить: «Мы накажем твоего обидчика», будет показывать статьи различных кодексов, по которым это можно будет сделать. Он будет говорить: «Мы даже подзаработаем». И действительно, подзаработать можно, но в любом случае, и выигрыша, и проигрыша, произойдёт главное – в клиенте разрастётся ненависть, на взращивание которой при помощи адвоката-садовника он выделит значительную часть своей жизни. Из колодца ненависти невозможно напиться, и адвокат-сутяжник – это великолепный проводник в Ад ненависти и мести.
В середине XIX века при создании присяжной адвокатуры последняя попыталась отбросить «хвост» сутяжничества, связанный с предтечей корпоративной адвокатуры в России, – ходатаев и стряпчих, которые славились «разжиганием» конфликтов. Но уже во времена номенклатурной адвокатуры этот «хвост» стремительно отрос, поставив вопрос о целесообразности существования такой социальной институции, как адвокатура.
Выводы.
Феномен «смышлёного негодяйства» стал всеобъемлющим явлением современной адвокатуры. Способом борьбы с ним может стать введение самого концепта «смышлёное негодяйство» в лексикон широких адвокатских масс, побуждение к рефлексии о данном явлении и широкое его обсуждение.
Список литературы "Смышлёное негодяйство" российской адвокатуры
- Рагулин А.В. Решение суда по "секретному иску" адвоката А.Р. Рамалданова к Федеральной палате адвокатов Российской Федерации: "незаконность" и "позитивное содержание" // Евразийская адвокатура. 2020. № 3 (46). С. 68-78.
- Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1876. Февраль. Глава вторая. II. Нечто об адвокатах вообще. Мои наивные и необразованные предположения. Нечто о талантах вообще и в особенности // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: в 15 т. СПб.: Наука, 1994. Т. 13. С. 59-65.
- Юм Дэвид. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М., 1996. С. 68.