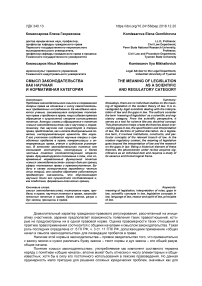Смысл законодательства как научная и нормативная категория
Автор: Комиссарова Елена Генриховна, Комиссаров Илья Михайлович
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 12, 2018 года.
Бесплатный доступ
Проблема законодательного смысла в современной теории права не отнесена к числу самостоятельных предметных исследований. Ее неизбежно касаются ученые, занимающиеся вопросами толкования права и пробелов в праве, чаще избегая прямого обращения к сущностной стороне используемого понятия. Авторы статьи обращаются к понятию «смысл законодательства» как к научному и нормативному. Как научное оно существует в теории права, представляя, как и всякое доктринальное понятие, инструментальную ценность для науки. С его участием создаются научные теории о преодолении пробелов в праве, конкретизации и интерпретации права, учение о судейском усмотрении. В качестве законодательного понятия оно связывает институты, конструкции и более частные понятия соответствующей отрасли права. Аргументируется положение о том, что современный нормативный функционал понятия «смысл законодательства» шагнул дальше границ сферы толкования права и правовосполнения. Будучи в своем историческом зарождении частью этих теорий, оно сегодня обретает собственную предметную значимость, что обусловливает научный поиск его сущностной составляющей и, как следствие, формально-логических границ.
Смысл законодательства, толкование норм, пробелы в праве, научные понятия в праве, законодательные понятия в праве, буква закона, разум и дух закона, принципы в праве
Короткий адрес: https://sciup.org/149132358
IDR: 149132358 | УДК: 340.13 | DOI: 10.24158/pep.2018.12.20
Текст научной статьи Смысл законодательства как научная и нормативная категория
Дозволительный характер гражданско-правового регулирования, рассчитанный на инициативу участников, заранее предполагает возможность появления таких правоотношений, которые не предусмотрены ни в одной правовой норме. Оценка правомерности таких отношений в практике правоприменения соотносится с общими началами и смыслом законодательства. Такая роль последних определена ст. 6 ГК РФ, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ, допускающими применение «общих начал и смысла законодательства» для ликвидации пробелов в праве.
Наличие этой нормы в законодательстве – прямое свидетельство того, что применительно к закону можно и нужно различать букву закона – текст нормы и дух закона – его общий разум, общие начала.
Понятие «смысл законодательства», употребляемое как компонент составного термина наряду с понятием «общие начала», вполне может быть отнесено к числу элементарных и общеизвестных, хотя бы в силу его постоянного использования в лексике правоведения. Но данная ординарность мало пригодна для решения сложных юридических проблем, значимых как для преодоления пробелов в праве, так и для обеспечения единообразия в практике правоприменения.
Исходный этимологический посыл слова «смысл» связан со словом «мысль». Этот ориентир позволяет ограничить использование слова «смысл» кругом понятий, содержанием которых является идеальное. Круг идеального включает в себя такие понятия, как «значение», «разум», «рассудок», «толк», «идея», «суть», и подобные им [1, с. 14]. Эти во многом умозрительные понятия немецкий правовед ХIХ в. Р. фон Иеринг называл «несамостоятельными правовыми телами» [2, с. 346]. В ХХ в. другой немецкий ученый – Франц Быдлински указал на загадочность данных понятий, назвав их, в отличие от текста закона, словесными приписываниями с неизвестностью четко распознаваемого содержания [3, с. 198].
Процессы осмысления права берут свое начало от римских юристов. Глоссаторам (экзегетам-интерпретаторам) необходимо было понять, извлечь, осмыслить, увидеть, истолковать общие начала римского частного права в целях его практического освоения.
Изначально осмысление памятников римского права шло двумя путями. Первый состоял в объяснении глоссаторами самим себе смысла отдельных законов. Это был путь законной экзегезы (exegesa legatis), или азбуки науки права положительного. Другим был путь догматический, т. е. путь логически связного изложения целых учений, в тех же законных пределах источников [4, с. 4]. Процесс начинался в Болонской юридической школе, затем продолжился в других городах Европы. Умение толковать тексты прививалось студентам с помощью такого набора приемов, как: «читаю, анализирую, привожу примеры, указываю причины; суммирую, ищу аналогии, решаю противоречия посредством проведения различий, расширительного и ограничительного толкования» [5, p. 44–45]. Такими были первые шаги познания смысла права и его содержания, предрешившие последующее появление «общего права докторов» и одновременно относящиеся к образованию профессионального сословия юристов.
В ХIII столетии зародился путь систематического толкования с выражением основных, неизменных приемов человеческого ума, которые были названы анализом и синтезом [6, с. 5].
Познанный смысл римско-правовых конструкций впоследствии выступил одним из факторов, повлиявших на становление всей традиции континентальной юридической догматики. В более позднюю историю познания законодательного смысла вошли имена Гуго Гроция, Ф. Шлей-ермахера, Ф.К. Савиньи. Ученые не отрицали того, что закон должен излагаться ясно, однако допускали возможность его интерпретации в том числе и в практическом применении для исключения двусмысленности. Так, Ф.К. Савиньи, принимая консерватизм норм за величайшее благо кодифицированного законодательства, требовал, чтобы до приступления к кодификации были найдены руководящие основоположения, достаточно обширные для того, чтобы вмещать все богатство жизненных явлений, соприкасающихся с правовой областью [7, с. 199–200].
Научно-аналитические идеи о толковании законов, где изначально и были задействованы идеи духа, смысла, разума законов, в истории юриспруденции развивались непросто. С появлением профессионального суда адвокаты и ученые нередко становились соавторами судебных решений. Объективность таких решений часто ставилась под сомнение. Несмотря на то что толкование законов было единственным способом познания их смысла, в эпоху Просвещения под именем судейского произвола и ущемления прав человека развилось отрицательное отношение к толкованию права.
В российской практике право разъяснения смысла законов предоставлялось Сенату, но с оговорками: согласно Указу от 17 апреля 1722 г. «О хранении прав гражданских», подобное разъяснение считалось возможным только при отсутствии государя и применительно к данному делу, а не в общеобязательной форме [8, с. 189–190]. Вплоть до 1864 г. Свод законов разрешал останавливать судопроизводство, если встреченное сомнение не разрешается прямым смыслом закона.
Европейская практика XVIII в. также весьма осторожно относилась к судейскому и доктринальному толкованию законов, основанному на теориях справедливости и естественного права. Известен тот факт, как Наполеон отнесся к комментарию своего кодекса. Прочитав комментарии к нему, он воскликнул: «Пропал мой Кодекс!» [9].
Не без теоретических усилий дореволюционных юристов, не рассматривавших применение закона в отрыве от его толкования, первый нормативный образ того понятия, которое отражает общие начала и смысл законодательства, был дан в ст. 4 ГПК РСФСР 1923 г., где предусматривалась возможность суда «за недостатком узаконений и распоряжений для решения какого-либо дела» решать его, «руководствуясь общими началами советского законодательства и общей политикой рабоче-крестьянского правительства» [10, с. 198]. Тем самым идеолого-политический смысл закона, в основе которого лежало революционное правосознание, впервые оказался выведенным на уровень регулирования. Правда, в Инструктивном письме Гражданской кассационной коллегии ВС РСФСР № 1 за 1926 г. уточнялось, что в случае необходимости разрешения спорного вопроса на основании общих начал и общей политики суд должен, не ограничиваясь одной только ссылкой на эти основания, подробно изложить в решении, на какой именно общей политике правительства он основывает свое решение, так как без этого подробного изложения решение остается голословным, т. е. необоснованным, при полной невозможности проверить правильность таких общих ссылок [11].
Историческая эволюция правовых идей, лежащих в основе общих начал, позволила появиться юридически нейтральному понятию по сравнению с тем, которое было заложено в ст. 4 ГПК РСФСР 1923 г., – «общие начала и смысл законодательства». Без каких-либо изменений оно вошло в более позднее советское, а после постсоветское законодательство. Так, статьей 12 Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1961 г. предусматривалось, что в отсутствие закона, регулирующего спорное отношение, суд применяет закон, регулирующий сходные отношения, а при отсутствии такого законодательства суд исходит «из общих начал и смысла советского законодательства» [12]. Нормы со ссылкой на «общие начала и смысл законодательства» содержались также в ст. 4 ГК РСФСР 1964 г. [13], а позднее в ст. 4 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г. [14]. Во всех случаях они имели отношение к правовым ситуациям, связанным с пробелами права.
Недостатка идей в учении о законодательном смысле в его историческом движении не было. К этой тематике в свое время присоединились многие российские дореволюционные правоведы, для которых смысл законов был значим в их теориях о толковании законов. Как отмечал Е.В. Васьковский, «для обеспечения равенства всех граждан перед законом, правильного и одинакового понимания законов, их истинного смысла необходимо соблюдение правил, выработанных теорией толкования законов» [15, с. 43]. Задачу толкования ученый видел в раскрытии содержания нормы, развитии ее мысли, выяснении мысли и воли законодателя.
Характеристика деятельности по уяснению законодательного смысла в научной литературе была весьма красочной. Б.П. Распопов видел в этом процессе извлечение права «изнутри наружу» [16, с. 167]. М.М. Винавер указывал, что этот процесс, «составляющий саму душу применения норм», был, есть и навсегда останется искусством. Но это искусство в усложняющихся условиях жизни, при все более возрастающем разнообразии мотивов человеческой деятельности должно вступить в тесный союз с наукой. Наука должна пойти к нему на службу: она укажет материал и приемы для определения тех самых основных экономических, этических, социальных побуждений, из рамок которых никакое творчество выйти не может, с которым оно вынуждено будет считаться [17, с. 202]. По Г.Ф. Шершеневичу, это процесс «самонаблюдения и соединенного метода внутреннего и внешнего наблюдения». По автору в нем есть определенный элемент творчества, основанный на разрешении законодателя, но это далеко не творчество, свободное от подчинения закону [18, с. 754, 756].
Исторические суждения о творчестве и искусстве в понимании духа закона, его разума вполне симметрично дополняют современные правовые теории о толковании права, его интерпретации, конкретизации. Свое отражение они находят и в актах обобщения судебной практики [19].
Внешняя характеристика понятия «смысл законодательства» имеет множество составляющих: синтетическое, общее, ценностное, социальное, законодательное, доктринальное. Однако это множество не обеспечивает целенаправленного аналитического подхода к тематике законодательного смысла. В то время как потребность привлечения данного понятия не только к сфере восполнения пробелов в праве и толкования его норм, но и к другим случаям правоупотребления постепенно актуализируется. Как замечено в доктрине, «исходить из смысла законодательства нужно всегда, как в ситуациях, урегулированных конкретными нормами (включая и сходными), так и не урегулированных ими. Реализация норм права без опоры на принципы, цели, задачи права ведет к искажению смысла законодательства, нарушает требования добросовестности, разумности и справедливости при решении юридических дел» [20, с. 13].
Его исходное значение, на наш взгляд, выражается в том, что оно является основой юридического мышления и юридического знания. Этот бесспорный акцент заключен в самой этимологии слова «смысл», восходящей к глаголу «мыслить» [21, с. 77]. Однако пока вопрос о специфике правового мышления с опорой на смысл законодательства в процессе как правореализа-ции, так и правоприменения в качестве самостоятельного в доктрине не поднимается и не исследуется. Как следствие, непознанными оставлены логические и сущностные границы понятия «смысл законодательства».
Профессиональный (а не общеупотребительный) оборот этого понятия в правоприменении также способен влиять на единообразие судебной практики. Присутствуя в числе понятий, формирующих судейское усмотрение, понятие «смысл законодательства» способно выступить ориентиром, обеспечивающим неизбежный учет всех законодательных закономерностей, а также нравственно-этических ценностей, находящих выражение и отражение в нем.
Сегодня понятие «смысл законодательства» существует в статусе как законодательного (ст. 6 ГК РФ), так и научного. В первом случае оно выражено одним лишь термином без раскрытия. Трудности его оборота в правоприменении, конечно, существуют. Происходят они как от редакции самой ст. 6 ГК РФ, не претерпевшей никаких изменений в части использования юридиче- ского термина «законодательный смысл» начиная с 1964 г., так и от отсутствия прочей нормативной инфраструктуры, которая бы его дополняла, внося необходимую ясность. В этом отношении более практичным оказался, например, казахстанский законодатель.
Несмотря на то что гражданские кодексы России и Казахстана принимались в одно время и в их создании были задействованы одни и те же виды внешней научной поддержки [22], казахстанский законодатель пошел отчасти по самостоятельному пути. Не исключено, что это было сделано в попытке оторваться от той закостенелости, которая сопровождает законодательное понятие «общие начала и смысл законодательства».
В тексте ГК РК разделены нормы об аналогии закона и права (ст. 5 ГК РК) и введена самостоятельная норма о толковании гражданского законодательства (ст. 6 Гк РК). Согласно п. 2 ст. 5 ГК РК, при невозможности использования аналогии закона прав£1 и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства и требований добросовестности, разумности и справедливости (аналогия права). В п. 2 ст. 6 ГК РК содержится императивное правило о том, что нормы гражданского законодательства должны толковаться в соответствии с буквальным значением их словесного выражения. Ориентирами для этого служат Конституция Республики Казахстан и основные принципы гражданского законодательства. Небезынтересное дополнение содержится в п. 2 указанной нормы о том, что «при выяснении точного смысла нормы гражданского законодательства необходимо учитывать исторические условия, при которых оно вводилось в действие, и ее истолкование в судебной практике», если это не противоречит Конституции РК и принципам гражданского законодательства [23]. Тем самым законодатель учитывает разность исторических условий, оказавших в свое время влияние на содержание той или иной нормы.
Однако законодатель на этом не остановился. 6 апреля 2016 г. в Республике Казахстан принят Закон № 480-V «О правовых актах» [24]. В его структуру введена глава 13 «Акты официального разъяснения нормативных правовых актов». Как можно предположить, наличие этой главы снимает не один теоретико-практический вопрос, касающийся неясностей и различного понимания нормативных правовых актов. Как следует из закона, акты официального разъяснения нормативных правовых актов не устанавливают нормы права и не восполняют пробел в законодательстве Республики Казахстан. Официальное разъяснение нормативного правового акта дается исключительно в целях уяснения, уточнения содержания норм права, не может изменять смысл норм права и выходить за пределы разъясняемой нормы (ст. 58 Закона о правовых актах). Инициаторами разъяснения могут быть уполномоченные органы, физические или юридические лица. Условия официального разъяснения установлены в ст. 59 Закона о правовых актах: смысл подзаконных нормативных правовых актов при их разъяснении должен раскрываться в полном соответствии с Конституцией Республики Казахстан и законодательными актами. Нормы законодательных актов должны разъясняться в полном соответствии с положениями Конституции Республики Казахстан.
Время покажет, внесли ли данные нормы свой вклад в понимание того, какими средствами постигается смысл законодательства, и приблизили ли они законодательную формулу об общих началах и смысле законодательства к практике правоприменения. Но уже сегодня можно усмотреть появление нормативных ориентиров для применения судейского усмотрения при обнаружении пробела, двусмысленности, неясности в нормах права, в котором, кроме осторожного само-творчества судей в процессе правоприменения, есть четкие пределы в виде положений Конституции Республики Казахстан, актов официального разъяснения нормативных актов.
Российскому судье, столкнувшемуся с законодательным понятием «общие начала и смысл законодательства», пока сложнее. Ситуации, при которых он остается один на один с исследуемым правоотношением, отсутствующей или неясной нормой и собственным усмотрением, «запрограммированы» в ужатой временем ст. 6 ГК РФ с ее смысловой редакцией «из 1923 года». Будучи тронутой после этого периода лишь лексикой, но не содержанием и ясностью, она нуждается в разумной коррекции как применительно к практике правовосполнения, так и в тех случаях, когда без понятия «смысл законодательства» не обойтись. Немаловажным подспорьем в понимании законодательного смысла можно считать Постановление Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [25], в котором установлено, что положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права, подлежат истолкованию в системной связи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в ст. 1 ГК РФ. Но всех вопросов, относящихся к пониманию смысловых комбинаций в праве, оно, конечно, не решает.
Что касается научного понятия «смысл законодательства», то, несмотря на то что предыдущее теоретико-правовое наследие оставило современной науке определенный теоретический багаж, в современном правоведении тематика законодательного смысла не обрела достойного науковедческого уровня. Как следствие, само научное понятие «смысл законодательства» отнести к числу концептуализированных, т. е. способных выполнять логическую функцию в виде способности отражать в форме суждения или умозаключения более или менее полный итог знаний о нем как о предмете исследования, пока нельзя. Сегодняшняя самоценность этого научного по- нятия остается предопределенной тем стандартным алгоритмом, благодаря которому оно и вошло в сферу исследовательского внимания, а именно через теорию о толковании права и его пробельности. Попытки раскрыть это понятие с учетом его современной востребованности, перешагнувшей границы учения о правовосполнении, обнаруживают, что для выяснения формально-логических границ этого научного понятия необходим длинный ряд вспомогательных знаний. Кроме знаний в области гражданского права нужны также знания формальной логики, теории права, философии, языкознания, но с ясными границами их включения в содержание понятия «смысл законодательства», которое одновременно является и нормативным. Подобную проблему в свое время поднимал М.М. Винавер, оставляя открытым вопрос о том, как ввести историю, психологию, социологию в сам метод толкования. Весьма прозорливо ученый предсказывал, что «ответ на эти вопросы выходит из рамок исторической параллели» [26, с. 203], не исключая того, что когда-то придется вернуться к этому вопросу в особом исследовании.
Сегодня крайне незначительное число ученых обращаются к смыслу законодательства как научному понятию. Пока консолидированный результат их немногочисленных усилий (А.В. Слесарев, В.М. Шафиров, Ф.А. Тлегенова) выражается с помощью различных феноменов, таких как правовые декларации, презумпции, оценочные понятия, сами нормативные правила, а также различные нравственные, этические категории и правовые принципы.
Вопрос о том, какой научный инструментарий задействован при создании приведенного правила, остается открытым, как и пути дальнейшего движения к познанию сущностной стороны научного явления, именуемого смысл законодательства. По какому пути следует идти: от частных посылок в виде норм позитивного права (индукция) либо приемлем путь дедукции, берущий свое начало из общих регулятивных принципов права?
Возможно, пришло время, когда необходимо выводить проблему законодательного смысла на аналитический уровень, чтобы в ближайшем будущем его истинная сущность была доступна не только Конституционному суду РФ [27, с. 7], но и рядовым судьям-правоприменителям. Не стоит скрывать, что для последних это пока часто простой словесный шаблон.
Ссылки:
-
1. Петров Г.В. Философия смысла жизни. Псков, 2003. 78 с.
-
2. Иеринг Р. фон. Избранные труды : в 2 т. Т. 2. СПб., 2006. 545 с.
-
3. Быдлински Ф. Основные положения учения о юридическом методе / пер. с нем. Е.Ю. Самойлов // Вестник
гражданского права. 2006. Т. 6, № 1. С. 190–241.
-
4. Стоянов А. Методы разработки положительного права и общественное значение юристов от глоссаторов до конца ХVIII столетия. Харьков, 1862. 304 с.
-
5. Wieacker F. A History of Private Law in Europe with Particular Reference to Germany. Oxford, 1995. 422 p.
-
6. Стоянов А. Указ. соч. С. 5.
-
7. Винавер М.М. Из области цивилистики. Недавнее (воспоминания и характеристики) / сост. и авт. вступ. сл. А.Л. Маковский. М., 2015. 384 с.
-
8. Российское законодательство X–XX вв. : в 9 т. Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма. М., 1986. 512 с.
-
9. Рассказов Л.П. Теория государства и права: углубленный курс : учебник. М., 2015. 559 с. (Высшее образование:
-
10. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР // Вестник Университета им. О.Е. Кутафина. 2015. № 9 (13). С. 196–213.
-
11. Еженедельник советской юстиции. 1926. № 1.
-
12. Ведомости ВС СССР. 1961. № 50. Ст. 526.
-
13. Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. № 24. Ст. 406.
-
14. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик // Ведомости Верховного Совета СССР. 1991. № 26. Ст. 733.
-
15. Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов. Для начинающих юристов. М., 1997. 128 с.
-
16. Распопов Б.П. Задачи истории развития права и попытки их разрешения // Журнал Министерства юстиции. 1898. № 6. С. 149–168.
-
17. Винавер М.М. Указ. соч. С. 202.
-
18. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1912. Вып. 1–4. 805 с.
-
19. О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 // Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 2015. № 8.
-
20. Шафиров В.М. Естественно-позитивное право (проблемы теории и практики) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2005. 57 с.
-
21. Чечулин В.Л. Об этимологии слова «смысл» в русском и некоторых европейских языках // Приволжский научный вестник. 2011. № 3 (3). С. 77–79.
-
22. Осакве К. Анатомия гражданских кодексов России и Казахстана: биопсия экономических конституций двух постсоветских республик / пер. Д.А. Торкина. М., 2018. 120 с.
-
23. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) : принят 27 дек. 1994 г. : вступ. в силу 1 марта 1995 г.
-
24. О правовых актах : закон Республики Казахстан от 6 апр. 2016 г. № 480-V.
-
25. О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 26. Винавер М.М. Указ. соч. С. 203.
-
27. Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного суда Российской Федерации // Российская юстиция. 2004. № 12. С. 3–9.
бакалавриат).
Список литературы Смысл законодательства как научная и нормативная категория
- Петров Г.В. Философия смысла жизни. Псков, 2003. 78 с.
- Иеринг Р. фон. Избранные труды: в 2 т. Т. 2. СПб., 2006. 545 с.
- Быдлински Ф. Основные положения учения о юридическом методе / пер. с нем. Е.Ю. Самойлов // Вестник гражданского права. 2006. Т. 6, № 1. С. 190-241.
- Стоянов А. Методы разработки положительного права и общественное значение юристов от глоссаторов до конца ХVIII столетия. Харьков, 1862. 304 с.
- Wieacker F. A History of Private Law in Europe with Particular Reference to Germany. Oxford, 1995. 422 p.
- Винавер М.М. Из области цивилистики. Недавнее (воспоминания и характеристики) / сост. и авт. вступ. сл. А.Л. Маковский. М., 2015. 384 с.
- Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма. М., 1986. 512 с.
- Рассказов Л.П. Теория государства и права: углубленный курс: учебник. М., 2015. 559 с. (Высшее образование: бакалавриат).
- Гражданский процессуальный кодекс РСФСР // Вестник Университета им. О.Е. Кутафина. 2015. № 9 (13). С. 196-213.
- Еженедельник советской юстиции. 1926. № 1.
- Ведомости ВС СССР. 1961. № 50. Ст. 526.
- Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. № 24. Ст. 406.
- Основы законодательства Союза ССР и союзных республик // Ведомости Верховного Совета СССР. 1991. № 26. Ст. 733.
- Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов. Для начинающих юристов. М., 1997. 128 с.
- Распопов Б.П. Задачи истории развития права и попытки их разрешения // Журнал Министерства юстиции. 1898. № 6. С. 149-168.
- Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1912. Вып. 1-4. 805 с.
- О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 // Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 2015. № 8.
- Шафиров В.М. Естественно-позитивное право (проблемы теории и практики): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2005. 57 с.
- Чечулин В.Л. Об этимологии слова «смысл» в русском и некоторых европейских языках // Приволжский научный вестник. 2011. № 3 (3). С. 77-79.
- Осакве К. Анатомия гражданских кодексов России и Казахстана: биопсия экономических конституций двух постсоветских республик / пер. Д.А. Торкина. М., 2018. 120 с.
- Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть): принят 27 дек. 1994 г.: вступ. в силу 1 марта 1995 г.
- О правовых актах: закон Республики Казахстан от 6 апр. 2016 г. № 480-V.
- О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.
- Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного суда Российской Федерации // Российская юстиция. 2004. № 12. С. 3-9.