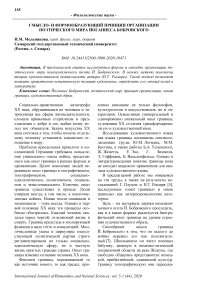Смысло- и формообразующий принцип организации поэтического мира Йоганнеса Бобровского
Автор: Мельникова И.М.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 5-1 (44), 2020 года.
Бесплатный доступ
В предлагаемой статье исследуются формы и способы организации поэтического мира немецкоязычного поэта Й. Бобровского. В основу метода положена теория художественной деятельности автора (Н.Т. Рымарь). Такой подход позволяет выявить нравственно-эстетическую позицию художника, определить его личный вклад в литературу.
Йоганнес бобровский, поэтический мир, принцип организации, опыт границы, художественный образ
Короткий адрес: https://sciup.org/170187611
IDR: 170187611 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10471
Текст научной статьи Смысло- и формообразующий принцип организации поэтического мира Йоганнеса Бобровского
Социально-нравственная катастрофа ХХ века, обрушившаяся на человека и затронувшая все сферы жизнедеятельности, сломала привычные стереотипы и представления о добре и зле, выбив почву из-под ног обывателя. Задача искусства ХХ века состояла в том, чтобы помочь отдельному человеку установить адекватное отношение к миру.
Проблема преодоления прошлого в послевоенной Германии требовала осмысления уникального опыта войны, представшего как опыт границы в разных формах и проявлениях. Целое поколение людей переживало опыт границы в географическом, топографическом, социальноидеологическом, политическом, социальном и экзистенциальном. Конечно, опыт границы существовал и прежде. Люди умирали всегда, в том числе, в многочисленных войнах. Новые земли осваивали и захватывали - тоже всегда. Однако в первой половине ХХ века эти процессы особенно обострились. Каждый человек оказался перед чертой, отделяющей жизнь и смерть. Граница предстала в изолирующей функции в виде гетто и концлагерей. Многочисленные указы и циркуляры господствующей политической партии строго регламентировали не только социальноидеологическую сферу, но и частную жизнь простых граждан страны. Опыт границы изменил сознание человека ХХ века.
Феномен границы, переживаемый то как источник нового, то как предел, при- влекал внимание не только философов, культурологов и искусствоведов, но и литераторов. Осмысливая универсальный и одновременно уникальный опыт границы, художники ХХ столетия трансформировали его в художественный язык.
Исследованию художественного языка как языка границы посвящены основополагающие труды Ю.М. Лотмана, М.М. Бахтина, а также работы Б.А. Успенского, Ж. Женетта, У. Эко, Г. Зиммеля, Э. Гоффмана, Б. Вальденфельса. Однако в литературоведении понятие границы пока не находит широкого применения для анализа художественного языка.
В предлагаемой работе мы опираемся на эти труды, а также на результаты исследований Г. Плумпе и Н.Т. Рымаря [5], исследующих «опыт границы» и «язык границы» как литературоведческие категории.
Цель - на материале лирики немецкоязычного поэта Й. Бобровского проследить, как и в каких формах реализуется биографический опыт границы на уровне строения художественного образа.
Своеобразие опыта границы Й. Бобровского в том, что он задолго до войны пережил его как положительный [7]. Школьником он часто посещал бабушку, жившую в немецко-литовской пограничной области на реке Жежупе, где свободно общались представители немецкой, прибалтийской, славянской культур. Границу топографическую они пересека- ли, но хранили границы своей культуры. Все культуры признавались равными и самобытными, ни одна культура не превозносилась и не принижалась. У каждой есть, что сказать и передать другой. Возникал диалог культур, в результате которого обогащались обе культуры. Граница выполняла свою сдерживающую функцию, не позволяя растворяться одной культуре в другой, что привело бы к утрате самобытности культуры народов.
Качественно иной опыт границы приобрел Й. Бобровский во время войны. Он был призван в качестве связиста на фронт и вскоре оказался на чужой территории в качестве захватчика. Вырванный из родной почвы, утративший свой очаг, он получает новый опыт преодоления границы. Цель перехода границы не взаимное общение на равных, а колонизация территорий, народов и культур, их порабощение и уничтожение. Опыт границы Бобровского получил еще в большей мере травматическую составляющую, представ в форме изоляции. Бобровский попадает в плен на территории России. Четыре года он работал на шахте в Донбассе. Колючая проволока, конвой, место на нарах, бирка с номером, отчуждавшая его тело как объект инвентаризации. Единственным свободным пространством оказывалась душа. В ее ведении еще остается возможность сделать последний выбор: дальше жить, несмотря ни на что или… Этот суровый опыт границы накладывался на его первый положительный опыт. Уникальный сплав опытов границы структурирует совершенно новый, эмоционально окрашенный опыт границы, ставший основанием его творчества и формообразующим принципом лирического мира поэта. Невозможность преодолеть материальную границу изоляции становится мощным импульсом к поиску способов внутреннего освобождения. Очарованный строгой красотой русской природы, он пытается найти ответ, что он делает здесь? К чему война, сооружающая между народами границы и одновременно нарушающая их? Самой главной и важной границей оказывается граница, проходящая внутри каждого в форме чувства меры. Мера вырабатывает- ся из соотношения своей системы ценностей с контекстом мировой культуры. Граница, таким образом, не только материальная форма, но и условие существования, регулятор взаимодействия вещей и людей.
В строении поэтического мира Бобровского можно обнаружить сеть пространственных координат, образующих основу и структуру лирического субъекта. Вертикаль, устремленная вверх, выражает в общекультурном контексте стремление к совершенству, к Богу. Горизонталь – стремление к развитию, вечное движение вдаль и вширь. Временная ось выражает соединение времен, временной континуум, реализуется в образе всепроникающего света.
В поэтическом мире Бобровского эта модель трансфигурируется в образ «пустой комнаты», который лейтмотивом проходит через его стихотворения, новеллы и роман «Литовские клавиры». Это не пустое место, не ничто, оно способно впустить в себя содержимое. Чем оно будет заполнено, зависит от человека – творца. Этот образ проецируется на образ разрушенной Германии после окончания войны. Именно такой нашел свою Родину Бобровский – в руинах, утратившую духовные ценности, нравственные идеалы и надежды. Но нужно было жить дальше. Жизненно необходимо найти в этом хаосе опору. Пустота царила и в душах отдельных людей, потерявших веру в слово. Из слов ничего нельзя было понять: слишком много их было сказано. Понять можно было что-то лишь из своих переживаний и личного опыта.
Опираясь на личный опыт – опыт границы – лирический герой строит свой поэтический мир в прямом смысле слова снизу, от корней («Strandgänger»).
«Noch immer
über dem Schilfland die Mittagsflamme, über der Düne noch immer nicht das Rauschen der Schwäne, noch immer das Salzkraut lautlos, die Hände im Sand». [1; S. 50]
«Все еще / над камышами / полуденное пламя, над / дюнами / все еще не / шум лебедей, все еще / соленая трава / беззвучно. / Ладони в песке.»/
«Дюны», «песок» образуют горизонтальную плоскость, сыпучую, подвижную, пустынную, но не мертвую. Здесь все в ожидании: «все еще». Здесь появляется человек, представленный лишь частью тела («ладони»). В общекультурном контексте образ ладони связан с открытостью, готовностью к диалогу. «Ладони в песке» – образ дружеского взаимодействия человека и природы. В природе лирический субъект пытается найти механику взаимодействия, в соответствии с которой следует строить взаимоотношения в социальной сфере.
Поэтический мир Й. Бобровского населяют существа и предметы, принадлежащие двум осям и как бы скрепляющие пространство в континуум. Это – «лебеди», «птицы», «листья», «плющ», «огонь», устремляющийся ввысь и расстилающийся по поверхности земли и т.д.
Но просто пейзажи не привлекали поэта. Он так определял свою художественную задачу: «Я должен вновь создать Родину во времени и пространстве, чтобы персонажи могли там жить» [2; c. 62].
Мотив встречи, узнавания, диалога – основной мотив лирики Бобровского. Лирика – это пространство, где он может вести свой диалог с Гаманом, эпохой, с самим собой. «Маг с севера» И.Г. Гаман, мастер формы Клопшток, Гельдерлин – путеводные звезды Бобровского. Однако он не берет готовые истины, поэт в диалоге с ними вырабатывает свои нравственноэстетические ценности. Опираясь на традиции и отталкиваясь от них, он пытается вслед за Гаманом, которого он называл своим учителем, вернуть слову его былую магическую силу. Вступая в диалог с Гердером, надеявшимся на победу человеческого разума, Бобровский пытается пробудить память у своих соотечественников. Мотив памяти и забвения становится одним из основных в творчестве поэта.
Образ пустого пространства страны («Wiedererweckung» [1; S. 68-69]) дополняет образ пустой комнаты значениями, и наоборот из сопоставления получает дополнительные коннотативные значения. Опустение страны переживается как утрата чего-то очень близкого, родного.
«Das Land leer».
Графическое изображение слов (каждое слово на отдельной строке) усиливает образ одиночества, опустошенности. Однако зелень, «пробивающаяся через распростертые платки» («durch ausgebreitete Tü-cher / heraufgrünt das andre, darunter – / ge-legte…»), вселяет надежду на новую зарождающуюся жизнь. «Распростертые платки» организуют горизонтальную плоскость. Образ шири, простора близок русской культуре. И в этом аспекте распростертые платки воспринимаются как покров – центральный символ русского Православия, означающий защиту Божьей матери. Так мотив зарождающейся, еще не окрепшей надежды получает поддержку.
Лирический субъект организует пространство лирического мира, тщательно и с любовью ощупывая каждую травинку, каждую дождинку («Zähl / die Gräser / und zähl / Fäden aus Regenwasser / und Licht, die Blättchen / zähl…»). «Трава», «нити дождя», «свет», «листья» образуют вертикаль, соединяя верх и низ. «Шаги», «следы» создают горизонтальную плоскость. Сложные образы – «белый голос», «холод лета», «слышимая желтизна», «зеленые голоса берега» – наполняют картину мира звуком и красками.
Образы «кровь», «ступени», «ладони», «гвозди» в общекультурном контексте отсылают к образу Христа, принявшего на себя вину всего человечества и искупившего ее своей смертью. Этот образ проецируется на духовные координаты в лирическом мире Бобровского. Фигура Христа соединяет в себе бинарную оппозицию «жизнь – смерть». Он приносит свою жизнь в жертву ради новой жизни.
Завершают стихотворение строки:
«Es ist nicht die Zeit, ihn zu fragen.
Es ist die Zeit für das Wasser an Halmen, für die erneute
Fügung der Blätter, und Augen
öffne das Laub».
«Не время спрашивать его. / Время для влаги / в стеблях для обновленных / побегов и глаза свои / распахни, листва».
Анафора скрепляет две строки, в кото- рых противопоставляются время и вода. Из их со- и противопоставления каждый образ получает дополнительные коннотации. Время, как вода, быстротечно. Насту- пает «время воды», время возрождения. Последняя строка понимается как призыв к новой жизни, к пробуждению от сна.
Аллюзия на широко известный в общекультурном контексте образ Христа позволяет рассматривать систему координат лирического мира Бобровского как проекцию на крест – символ смерти и возрождения. Функция аллюзии в данном стихотворении – расширение границы текста. Модель поэтического мира Бобровского получает, таким образом, универсальный статус, вселяющий в души читателя наде- жду на возрождение, на продолжение жизни.
Различные формы границы в разделяющей и соединяющей функциях консти- туируют особую архитектонику поэтического мира Йоганнеса Бобровского и его художественного языка. На всех уровнях поэтической реальности обнаруживается модель его мировосприятия, выводимая из деятельности субъекта и реализующаяся в архитектонике высказывания. В основании ее – вертикаль как вектор мифологическо- го мышления и залог воспроизводства нерушимого порядка. Со- и противопоставление разных мотивов и образов, пространственная организация элементов текста, выстраивание значимых оппозиций, параллелей и аллюзий – все становится языком пространственного моделирования и передачи информации, которая не передается на вербальном уровне, – языком, который может быть охарактеризован как язык границы. Анализ принципов организации поэтического мира в лирике Бобровского показывает деятельность автора в динамике становления, в нравственноэстетической направленности, в которой вырабатывается и утверждается диалог как единственный способ коммуникации.
Список литературы Смысло- и формообразующий принцип организации поэтического мира Йоганнеса Бобровского
- Bobrowski J. Wetterzeichen. Gedichte. - Berlin: Union Verlag, 1968. - 89 S.
- Bobrowski J. Selbstzeugnisse und Beiträge über sein Werk. Berlin: Union Verlag, 1966. - 233 S.
- Бахтин М.М. Проблемы материала, содержания и формы в словесном художественном творчестве // Вопросы литературы и эстетики. - М., 1975. - 497 с.
- Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализы, интерпретации, характеристики. - СПб.: Азбука, 2001. - 480 с.
- Рымарь Н.Т. Граница и опыт границы как проблема художественного языка // Граница и опыт границы в художественном языке. Материалы междисциплинарного научного семинара (2001-2002 гг.). - Самара: Самар. гуманит. акад., 2003. С. 6-23.
- Рымарь Н.Т., Скобелев В.П. Теория автора и проблема художественной деятельности. - Воронеж: Логос - траст, 1994. - 263 с.
- Мельникова И.М. Опыт границы и язык границы (на материале лирики Й. Бобровского): дисс. … канд. филол. наук. - Самара: СамГУ, 2008. - 200 с.
- Мельникова И.М. Художественное время и пространство в лирике немецкого поэта Й. Бобровского (на примере стихотворения "Hеchtzeit") // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2019. - №5-3. - С. 97-100.