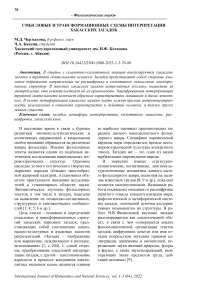Смысловые и трансформационные схемы интерпретации хакасских загадок
Автор: Чертыкова М.Д., Каксин Ч.А.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 1-3 (64), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье с семантико-когнитивных позиций анализируются хакасские загадки о трудовой деятельности человека. Загадки представляют собой спаянные языковые выражения, направленные на расшифровку и когнитивное осмысление закодированных структур. В текстах хакасских загадок встречаются лексемы, вышедшие из употребления, что свидетельствует об их архаичности. Зашифрованная интерпретация трудовой деятельности включает образные характеристики домашних и диких животных. В основе метафоризации хакасских загадок часто лежит признак антропоцентричности, реализуемый в описаниях характеристик и действий человека, а также других живых существ.
Загадка, метафора, интерпретация, когнитивное мышление, расшифровка, хакасский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/170193849
IDR: 170193849
Текст научной статьи Смысловые и трансформационные схемы интерпретации хакасских загадок
В настоящее время в связи с бурным развитием лингвокультурологических и когнитивных направлений в языкознании особое внимание обращается на различные жанры фольклора. Именно фольклорные тексты являются одним из надёжных источников исследования национальных мировоззренческих структур. Огромное наследие устного поэтического творчества тюркских народов обладает многообразной жанровой палитрой, и становится объектом пристального внимания исследователей в гуманитарных областях науки. Лингвистическое изучение фольклорных текстов, в том числе и загадок, нацелено на выявление их семантико-когнитивных, структурных и синтаксических особенностей [1; 4; 5; 6 и др.].
Цель статьи – описание и определение смысловых и трансформационных стратегий хакасских народных загадок, представляющих собой соотношение национально-культурных и языковых аспектов репрезентаций. «Загадка – изображение или выражение, нуждающееся в разгадке, истолковании» [3, с. 204]. С одной стороны, преобразование смысловой интерпретации загадок, с другой – текстопонимание адресатом в процессе восприятия имплицитных языковых кодов, являются одними из наиболее значимых прагматических парадигм данного многоаспектного фольклорного жанра. Специфика паремической картины мира определяется, прежде всего, мировоззренческой культуры конкретного этноса. Загадки же – это один из видов вербализации мировидения народа.
В тюркских языках структурносемантические, когнитивные, лингвокультурологические механизмы данного малого фольклорного жанра, несмотря на наличие известных трудов [8; 9 и др.], пока ещё остаются малоизученными. Названные работы посвящены описанию и расшифровке скрытого смысла концептуализации мира, мифологической и метафорической системы загадок, логической цепочки альтернативных компонентов их структуры. В работе В.В. Филипповой якутские загадки рассматриваются как семиотический объект, в связи с чем «совершается анализ фоносемантической организации текстов загадок, шифрующих денотат или имя отгадки посредством звуковых приемов аллитерации, анаграммы и ономатопей, передающих звуки явлений природы, флоры и фауны, а также звукоподражаний, имитирующих звуки предметов труда, действий человека» [9].
В хакасском языкознании и фольклористике тематика загадок, как малого жанра устного народного творчества, пока является незатронутой. В своей статье мы рассматриваем загадки, посвящённые традиционной трудовой деятельности хакасов. Материалом для анализа послужили загадки, собранные из сборника «Хыйға сӧс» (Мудрое слово) [11].
Одна из важных структурных особенностей загадки – это устойчивое иноскази-тельное, образное описание загадываемого объекта. В загадках обычно встречаются метафорические выражения, репрезентирующие сходные характеристики сопоставляемых объектов и их взаимосвязей. На метафорической основе лежит сопоставление двух объектов или явлений. В загадках «… один объект изображается посредством другого, имеющее с ним хоть какое-нибудь, даже и отдалённое сходство. В процессе когнитивного осмысления ассоциированного фрагмента действительности человек приходит к определённому умозаключению, т.е. расшифровывает загаданный объект» [2, с. 127].
О спаянности языковой организации свидетельствуют архаичные элементы в тексте загадок. В современном хакасском языке лексема кӧгіс почти не используется, заменяясь её однокоренным аналогом в притяжательной форме: кӧксі «грудь; грудная клетка». Однако в Хакасскорусском словаре лексема кӧгіс I представлена как многозначная: 1) грудь, грудная клетка; {…}; 2) туловище ( до пояса ); корпус, туловище ( целиком, без конечностей ); 3) перен. ум [10, с. 191]. Однако переносный лексико-семантический вариант семантической структуры данного слова «ум» в современном хакасском языке реализуется только в составе сложного слова сағыс-кӧгіс «ум». Тем самым в загадке Кӧзенегеске кӧгісче кірдім (Клÿсті замокка сухханы) – Влезает, как заведено, / По грудь в железное окно (Ключ в замочной скважине) можно отметить устаревшую лексему кӧгіс «грудь» (буквальный перевод залез по грудь).
Как показывает словарная статья, омонимичная, но также устаревшая, лексема кӧгіс II является многозначной: крик, ру- гань, ссора [10, с. 191]. Данная лексема в притяжательной форме (с аффиксом -тіг) используется в следующих загадках, имеющих аналогичную валентностную структуру: Тағ ӧтіре табыстығ, / Табылғыча кӧгістіг (Мылтых атханы) – Ростом с таволожник, а как грохнет порой, / Гром отзовётся за дальней горой (Стрельба из ружья). Сын ӧтіре табыстығ, / Хымысхача кӧгістіг (Пырғы тартханы) – Хоть ростом муравью под стать, / А за горой его слыхать (Рожок). Как видим, в этих загадках лексема кӧгістіг используется как синоним слову табыстығ «крикливый; с голосом».
Также к категории малоупотребительных относится прилагательное кӧӊдей «1) пустой; полый; дуплистый; {…}; 2) пустота; полое место; пустое пространство в нижней части юрты за сундуками; {…}» [10, с. 201]. Данное слово встречается в тексте загадки: Кӧксі кӧӊдей , кÿреезі чичен (Киме) – Грудь впалая, ход прямой (Лодка). Тем самым в загадках мы видим языковое отражение древнейшего представления этноса об окружающем мире.
Как известно, хакасы испокон веков вели полукочевой образ жизни, занимаясь скотоводством. Соответственно, фольклорная модель мира включает языковые сегменты животноводства, т.е. метафорические эквиваленты загадываемого объекта. Тем самым в загадках участвуют речевые формулы, обусловленные образными характеристиками домашних и диких животных. Чаще встречаются денотативные наименования: хой «овца», ат «лошадь», пии «кобылица», інек «корова», хуча «козёл» и др., которые заполняли традиционную хозяйственную жизнь хакасов: Чÿзел-дей апсах / Чÿс хойын чит полбинча (Талған хоорғаны) – Старик Чузелдей / Сто своих овец / Догнать не может (Поджаривание зерна для толокна). Чÿс хой аразында / Тÿгдÿр хучам ойлап чӧр (Талған хоорғаны, пулғос) – Среди ста овец / Мохнатый баран бегает (Мешалка во время поджаривания зерна для толокна). В этих загадках наблюдается образная параллель между овцами и зёрнами, используемыми для традиционной пищи – талгана. В приведённых загадках используется сочетание чÿс хой «сто овец». В данном случае число чÿс «сто» имеет символическое значение: оно выражает понятие множественности и действует на сознание адресата своей гиперболической направленностью. Крупы для национального супа (чарбалығ ÿгре) представляются в образе также ста овец: Чÿс хойым суға кірді, / Чÿстей апсах соо-наӊ кірді (Ӱгрее кӧче чарба салғаны) – Кинулись в воду сто овечек с ходу, / Чустей дед – за ними вослед (Заварка супа ячменной крупой). Ассоциативный механизм часто объединяет постоянно взаимодействующие между собой отдельные фрагменты сфер животноводства и приготовления традиционной пищи.
В когнитивной модели загадок образ лошади часто участвует скрытой интерпретации и других видов трудовой деятельности: Сарығ адым / Салаада сілігінче (Ас сарғааны) – Мой соловый конь на ветке встряхнулся (Веяние зерна). Суғзар чо-хыр адым кір парир (Сӧзірбе) – Мой чубарый конь в воду заходит (Невод). Тізі, тілі чох / Кирі хыр пии (Киндір пасханы) – Старая чалая кобыла / Без зубов и языка (Мялка). Пір ах пиидеӊ / Чÿс ах пии тӧріпче (Сиир тарааны) – От одной белой кобылицы / Сто белых кобылиц родятся (Расчёсывание воловьих жил).
В следующей загадке для обозначения процесса шитья денотативным наименованием выступает корова (інек): Кӧк інектіӊ соонаӊ / Ах інек килир (Ӏнге саптап, тік-кені) – За синею коровой снова в свой черед / Белая корова по полю идёт (Шитьё).
Различные предметы повседневного пользования в хозяйстве часто становятся объектом зашифрованного описания, способствующего логическому осмыслению их характеристик и постепенной расшифровке их кодирующего смысла: Пур-пар чорыхтығ, / Пулан-сыын табыстығ (Хол теербені) – Шумит и грохочет немало, / Трубя наподобие марала (Ручная мельница). Узун ағас пазында тоғыр ағас, / Тоғыр ағас пазында тоғыс салаа (Тырбос) – На конце длинной палки / Поперечная палка. / На конце поперечной палки - / Девять пальцев (Грабли). Кӧӊдей алтында кӧк пÿÿр чатча (Палты) – Синий волчище - / Под лавкой ложбище (Топор).
В основу метафорической интерпретации загадки заложен признак антропоцен-тричности. «Очеловечивание» предметов / инструментов трудовой деятельности кодируется лексемами, выражающими понятие человек, например, оол «парень», оолах «мальчик», хыс «девушка», апсах «старик», иней «старушка» и т.д. При этом обязательно текст загадки включает скрытые характеристики отгадываемого объекта. Пис оол сÿрізіп ойнапча (Ух сохханы) – Пять мальчиков играют в перегонки (Вязание чулок). Чазыда чалаас оол турча (Ағастыӊ хастыриин сойғаны) – Стоит поневоле / Голый мальчик в поле (Сдирание лыка). Чалаас оолах хар кÿрепче (Ағас хырғаны) – Голый мальчик снег разгребает (Скобление дерева). Ораӊдай апсахты / Пис кізі алтандырча (Пӧрік кискені) – Пяти подручным не привыкать / Старика Орандая на трон сажать (Одевание шапки). Хырых тістіг инейек (Хол теербені) – Сорок зубов у старушки (Ручная мельница). Алтон алып аар-пеер чÿгÿрісчелер (Пила) – Шестьдесят братьев / Бегают туда-сюда (Пила). Как видим, необычное переосмысление свойств отгадываемых предметов и явлений развивает логическое мышление, формирует у человека «способность образной категоризации, основанной на чётком соотнесении категориальных признаков предметов и явлений, наблюдаемых в реальности» [7, с. 132].
Антропоцентрический код загадок заключается также в определённых характеристиках и действиях человека. От чізе, тіс чох пол парча; / Тас чізе, тістіг пол парча (Сахпы) – Наестся травы – притупляется, / А камня поест – заостряется (Коса). Позы тамах чібинче, / Че пар-чох чон-ны азырапча (Салда) – Хлеба сам не ест, / Но весь народ кормит хлебом (Плуг).
В тексте загадок используются лексемы, семантика которых могут соотноситься не только с человеком, но и с другими живыми существами, например, в загадке Париза – хызыр, / Килизе – поос (Суға чӧр-гені) – Туда идёт яловый, / Возвращается стельной (Хождение по волу с ведром) прилагательные хызыр «яловый» и поос «стельная» используются только по отношению к представителям животного мира.
Имплицитное описание хозяйственной деятельности и предметов хозяйствования может вестись и от первого лица, акцентируя внимание на физиологических ощущениях: Чылығ миніӊ тонымны / Чылныӊ суурадырлар (Хой хырыхханы) – Каждый год средь бела дня / Шубу снять спешат с меня (Стрижка овцы). В данном случае загадываемый объект сам же является автором имплицитной интерпретации. Описание характеристик загадываемого объекта передаётся также с субъективных (личных) позиций, позволяющих охарактеризовать его перцептивные свойства: Туды-быссам, пір тудым; / Чазыбыссам, пір ча-зы (Сӧзірбе) – Сожму – сожмётся передо мной, / Расставлю – в поле шириной (Невод). Субъект повествования здесь обращается к незримому адресату, призывая его к логическому размышлению и отгадке заданной позиции.
При том, что метафорическое описание является наиболее распространённым способом языкового кодирования загадываемого объекта, в описываемом интерпретационном поле имеется отдельная катего- первую очередь, их благозвучный признак. Здесь зашифрованное описание предмета отличается более слабым распознаванием его характерных свойств, второстепенностью его смысловых значений. Содержание таких загадок обеспечивается комплексом звуковых конфигураций, например, Тігде тох, мында тох, / Ортызында тимір тох (Одыӊ тоорғаны) – Слева тук, и справа тук, / Посреди железный сук (Рубка дров).
Таким образом, мы рассмотрели смысловые и структурные трансформации хакасских загадок о трудовой деятельности. Загадки, как один из видов малых жанров устного народного творчества, связаны с вербализацией этнического мировоззренческого опыта с учётом ментальных и коммуникативных потребностей народа. Закодированное содержание загадки обусловлено традиционными формами жизни. В основе интерпретации загадок лежит метод метафоризации, направленной на расшифровку семантико-когнитивных кодов устойчивых языковых механизмов.
рия загадок, в которых акцентируется, в
Список литературы Смысловые и трансформационные схемы интерпретации хакасских загадок
- Журинский А.Н. Семантическая структура загадки. Неметафорические преобразования смысла. Отв. ред. Н.В. Охотина. - М.: Наука. 1989. - 126 с.
- Мухтаруллина А.Р., Туктарова Р.Г. Когнитивно-семантическая структура текста загадки (на материале английского, русского и башкирского языков) // Перспективы науки и образования. - 2017. - №6 (30). - С. 126-132.
- EDN: ZXKWOF
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеологических выражений / Российская АН, Институт русского языка; Российский фонд культуры. - М.: Азъ Ltd., 1992. - 960 с.
- EDN: RXPFXL
- Орлова О.С. Загадка как объект лингвистического исследования // Слово.ру: балтийский акцент. - 2017. - Т. 8. №3. - С. 104-114.
- EDN: YMADYO
- Николаева Т.М. Загадка и пословица: социальные функции и грамматика // Исследования в области балто-славянской духовной культуры: Загадка как текст. - М.: Индрик, 1994. - Т. 1. - С. 143-194.