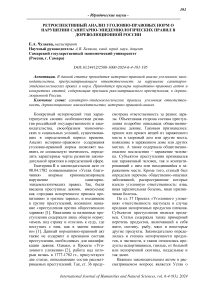Снижение доверия к полиции со стороны населения
Автор: Усманов Д.Р., Ковалв Т.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 6-4 (93), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье выявлены основные причины снижения доверия населения к полиции. Также предложены конкретные меры по повышению уровня доверия к полиции. В современных условиях защита жизни и здоровья, прав и свобод населения страны невозможно без доверия населения к правоохранительным органам. Однако, в последние годы наблюдается тенденция к снижению уровня этого доверия, что негативно сказывается на эффективности работы полиции.
Доверие населения, борьба с преступностью, сотрудники полиции, профессиональность, правоохранительные органы
Короткий адрес: https://sciup.org/170205504
IDR: 170205504 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-6-4-187-190
Текст научной статьи Снижение доверия к полиции со стороны населения
Конкретный исторический этап характеризуется своими особенностями развития российской государственности и законодательства, своеобразием экономических и социальных условий, существовавших в определенный период времени. Анализ историко-правового содержания уголовно-правовой нормы позволяет выявить ее социальную значимость, определить характерные черты развития законодательной практики в определенной сфере.
Екатерина II в законодательном акте от 08.04.1782 поименованном «Устав благочиния» впервые криминализировала нарушение санитарноэпидемиологических правил. Так, были введены преступные деяния, именуемые как «продажа испорченного припаса пропитания» и «разнос заразы», и входившие в группу преступлений, носивших название «преступления против общественного здравия» [1]. Наказания за названные преступления содержали лишь общую норму: «имать под стражу и отослать к суду, где поступать с ним, как в законе написано» [1]. Данный нормативно-правовой акт также не содержит и признаков состава преступления, необходимых для квалификации деяния. Однако, в Проекте «Уголовного уложения» [2], работа над которым велась в 1777-1782 гг., присутствуют две статьи, описывающие состав рассматриваемых преступлений. Так, ст. 36 преду- смотрена ответственность за разнос заразы. Объективная сторона состава преступления подробно описывала общественноопасное деяние. Таковым признавалось: принос или привоз вещей из зараженного места в здоровый дом или другие места, появление в зараженном доме или других местах. А также содержала общественноопасное последствие – заражение человека. Субъектом преступления признавался как зараженный человек, так и контактировавший с ним или находившийся в зараженном месте. Кроме того, статьей был определен перечень общественно-опасных заболеваний, распространение которых влекло уголовную ответственность: язва, иная заразительная болезнь, иная прилипчивая болезнь.
По ст. 37 Проекта «Уголовного уложения» ответственность наступала в случае продажи испорченных продуктов питания. Субъектом преступления являлся продавец. Статья содержала также примерный перечень продуктов, включавший в себя жито, скотину, рыбу, мясо и некоторые другие продукты. Законодательно определялась и степень испорченности продуктов, в частности, к таким относились продукты испортившиеся, гнилые, от больной или испорченной скотины, поддельные и так далее.
Важным законодательным актом в рассматриваемом вопросе является Устав о карантинах от 01.01.1833 [3]. Рассматриваемый нормативно-правовой акт устанавливал порядок действия карантинных учреждений, порядок приема и увольнения сотрудников карантинных управлений, определял перечень противоэпидемиоло-гических мер на сухопутных и морских границах, содержал положение о карантинной страже. Наиболее интересной в рамках исследуемой темы представляется глава IX данного Устава «О карантинных преступлениях, наказания за оные, и о порядке следствия и суда», содержащая группу норм, предусматривающих ответственность за распространение инфекционных заболеваний, представляющих особую опасность для здоровья населения. Глава поделена на отделения, а так же содержит деление на разряды преступлений. Важность и строгость наказания, согласно § 363, следовало определять, исходя из состояния больного в момент совершения преступления, а также от реального вреда, причиненного преступлением либо из возможного вреда. Таким образом, § 363 содержит общественно-опасные последствия, определенные для преступлений, входящих в данное отделение, а также указывает на факультативный признак объективной стороны преступления – обстановку «опасность чумного состояния, при котором совершено преступление».
Все преступления, отнесенные к группе «карантинных» и содержащиеся в первом отделении, подразделялись на 4 разряда (§ 364).
§ 365 описывает преступления, наказанием за которые являлась смертная казнь. Данные преступления квалифицировались как преступления первого разряда. К числу таковых законодателем отнесены: «1) смертоубийство, сопротивление с открытой силою, насильственными мерами, или возмущение против предохранительных распоряжений начальства; 2) насилие, причиненное карантинной страже с намерением прорваться через карантинную черту, а равно и за самовольный вход в карантинный порт судна, не остановившегося по требованиям брандвахты, если впрочем сие не последовало от особенных важных причин, как то: бури и преследо- вания не приятелей и тому подобных случаев, коих начальник судна или шкипер и экипаж были не в состоянии предотвратить; 3) умышленное зажигательство карантинных заведений и оцепленных домов; 4) лихоимство карантинных чиновников, сопряженное с нарушением устава, хотя оно и не имело никаких опасных последствий; 5) кража во время чумы из домов, находящихся в оцеплении и выморочных; 6) непредставление к отчистке вещей, оставшихся после умерших от заразы» [3] и некоторые другие.
Совершение преступлений второго разряда предусматривало ответственность в виде применения телесных наказаний, а также ссылку в Сибирь на поселение. К преступлениям второго разряда, предусмотренным § 366, относились: «1) нарушение карантинных правил и мер предосторожности во время нахождения в карантинной черте судов, людей, животных и вещей, очищаемых по одному только сомнению; 2) сокрытие больных чумой, и тайный вынос умерших на улицу» [3] и некоторые другие.
В третий разряд преступлений, определенный § 367, входили следующие виды противоправных деяний: «1) слабость надзора и беспорядки, от коих последовало только замешательство в сроках между людьми, карантинное очищение выдерживающими; 2) дозволение себе лицами, под карантинным надзором состоящими, иметь тайное сообщение внутри карантинной черты; 3) необъявление в свое время, кому следовало, о заболевших в местах, подвигнутых оцеплению; 4) торговля поношенными платьями или тряпьем, после сделанного о семь запрещения» [3]. В рассматриваемом параграфе ответственность дифференцировалась в зависимости от занимаемой должности: 1) в отношении карантинных чиновников санкция статьи предусматривала наказание в виде отрешения от должности и шестимесячное содержание под арестом; 2) «неслужащие» могли понести наказание в виде шестимесячного ареста; 3) нижние карантинные чины и люди низших званий наказывались шпицрутеном, с отдачей в солдаты или, по негодности к военной службе, с отсылкой на поселение. Также статья предусматривала индивидуализацию наказания в зависимости от самого общественно-опасного деяния и личности преступника. Так, в отношении лиц, уличенных в совершении деяния, предусмотренного п. 4 преступлений третьего разряда, и «изъятых» от телесного наказания, предусматривалась мера ответственности в виде лишения всех прав с последующей ссылкой в Сибирь на поселение. Таким образом, в § 367 субъект признавался специальным.
Преступлениями четвертого разряда признавались следующие деяния: «1) сообщение внутри карантина или карантинного порта людей, разные сроки очищения выдерживающих; 2) вход извне карантина во внутреннюю часть оного, или на карантинное судно, без позволения начальства; 3) прикосновение лица, впущенного в карантин с позволения начальства, к лицам или к вещам сомнительным, и другие подобные сим отступления от наставлений, служащих к предохранению заразы; 4) все маловажные карантинные преступления, совершенные в то время, когда в карантинной черте не было ни зараженных, ни очищенных вещей, судов, животных и людей» [3]. Согласно § 368 за совершение действий, перечисленных выше, предусматривалось наказание в виде штрафа от 10 до 100 рублей, арест с содержанием на хлебе и воде, телесные наказания, привлечение к работам в карантинной черте или к работе подобного характера.
Подводя итог, следует отметить, что стиль построения уголовно-правовой нормы существенно отличается от современного, так общественно-опасные последствия определены для всех преступлений отделения I в § 363. Последствия преступления представлены как реальный вред, а также как создание угрозы распространения инфекционного заболевания. Следовательно, составы преступлений в Уставе о карантинах 1833 года по моменту окончания сконструированы как материальные составы и составы создания угрозы.
Следующим законодательным актом, содержащим ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических пра- вил и распространение инфекционных заболеваний, является Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года [4]. Так, в указанном нормативно правовом акте определялись три отделения.
Отделение первое во многом являлось новой редакцией Уставов карантинных 1833 года, и было поименно как «О нарушениях Уставов Карантинных». Составы преступлений, содержащиеся в Уставе о карантинах, были сохранены. Однако, исключение параграфов и использование постатейного метода изложения привели к перегруппировке общественно-опасных деяний, ранее входивших в один параграф, в одну или несколько статей.
Так ст. 1007 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных полностью повторяет первые три пункта § 365 Устава о карантинах. Однако, санкции уголовноправовых норм не являются идентичными – в рассматриваемый правовой акт было добавлено наказание в виде лишение всех прав и состояний.
Санкцией ст. 1011 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных было предусмотрено наказание в виде лишения всех прав и состояний и смертная казнь в отношении лица, которое «избегая карантинного очищения, тайно пройдет каким бы то ни было образом мимо карантинов и карантинной стражи и в следствии того вступит сам, или же проведет или провезет людей, животных или вещи, очищению подлежащие, без оного в места благополучные, ... , если он или корабль или транспорт его вышли из места, где свирепствует чума» [4]. В случае, совершения тех же действий, но при разных санитарноэпидемиологических режимах, установленных в месте, из которого следовало лицо, изменяется и вид наказания. Таким образом, квалификация деяния осуществляется по средствам признака объективной стороны – обстановки. Так, «если он или корабль или транспорт его вышли из сомнительного места», то виновное лицо подвергалось наказанию в виде «лишения всех прав состояния и ссылки на каторжную работу на заводах сроком от шести до восьми лет, а будь он по закону не изъят от наказаний телесных, и наказанию плетью чрез палачей в мере, определенной ст. 21 Уложения для шестой степени наказаний сего рода, с наложением клейма» [4]. Так, если к виновному лицу были применимы телесные наказания, то они так же применялись совместно с таким видом наказания как лишение всех прав состояния и ссылка. Например, наказание такого рода могло быть применено в отношении лиц, следующих из «мест благополучных», но возможно имевших контакт с «зачумленными или сомнительными». Таким образом, дифференциация ответственности определяется степенью общественной угрозы для жителей «благополучной» территории. Следовательно, по конструкции состав преступления характеризуется как формальный. Субъект преступления – общий, так как ответственности может быть подвергнуто любое лицо, не оповестившее о своем прибытии карантинную стражу. Санкция статьи позволяет сделать вывод о повышенной степени общественной опасности, выражающейся в несоблюдении пребывающими на «благополучную» территорию установленных карантинных правил, что может в последующем являться следствием распространения массового инфекционного заболевания.
Отделение второе «О нарушениях постановлений против распространения повальных и прилипчивых болезней» содержало 10 статей. Ответственность по некоторым уголовно-наказуемым деликтам дифференцировалась в зависимости от места совершения противоправного деяния. Так, наиболее строгий вид наказания применялся к тем, кто совершил деяние «в столицах», менее строгому наказанию подвергались совершившие деяние в «прочих городах», и наименее строгое наказание было предусмотрено для совер-шихся деяние в селениях. Таким образом, в санкции статьей отражался признак объективной стороны преступления – места. Наиболее часто встречающимися наказаниями являются денежное взыскание и арест. Составы, предусмотренные вторым отделением, характеризуются как составы прикосновенности к преступлению в форме недоносительства или несообщения о преступном деянии, попустительство и укрывательство. Законодателем в отдельную часть или статью выделялись составы служебного бездействия, субъектом которых признавались – врачи, служащие полиции, содержатели гостиниц, постоялых домов и тому подобных заведений, содержатели трактиров и харчевен, женщина, осознающая, «что имеет заразительную или иную вредную болезнь, скрыв ее или умолчав о ней», устроившаяся на работу кормилицей или няней.
По ч. 4 ст. 1029 Уложения, предусматривала ответственность в отношении специального субъекта – врача, который не известил органы власти о наличии в определенном доме опасного для населения заболевания.
Особо внимание следует обратить на ст. 1032 Уложения, в соответствии с которой привлекалось к ответственности лицо, осведомленное о том, «что он одержим заразительной или иной прилипчивой болезнью, с умыслом учинить что-либо долженствующее неминуемо сообщить сию болезнь другому» [4]. Наказывалось подобное деяние помещением виновного лица в смирительный дом на срок от 3 до 6 месяцев, возложением обязанности по возмещению понесенных зараженным на лечение и иные издержки, связанные с болезнью. Также законодателем были предусмотрены и квалифицированные составы преступления, включающие в себя последствия в виде неизлечимой болезни или смерти. В случае наступления таких последствий ответственность наступала по правилам ст. 1957 и 1959 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных.
Таким образом, историко-правовой анализ криминализации нарушения санитарно-эпидемиологических правил в России позволяет сделать вывод о том, что здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения всегда являлось приоритетным направлением уголовноправовой политики российского законодателя. Обращаясь к уголовному законодательству Российской Империи, можно увидеть прогрессивные для того времени нормы об охране санитарногигиенического и санитарноэпидемиологического благополучия насе- ления. Однако, законодательством царской России не в полной мере конкретизирован перечень заболеваний, распространение которых влечет уголовную ответственность. Использовались оценочные категории заболеваний, например, такие как
«прилипчивые» и «заразительные». А сам способ построения уголовно-правовых норм отличался казуистичностью, что свойственно законодательству того времени.
Список литературы Снижение доверия к полиции со стороны населения
- Картавцев Д.А. и др. Вопросы повышения авторитета сотрудников полиции в современном российском социуме // Вопросы российского и международного права. - 2020. - Т. 10. - № 7-1. - С. 193-199.
- Павлов В. И. Корпоративная идентичность органов внутренних дел: о стратегии формирования визуальной коммуникации современной полиции (органы внутренних дел: от традиционного образа-к корпоративному стилю) // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2021. - № 3 (55). - C. 26-32.
- Пшеничнова Н.А. Ценностно-ролевая модель сотрудника полиции // сборник научных статей магистрантов и аспирантов. Вып. 11 / Научный редактор З.Х. Саралиева. - Н. Новгород: Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, 2022. - 129 с.
- Разуваев Н.В., Шмарко И.К. Невский форум: секция "Кризис доверия в современном правопорядке" (Санкт-Петербург, июнь 2021 г.) //Теоретическая и прикладная юриспруденция. - 2021. - № 4. - С. 59-69.
- Стрижченко, И.А. Общественный контроль органов внутренних дел на современном этапе / И.А. Стрижченко, Д.А. Востриков // Актуальные вопросы охраны общественного порядка и административной деятельности полиции: Материалы межведомственной научно-практической конференции, Волгоград, 18 июня 2021 года. - Москва: ООО "Издательство "Спутник+", 2021. - С. 148-151. EDN: EUDOWR