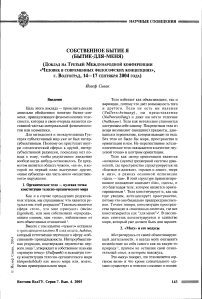Собственное бытие Я (бытие-для-меня) (доклад на третьей международной конференции «Человек в современных философских концепциях», г. Волгоград, 14-17 сентября 2004 года)
Автор: Сивак Йозеф
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 4, 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14974074
IDR: 14974074
Текст статьи Собственное бытие Я (бытие-для-меня) (доклад на третьей международной конференции «Человек в современных философских концепциях», г. Волгоград, 14-17 сентября 2004 года)
Цель этого доклада — прояснить доселе довольно обойденное понятие бытия-для-меня, принадлежащее феноменологии телесности, которая в свою очередь является составной частью материальной феноменологии или ноэматики.
Для методолога и неокартезианца Гуссерля субъективный мир уже не был интерсубъективным. Поэтому он приступает внутри «этологической сферы» к другой, интерсубъективной редукции, поскольку нет повода к тому, чтобы редуктивное движение вообще когда-нибудь остановилось. Ее предметом является область чужого, «не-я», в которой на первый план выступают другие, «иные субъекты» как часть моего «вещественного» окружения.
1. Органическое тело — нулевая точка конституции телесно-органического мира
Как и в случае предыдущих редуктив- ных этапов, мы спрашиваем: что является результатом этой редукции? Таковым является сфера «того, что мне присуще» {meine Eigenheit), или моя собственная «природа», одним словом, мое «тело», избавленное от всех объективных отношений *.
Вместе с тем изъятие «чужого» оставило
который естественно переходит в сферу «собственной» принадлежности. Интерсубъектив ная редукция, подтверждая первенство первого лица2, утверждает и собственное тело как «нулевую точку» (Nullpunkt) и исходную точку конституции телесно-органического мира (korperleiblich) как моего мира или, иначе, бытия примордиального мира.
Тело избегает как объективации, так и вариации, потому что дает возможность того и другого. Тело не есть ни явление (Nullerscheinung), ни представление ^Nullvorstellung) и даже ни нечто телесное (Nullkorper). Тело как нетелесное становится доступным себе самому. Посредством тела из вещи возникают (внешние) предметы, дающиеся в перспективе, которая выходит из тела. Без тела не было бы мира, пространства и ориентации в нем. Не-перспективное эстезиологическое тело оказывается в качестве «нулевой точки» и центром ориентации.
Тело как центр ориентации является «началом» (нулем) трехмерной системы уравнений, где пространство структурируется на «близкое и далекое», «правое и левое», «верх и низ», в рамках основной оппозиции «здесь — там». В этой структуре привилегированное положение занимает «hie», «здесь», и это благодаря телу, которое является ориентированным 3. Тело конституирует и, как мы еще увидим, антиципирует пространство, потому что оно буквально предпространствен-ное. Точнее говоря, конституция пространства проходит в «пассивных синтезах, где все конституируется как “для меня”»4. В пассивных синтезах конституируется и единство мира, который уже должен быть дан заранее.
2. «Могу» и его модусы
Абстрагируясь от своей объективирующей деятельности, я всегда могу оказывать воздействие на себя самого как на какую-то природу5, причем не оставляя свой сознательный опыт, в котором нахожусь.
Это «могу» говорит, что тело является «органом воли» и что кроме сознательного «думаю» существует и телесное сознание и знание.
«Волевое действие» (wollendes Тип) естьинте-риоризация, которая мне принадлежит. Через этот слой трансцендентальное Я приводит тело и его органы в движение и в итоге конституирует мир. В этом смысле тело есть «праинстру-мент» (Urwerkzeug) и «прадуховный предмет» (urgeistige Objekt). Все выражения, устные и письменные, ссылаются в конце концов на «внутреннюю телесность» (Innenleiblichkeit).
Само «могу» модализируется (так же, как «думаю», cogito) в зависимости от возможности, габитуса (habitus) и достигаемости тела. Я как могу, так и не могу то или другое6. Точнее говоря, я могу ощупывать руками, видеть глазами и т. д.7 Благодаря привычности, которую приобретает тело, оно, собственно, конституируется и одновременно вступает в материальный мир независимо от субъекта, который к тому же не в состоянии проникнуть в этот контекст и сделать его транспарентным.
Рамкой модализации «могу» является не «могу — не могу», а «должен — не могу», и это на уровне перцепции и «пассивных синтезов», которые в ней протекают. Эти модальности свидетельствуют, с одной стороны, о свободе телесного «могу», но с другой — о свободе, ограниченной помещением в материальный мир 8. Жизнь Я — как действующего, так и подвергающегося воздействию — всегда потрясающа. Динамика «могу» двусторонняя. С одной стороны, тело есть источник действия, а с другой — является целью различных потребностей: голод (и философ должен есть), жажда, воздух и т. д., — которые нужно удовлетворять. «Иметь потребности является для тела принципиальным, не случайным, требует постоянной заботы, и в этой заботе постоянно зависит от своего поля»9.
Кстати, потребности связаны с телесной конечностью человеческого существования. Эта конечность и смертность присутствуют во всей его жизни, с самого начала и в каждом движении. Основа потребностей является инстинктивной |0. Инстинктивные кинес-тезии свойственны телу кзк таковому.
3. Себя-воспринимающее тело. Внутренний опыт
Реализация трансцендентального и персонального Я11 вступает в новый этап. Трансцендентальное Я (так же, как и конкретное) дается и идентифицируется посредством внутреннего внимания, с которым «внимается» и горизонт вначале статически еще не обнару женных «внутренних свойств», потом временный горизонт, направленный на воспринимаемое бытие, который приносит такие неперцептивные модусы, как, например, воспоминания.
Эта конкретизация или объективизация трансцендентального Я означает системный поворот в мышлении Гуссерля в смысле возвращения на рефлексивный и эмпирический уровень — феноменологическая редукция была нерефлективным шагом познания-возвращения, которое является неизбежным 12.
Как же обстоит дело с принципиальными свойствами эйдоса, который говорит себе «я»? Может быть, конкретное «я» оказывается лишь случаем какого-то собственного идентичного Я? Гуссерль предварительно исключает теологическое решение 13 и к инкарнированному существу хочет прийти методически. Что бы получилось, если бы мы имманентные способности сознания просто перенесли на (собственное) тело?
Свое тело я осознаю посредством опыта, в котором само тело становится предметом, хотя и не в натуралистическом смысле.
Тело есть место ощущений, чувственных данных: тактильных, визуальных, слуховых и т. д. Например, моя правая рука может схватить левую, из-за чего возникает локализованное чувство. Но пока прикосновение непосредственно — ощущающее тело и ощущаемый предмет в нем даны одновременно, — остальные чувства действуют опосредованно, хотя и во взаимосвязи, создавая кинетически-тактильную систему как основу эстезиологического тела 14, что из него делает «материю прима». (Переживаемое) тело способно к деятельности, вначале спонтанной, имманентной, позже (габитуальной), наученной, являющейся основой спортивных, музыкальных достижений и т. п. «Могу» актуализируется в модальностях, некоторые из них мы уже упоминали: «двигаю», «выполняю», «произвожу».
Эстезия есть трансцендентальная размерность тела. Различие между конституци-А Т Ж гуч —х ТТ А / гл А m А -тч Z*x А А ТТ Т Т А Пглат Г А 1 Т Т TZ4 Т Ж ГЛГХТ 1 АТ* Т Ж Tt л vh iwie ^rkUivpw мДНмЬриМСНН^ И кипиш!)-ирующее) и вещи весьма контрастное. Если физические предметы находятся в пространственной перспективе, тело ощущается «неперспективно», оно «присутствует принципиально» (Я. Паточка). Однако оно достаточно видимо для того, чтобы сделать видимым невидимое трансцендентальное эго. Однако собственное тело, которое делает возможным ориентацию в пространстве и вое- приятие вещей окружающего мира, само себя видеть не может, .видит всегда только частично и никогда — в профидь *5.
Тело не находится ни в пространстве, ни между предметами, но соотносится с ними, как и они с ним |6. Осязательные и визуальные качества, «тактибилия» и «визи-билия» примордиальной природы и примордиального мира представляют собой поле исследования отдельной дисциплины — «транс-цедентальной эстетики», по Канту 17.
Система «тело — вещи» создает рамку, в которой тело действует на вещи посредством чувств, каждое из которых имеет свое поле и определяет соответствующее качество. В тактильно-кинестетическом поле находятся такие тактильные качества, как теплота, движение, боль и т. д. Это качества близости, непосредственные: «в своем теле живу непосредственно». Наоборот, визуальное поле есть поле отдаленных качеств: цвет, форма и т. п.18
Чувства не действуют независимо друг от друга, но коммуницируют между собой, создавая определенное «sensorium commune», неиерархическое «чувство чувств»19, выражаемое и в акте рассуждения.
Каждое чувство имеет свой центр в центральной нервной системе в отличие от эмоций, которые выходят из сердца, являющимся невидимым и неосязаемым внутренним органом, но при этом ощущаемым. Это целая проблематика трудно переводимого понятия Gemiit 20, представляющего духовный размер сердца.
Эмоции — не только аффективные акты, но и акты знания, причем одни невозможно отличить от других. Знание укоренено в эмоциях и наоборот. И аффекты имеют свою «симптоматологию»: например, гнев проявляется покраснением.
Если эстезия переживаемого тела диф-фузна, то эмоциональная эстезия создает инстинктивный ток тела, в котором находятся более глубокие корни и некоторые диффузные чувства (например, обоняние). Эмоциональность представляет собой силу, даю-щую возможность «само-трансцендирования», превосходящего как тело, так и душу (Н. Деп-раз). Феноменология эстезии находит свою кульминацию в феноменологии сердца, этого «второго мозга»21.
4. Нормальное и патологическое. Орфоэстезия
Потребности собственного тела говорят нам о его конечности, которую обусловлива- ют различные болезни, патологии. Я должен заботиться о своем душевном и телесном здоровье, которое ставит вопрос о нормальности и норме 22.
Нельзя не сказать, например, о галлюцинациях. Даже нормальный человек ошибается и имеет иллюзии, которые не исполняются 23. Однако галлюцинирующий субъект свое бытие в мире и свою частную жизнь переживает интенсивнее, чем нормальный. То, что их объединяет, есть (примордиальная) вера в мир24. Так собственное тело своим отношением к миру приобретает онтологический размер. Толерантность предпредикативной сферы такова, что она способна вместить и патологические явления — как галлюцинации, так и различные фикции. Проблемой является не возникновение галлюцинаций, но подтверждение восприятия, которое невозможно без действительного существования (воспринимаемой) вещи, то есть без нефальшивого (echte) внимания25.
Ненормальность может касаться как души, так и тела. Физические помехи имеют психические симптомы и наоборот. Таким образом, ненормальное оказывается конститутивной проблемой. Если отношение «нормальное — патологическое» нередуктивно, что относится к его ступеням и деривациям 26, то, по Гуссерлю, нужно вначале (методически) учредить первый член отношения, а уж потом второй, то есть патологическое рассматривать как отклонение от нормы. Гуссерля упрекали в том, что он понимает нормальное как нормативное. Этот упрек ослабляют, если не аннулируют, пассажи, в которых Гуссерль указывает на их взаимообрати-мость27. Нормальность относительна: например, дальтонизм есть аномалия, но дальтоник — нормальный по сравнению с дебилом. Подобно тому, как кто-то хотя и не выполняет абстрактные действия, способен выполнять действия конкретные28.
Феномен патологии обогащает классическую философскую проблематику смерти, зла и других негативных явлений.
5. От cogito к sum
Не было ли чистое Я инкарнировано с самого начала? 29
На основании предшествующего анализа можно ответить на классический вопрос: я есть тело или имею тело? Ответ однозначный: онтологическая размерность — свойство единого физического тела, которое является и телом органическим.
Бытие-для-меня как особый и нередук-тивный способ бытия собственного тела, это бытие в миниатюре, преставляет собой почву, на которой произрастает отношение не только к себе самому, но и к другим предметам и формам бытия30.
Отношение свободного идентичного Я к телу не является прямым, а опосредованным на различных ступенях. Свободное бытие предполагает, кроме того, распоряжение телом, которое является субъектом, имеет чувственные слои от кинестетических до целого органически-телесного субстрата как носителя собственной витальности. Я есть тело, пока я свободный. Однако я не являюсь своим телом, так как я — свободное бытие, насколько я владею своим телом. Это — фантоматический этап конституции собственного тела31. В этом смысле я есть свое тело. Однако обратное (мое тело есть мое я), уточняет Я. Паточка, не действует32.
И бытие в себе вещи является одновременно бытием-для-меня33. Вещь для меня есть вещь, которая опосредована моим телом, а не языком данного общества, вещь, данная в предпредикативном опыте как оригинальной субстрат. Вместе с тем тело в контакте с вещами «овеществляется», до определенной меры становится предметом, телом в третьем лице.
Мир для меня как бытие-для-меня мира (который имеет собственное бытие) — это мир, который ограничен моим действием34. Это мир моей чувственности или витальной практики, мой Lebenswelt. Конститутивное эго одновременно изменяется аперцептивно на внутримировое бытие (конституированного) мира. Мир для меня является опять же определенной апрезентацией мира в целом, и одновременно это сфера, которая содержит психофизическое Я посредством тела. Бытие для меня недостаточно для создания мира: как минимум, еще требуется бытие в мире. Это — первый слой архитектоники Гуссерля.
Самой главной аппликацией является бытие для меня другого, ведь к интерсубъективной редукции Гуссерль приступил из-за него. Тело другого принадлежит телесному миру, но опыт с ним не является первоначальным. Но и опыт себя самого не всегда оказывается первоначальным: например, прошлое Я, воспоминания в рамках внутреннего сознания времени уже представляют определенное отчуждение, и их нужно переживать снова. Опыт с другим может быть таким непрямым опытом, опирающимся на тело-предмет, которым является другое живое тело, очутившееся вблизи меня, сигнализируя об определенном поведении тела. Если такое поведение подтвердится в продолжающемся опыте, то перед нами действительный организм, а не кукла. То самое инкарнированное Я является телом в своем «тут», однако физически — в своем «там».
Конституция другого являлась и является одной из наиболее дискуссионных проблем феноменологии35. Объяснение этого бытия предпологало бы выяснение социальных актов. Окружающие люди как бытие для меня представляют второй слой упомянутой архитектоники.
Этот слой — последний? Если можно говорить о слое, когда Гуссерль постоянно подчеркивал, что конституция внутри материальной феноменологии осуществляется на фоне трансцендентального. Следовательно, можно говорить и о бытии для меня абсолютного? На основании вышесказанного слова о том, что перцепция создает вещь абсолютно как бы из «мяса и кости» (leibhaff), возможно, более не являются метафорой. Может ли нас модус тела приблизить к абсолютному, что было до сих пор предметом исключительно интуиции? Если невозможно из телесной сферы исключить абсолютное, можно ли считать, что оно изначально телесное? Существует ли благодаря телу самоданность абсолютного по сравнению с самоданностью предмета?36
Вместо заключения: тело как «людской прото-тип»
На другую часть ранее поставленного вопроса также можно ответить положительно: не только я есть тело, но и я имею тело. Я — то, что имею, но я — не оно, а то, что мне позволяет доступ к тому, чем я не являюсь, но могу это иметь. Кроме того, можно сказать, что тело имеет меня, что оно меня определяет37. Результатом этого является са-моотчуждение, которого нельзя избежать и которому способствует временность свободного бытия. В свою очередь эта временность дает возможность обращений как в сфере поступков, так и онтогенеза: с телом и телесностью связана «первичная историчность». И воля зависит от собственного действия («fiat») тела. С точки зрения включения моего тела в пространство и время тело есть прап-рактика, Urpraxis38.
Тело, этот «прото-тип» человека, является смесью бытия и действия. Однако в этой смеси гораздо больше бытия, чем действия, что в не меньшей степени относится и к человеку как вторичному творцу 39.
Список литературы Собственное бытие Я (бытие-для-меня) (доклад на третьей международной конференции «Человек в современных философских концепциях», г. Волгоград, 14-17 сентября 2004 года)
- Patočka J. (Паточка Я.) Úvod do Husserlovy fenomenologie//Filos. čas. 1966/5. S. 573-574.
- Housset E. Husserl et énigme du monde. Paris, 2000. P. 215