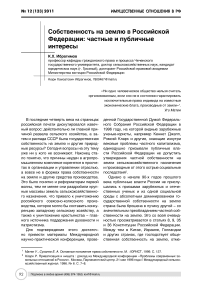Собственность на землю в Российской Федерации: частные и публичные интересы
Автор: Ибрагимов Кюри Хамзатович
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Земельный вопрос
Статья в выпуске: 12 (123), 2011 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи рассматривает проблемы соотношения интересов общества и власти в процессе формирования и реализации пореформенного земельного законодательства России. Анализирует ошибки, совершенные ре- форматорами первой волны из-за игнорирования интересов населения, пренебрежения собственным исто- рическим опытом и прямого заимствования западных ценностей. Предлагает меры гармонизации частных и публичных интересов при регулировании отношений собственности на землю.
Земельное законодательство, сельское хозяйство, частная собственность, продовольственная безопасность, соотношение публичных и частных интересов
Короткий адрес: https://sciup.org/170152138
IDR: 170152138
Текст научной статьи Собственность на землю в Российской Федерации: частные и публичные интересы
«Ни одно человеческое общество нельзя считать организованным, если оно не в состоянии гарантировать исключительные права индивида на известные экономические блага, производные от земли»1.
Уго Матеи
В последние четверть века на страницах российской печати дискутировался извечный вопрос: действительно ли главной причиной развала сельского хозяйства, а затем и распада СССР была государственная собственность на землю и другие природные ресурсы? Сегодня вопросы на эту тему уже ни у кого не возникают. Наконец стало понятно, что причины неудач в агропромышленном комплексе коренятся в просчетах в организации и управлении отраслью, а вовсе не в формах права собственности на землю и другие средства производства. Это было понятно и реформаторам первой волны, тем не менее они раздробили крупные массивы земель сельскохозяйственного назначения, что привело к уничтожению российского совхозно-колхозного производства, которое могло бы составить конкуренцию западному сельскому хозяйству, а также к уничтожению крестьянства – главного источника поддержания духовности и патриотизма.
Для подтверждения этого достаточно привести материалы Международной научно-практической конференции, прове- денной Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в 1996 году, на которой видные зарубежные ученые-юристы, например Кеннет Джапп, Рэмсэй Кларк и другие, знающие изнутри вековые проблемы частного капитализма, единодушно призывали публичные власти Российской Федерации не допустить утверждения частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения и производные от этого острые социальные последствия2.
Однако в начале 90-х годов прошлого века публичные власти России не прислушались к призывам зарубежных и отечественных ученых и из одной социальной среды с абсолютным доминированием государственной собственности на землю страна была брошена в пучину другой – со значительным преобладанием частной собственности на землю. Это со всей очевидностью просматривается в статьях 8, 9, 35 и 36 Конституции Российской Федерации. Между тем в Китае, Израиле, Голландии и других странах, где господствует общественная собственность на землю, отме- чается высокий уровень развития сельскохозяйственного производства. В недрах советского социализма также было немало совхозов-миллионеров, возглавляемых рачительными руководителями, которым мог бы позавидовать любой западный фермер. Вопреки увещеваниям ученых, «реформантами» было уничтожено промышленное и сельскохозяйственное производство страны, поскольку они считали его планово управляемым и зарегулированным государством.
Этот миф развенчивает ученый А.А. Зиновьев, проживший более 20 лет на Западе: «Я в своих работах сравнивал степень контролируемости хозяйственной жизни в Советском Союзе с Западной Германией и с США. Оказалось, что на Западе контролируемость, плановость, которую до сих пор высмеивают наши либералы, в несколько раз выше, чем была в Советском Союзе. И сейчас то же самое. Наши экономисты до сих пор твердят о необходимости ухода государства из экономики... Это грубейшая ошибка. На Западе государство никогда не уходило из этой сферы. И сейчас над государственными учреждениями возникла целая система новых, контролируемых западным миром структур. Это уже сверхгосударство. И это «сверхгосударство» с помощью огромных денежных средств осуществляет разгром Советского Союза. По существу, затратив миллиарды долларов, была куплена вся советская «элита». … Сам факт прихода к власти Горбачева, а затем Ельцина, вся их деятельность – это не результат некоего имманентного развития советского общества, а итог планомерной, целенаправленной деятельности мощной системы сверхгосударственности Запада. … Но пока главное мировое зло – это частная собственность. И если человечество его не преодолеет, оно погибнет», – резюмирует А.А. Зиновьев [4].
Именно формированию в России частной собственности было уделено основное внимание Б. Ельцина. «Реформы» на селе Ельцин, как известно, начал с ликвидации такой формы организации аграрных предприятий, как колхозы, – отмечает В.Л. Ске- рис. Воспитанному на перлах советской пропаганды, убежденному борцу за повсеместное торжество частной собственности, ему, как, впрочем, и другим нашим «реформаторам», было невдомек, – считает он, что термин «колхоз» означает всего лишь «коллективное хозяйство» и что такое хозяйство по определению, в отличие от совхозов, является отнюдь не государственным предприятием, а частным. Получилось так, что в реформантском угаре была «пущена под нож» одна форма частных предприятий в угоду другим. В результате базировавшееся на такой форме предприятий наше сельское хозяйство оказалось в организационном вакууме, принадлежавшие распущенным колхозам техника и иные производственные фонды оказались бесхозными, растащены или приведены в негодность, а огромные массы бывших колхозников – фактически безработными [5].
В итоге в России образовались противоречия публичного и частного интересов, которые в значительной степени ограничивают развитие агропромышленного производства страны, серьезно подрывают продовольственную и иные виды безопасности населения и в ближайшие годы могут явиться причиной негативных социальных процессов. Об этом недвусмысленно предупреждают и многие другие ученые, писатели, журналисты (см. например [24–27]).
Для выяснения природы этих противоречий целесообразно посмотреть на историю России глазами ученых. Как отмечает в своем докладе профессор Принстонского университета Екатерина Правилова, если существует общество, то у него должна быть и общественная собственность, то есть своя сфера компетенции. Однако на протяжении всего XIX века именно царское правительство зачастую оказывается защитником принципа частной собственности от притязаний слишком амбициозных общественников. Защищая незыблемость частной собственности, самодержавие тем самым проявляло свое нежелание делиться властью с обществом [6]. Чем это закончилось для России в начале XX века, хорошо известно: многочисленные бунты, мятежи и революции (1905–1907 годы).

Очевидно, что именно эти социальные потрясения и вынудили царское самодержавие отказаться от ортодоксального следования курсу частой собственности. Подтверждением этому является воспоминание очевидца тех событий – правового либерала В.А. Маклакова: «Нельзя учиться плавать в открытом море; для этого и есть маленькие бассейны, шестидесятые годы (XIX столетия. – К.И. ) со своими бассейнами и особенно 1905 г. со своей Госдумой поставили перед русским обществом такие бассейны, в которых мы могли научиться плавать. В этом и был выход из ложного круга, но нам хотелось сразу моря, а власть жалела и о бассейне»3.
В своей новой работе профессор Университета Пенсильвании Питер Холквист поставил задачу показать, до какой степени деятельность царских чиновников накануне революции 1917 года предвосхищала многие подходы, применявшиеся впоследствии большевиками. В результате он обнаружил, что сотрудники Главного управления земледелия и землеустройства (далее – ГУЗЗ) царского правительства прямо заявляли о своем неприятии частной собственности и рыночных отношений (олицетворявшихся фигурой земельного спекулянта) не во имя революции или марксизма, конечно, но во имя государственных интересов и рационального хозяйствования. Не секрет, отмечает Холквист, что в 1916 году царский министр сельского хозяйства подготовил секретный план, предусматривавший конфискацию земель крупных русских помещиков, использовавших свои владения недостаточно эффективно [6]. На необходимости заимствования у царизма всего прогрессивного настаивал и В.И. Ленин: «Мы переняли от царской России самое плохое, бюрократизм и обломовщину, отчего мы буквально задыхаемся, а умного перенять не сумели»4. И далее, вероятно под очевидным влиянием положительного опыта упо- мянутого ГУЗЗ, Ленин постановляет: «Мы ничего «частного» не признаем, для нас все области хозяйства есть публично-правовое, а не частное»5.
Этот краткий исторический обзор показывает, что незнание или игнорирование собственного исторического опыта становления соотношения публично-частных интересов может привести к повторным трагическим ошибкам, подобным тем, которые были совершены на заре реформ в начале 90-х годов прошлого столетия. Так, 14 июня 1992 года Президент Российской Федерации, минуя парламент и игнорируя мнение населения, издал Указ «Об утверждении порядка продажи земельных участков при приватизации государственных и муниципальных предприятий…» [23], «открывший широкую вседозволенность частной собственности на землю. Этим указом был утвержден простой и эффективный механизм покупки почти любого земельного участка, который, по мнению экспертов, должен был быстро и масштабно возродить в России право на земельную частную собственность. Документом не предусматривались какие-либо ограничения для лиц, выступающих в роли покупателя земли. Ими могли быть юридические и физические лица (включая иностранных лиц и лиц без гражданства), которым в соответствии с существующим законодательством разрешено участие в приватизации. По мнению экспертов, с появлением указа частная собственность на землю в России ограничивается лишь запретом на приватизацию земель общего пользования в населенных пунктах, а также заповедников, земель историко-культурного наследия, зараженных участков и участков, находящихся во временном пользовании. Сохраняется традиционный запрет на приватизацию земель, предоставленных для «ведения сельского хозяйства» и «использования недр» [9].
Таким образом, названным указом было положено начало противоречий между интересами большинства бедного постсоветского населения России и хищническими интересами вдруг взращенных по наставлению Запада нуворишей, скупавших указанные земли (а с 2001 года и сельскохозяйственные угодья) в основном для спекулятивных целей. Такое решение публичной властью было принято вопреки интересам абсолютного большинства населения, что подтверждается результатами, например, референдума, проведенного в Башкортостане в 1995 году. Как отмечает К. Шахвалиев, на вопрос референдума: «Должна ли земля в Республике Башкортостан быть объектом неограниченной купли-продажи?» ответили «нет» 1 миллион 754 тысячи человек. Это составило 84,4 процента от граждан республики, принявших участие в голосовании. За куплю-продажу высказались 279 тысяч человек, или 13,5 процента. Всего же в решении вопроса о земле приняли участие более 73 процентов жителей республики, имеющих право голоса. Не случайно референдум в Башкортостане, – как далее отмечает К. Шахвалиев, – вызвал откровенное раздражение проправительственных кругов, пытающихся прибрать к рукам землю – главное богатство страны. Это вынудило тогдашнего Президента Республики Башкортостан М. Рахимова сделать заявление: «Нельзя допустить массового бесконтрольного отчуждения земель, подрыва основ агропромышленного производства и превращать землю в источник незаконных накоплений» [10]. Нетрудно догадаться, что аналогичные результаты голосования с некоторыми отклонениями были бы получены и в других регионах России.
Как отмечено в распоряжении Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 1292-Р «Об утверждении Концепции развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения…» «общая площадь невозде-лываемых сельскохозяйственных земель более чем в 4 раза превышает площадь обрабатываемой пашни. … В большинстве субъектов Российской Федерации продолжается снижение плодородия этих земель. … Почвенный покров, особенно сельскохозяйственных угодий, подвержен деградации и загрязнению, теряет устойчивость к разрушению, способность к восстановлению свойств и воспроизводству плодородия» [11].
Если согласно указанному распоряжению в 4 раза увеличить площадь пашни, которая по состоянию на января 2009 года согласно «впервые подготовленному» докладу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «О состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения» составляла 115,3 миллиона гектаров6, то площадь невозделываемых сельскохозяйственных земель России составит внушительный размер – 461,2 миллиона гектаров, или 26,9 процента от общей площади земельного фонда страны. Это на 58,9 миллиона гектаров превышает всю площадь земель сельскохозяйственного назначения. К такому печальному итогу страна пришла в результате перевода огромных территорий земель в частную собственность, то есть в собственность лиц, которые в преобладающем большинстве являются некомпетентными, а зачастую и недобросовестными землевладельцами.
Аналогичную, но более ужасающую для биосферы Земли картину мы наблюдаем теперь уже и на землях лесного фонда. «Все началось еще в 2000 году, когда Федеральную лесную службу попросту ликвидировали, растворив ее в Министерстве природных ресурсов Российской Федерации», – считает научный руководитель Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук Александр Исаев. «У службы, – утверждает А. Исаев, – отняли законодательную инициативу, контрольные функции. 80 тысяч лесников по всей стране были уволены. В результате оказалось, что следить за лесами некому. Ученый напомнил, что нынешняя редакция Лесного кодекса разре-

шает долгосрочную аренду лесных угодий, в результате чего леса начали переходить в частные руки, что также ведет к отсутствию должного квалифицированного контроля» [13].
Вопреки здравому смыслу земли сельскохозяйственного назначения подвергли массовой приватизации, из-за чего большинство их оказалось в собственности нерадивых хозяев. Как отмечал еще в 1999 году профессор-фермер В. Ожерельев, «Реформы в стране недоделанные, нет главного – движения земли от неэффективного собственника к эффективному, нет закона, чтобы выкупить землю у тех, кто ею тяготится или не хочет работать. Еще и потому у нас в селе разбой и бедность» [14]. Мы видим, что спустя 12 лет после такого неутешительного вывода на селе ничего не изменилось. Правда, по мнению И. Снегирева, в стране начинается новый земельный передел. И частник, вложивший в землю деньги и пот, в очередной раз рискует остаться у разбитого корыта [15], точно так же, как и члены, выбывающие из сельскохозяйственных кооперативов, которых не устраивают многие законодательные акты, в частности Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации», который, по словам председателя координационного совета Союза землевладельцев России В. Башмачникова, «фактически снова вводит в стране институт крепостного права. Дело в том, – поясняет В. Башмачников, – что в законе заложен пункт, в соответствии с которым собственник земельного пая в случае выхода из кооператива может претендовать лишь на денежный эквивалент, что лишает собственника выбора» [17]. Такого «крепостничества» удалось избежать, например, в Украине, где каждый член коллективного сельскохозяйственного кооператива согласно Указу Президента от 10 ноября 1994 года № 666/94 «О неотложных мерах по ускорению земельной реформы в сфере сельскохозяйственного производства» имеет право выйти из него и получить бесплатно в частную собственность часть земли.
Из-за несовершенства земельного законодательства сложилась такая ситуация, когда государство, хотело оно того или нет, обмануло население, предоставив ему на основе обвальной приватизации земель совхозов и колхозов земельные участки, но не обеспечив его другими средствами и возможностями производства, которые, кстати, обещало. Перечень того, какую помощь согласно законодательству государство должно оказать товаропроизводителю для эффективного аграрного производства, занял бы не одну страницу.
Приведу пример: один мой знакомый имеет законно предоставленный для садоводческих целей земельный участок, за который в течение ряда лет уплачивал по 6 тысяч рублей в качестве взносов. Отсутствие оросительной воды в канале и охраны от воров и потравы скотом, помимо того, что препятствовали получению какой-либо отдачи от его труда и затрат, приносили большое моральное разочарование. Его терзает отнюдь не потеря даже этих немалых денежных средств, а пренебрежение его самоотверженным трудом на земле. Аналогичных ситуаций в стране множество. Они порождают правовой нигилизм населения, которое, в свою очередь, стремится обмануть государство следующим образом:
-
• использовать земли не по целевому назначению;
-
• использовать земли неэффективно, обеспечивая мизерные урожаи при малых затратах, как говорится, только «для отвода глаз»;
-
• не регистрировать должным образом земельные участки и тем самым избежать земельного контроля, уплаты налогов и т. д.
Например, в 2009 году бывший колхоз, ныне ЗАО «Рассвет», продал трем москвичам участок земли размером 97 тысяч 169 квадратных метров на территории музея-заповедника «Бородинское поле». Эта сделка была вполне законной, однако люди, которые приобрели землю в частную собственность, имели одно единственное право – ее возделывать. Ни о каком частном строительстве на заповедной земле и речи быть не может. Однако в 2010 году владельцы угодий начали возводить на купленных участках двухэтажные деревянные дома. И это далеко не первый случай [19]. Понятно, что эти дома на «элитных землях» правонарушителями строятся не для личных нужд, а для реализации населению по очень высокой цене.
К сожалению, сбылось и опасение губернатора Московской области (где земельные противоречия проявляются наиболее рельефно) Б. Громова, высказанные им в 2000 году: «Да, у нас в Подмосковье немало крепких хозяйств, которые хотели бы развернуться, укрупниться – в общем, прикупить себе для производства земли. С другой стороны, есть в регионе и «лежачие» совхозы, где давно уже не сеют и не пашут. Земля зарастает бурьяном, – с сожалением отмечает он. Дело в том, что крепкие хозяйства, имеющие прибыль, не располагают такими оборотными средствами, чтобы купить землю. Боюсь, она достанется толстосумам, которые ничего толкового с ней сделать не смогут» [20]. Спустя 10 лет мы видим, что это пророческое предупреждение Б. Громова сбылось. Земли Московской области в своей массе стали объектом спекулятивных операций. Преобладание торгашеских настроений в обращении с землями у россиян сформировалось по той причине, что у Запада безоглядно и вдруг было заимствовано стремление к высокому уровню жизни. Но не были переняты многочисленные, сформированные веками нравственные принципы, ориентирующие население на правильный выбор способов обогащения, уважительное отношение к чужой собственности, признание приоритета общественных интересов перед частными, сохранение земли и ее богатств для будущих поколений, наконец, на бережное отношение к природе.
«Да, недостатки (в работе советского сельского хозяйства. – К.Х.) были, – отмечает «Экономическая газета». Но чтобы их изжить, надо было – это наша точка зрения – идти вперед. А «ельцинисты» шмякнулись назад, в капитализм-феодализм, в частную собственность. В том числе и на землю...» [21]. У них не хватило ни мудрости, ни патриотизма, ни гордости следовать тому самому советскому социалистическому курсу (который, кстати, их взрастил, выхолил и выпестовал), выведшему Китай на самые передовые рубежи экономики и социальной жизни и обеспечившие стране уважение всего мира. Уместно привести выдержку из выступления высокопоставленного лидера китайской компартии в изложении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.А. Кравца – делегата конференции в Китае: «всеми успехами и достижениями китайский народ обязан верности марксизму-ленинизму. И все наши промахи и неудачи связаны с отступлением от него. Но марксизм-ленинизм не догма, он должен развиваться. В Китае его развивали Мао Дзэдун, Дэн Сяопин и продолжает развивать теперешнее руководство» [22].
В завершение статьи приведем слова А.А. Зиновьева: «Не думайте, что люди вольны выбирать. Фактически ни одно значительное социальное событие в мире сейчас без ведома того западного сверхобщества, метрополия которого находится в США, не может произойти. … Надо быть реалистом. Их (коммунистов. – К.Х. ) просто не допустят к власти» [4].