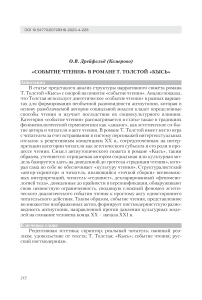«Событие чтения» в романе Т. Толстой «Кысь»
Автор: Дрейфельд О.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (67), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен анализ структуры нарративного сюжета романа Т. Толстой «Кысь» с опорой на понятие «событие чтения». Анализ показал, что Толстая использует диегетическое «событие чтения» в разных вариантах для формирования необычной разновидности антиутопии, которая в основу разоблачаемой автором социальной модели кладет определенные способы чтения и изучает последствия их социокультурного влияния. Категория «событие чтения» рассматривается в статье также в традициях феноменологической герменевтики как «диалог», как эстетическое событие автора и читателя в акте чтения. В романе Т. Толстой имеет место игра с читателем за счет встраивания в систему персонажей интертекстуальных отсылок к рецептивным концепциям ХХ в., сосредоточенным на интерпретации категории читателя как эстетического субъекта и его роли в процессе чтения. Смысл антиутопического сюжета в романе «Кысь», таким образом, уточняется: отрицаемая автором социальная или культурная модель базируется здесь на доведенной до гротеска «традиции чтения», которая сама по себе не обеспечивает «культуру чтения». Структуралистский «автор-скриптор» и читатель, являющийся «точкой сборки» всевозможных интерпретаций, читатель-«гедонист», декларированный «феноменологией тела», доведенные до крайности в персонификации, обнаруживают свою ценностную ограниченность, сводящую сложный феномен эстетического диалогического события чтения к простому акту одностороннего читательского действия. Таким образом, событие чтения, представленное во множестве изображенных актов, формирует постмодернистскую разновидность антиутопии, направленной против давления культурных моделей на сознание человека конца ХХ - начала XXI в.
Рецептивная эстетика, скриптор, реальный читатель, наивный реализм, удовольствие от текста, т. толстая, «кысь», событие чтения, русский постмодернизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149144355
IDR: 149144355 | DOI: 10.54770/20729316-2023-4-226
Текст научной статьи «Событие чтения» в романе Т. Толстой «Кысь»
ХХ век был отмечен появлением значительного количества концепций, посвященных определению сути эстетического акта и описанию эстетического взаимодействия между автором, героем и читателем. При наличии многих авторитетных концепций (Р. Ингардена, В. Изера, Р. Яусса, Р. Барта, В. Набокова и др.) рецептивная составляющая творческого процесса и место читателя в эстетической коммуникации – аспекты, до сих пор требующие дополнительного описания и внимательного изучения. Рассмотрение такого художественного произведения, которое показывает читателя в изображенной автором реальности в качестве персонажа, дает основания не только для теоретической рефлексии так называемых мета-литературных явлений, но и для построения историко-литературных моделей, описывающих существование и развитие сюжетного мотива чтения в диахроническом аспекте в соотношении с определенными культурными парадигмами и периодами, а также жанрами (на это указывали Н. Ковтун и О.Н. Турышева [Ковтун 2014; Турышева 2010]).
Жанр романа Т. Толстой исследователи часто определяют как «антиутопию» [Грешилова 2017, 34]. Традиционная антиутопия показывает противостояние между человеком и искусственно ограничивающей его «социальной реальностью» [Козьмина 2012]. «Социальная реальность», как правило, является в антиутопии «идеологической» – то есть она основана на неких экономических, политических, социальных или этических идеях, принятых ради устойчивости и социальной стабильности данной «социальной реальности» в качестве обязательных для всех членов общества «законов».
Одним из основных сюжетообразующих элементов антиутопии является образ героя-читателя. Герой, уединяющийся для чтения или письма (книг, дневника или послания потомкам, как герой романа Оруэлла «1984»), наделен развитым индивидуалистическим сознанием, и чтение как акт приобщения к культурно-исторической парадигме (отрицаемой или запретной в «действительности «после дня Х ») помогает открыть герою-читателю замкнутость, односторонность, ограниченность декларированной как «гармоничная» социальной системы и способствует трансформации героя-читателя в человека, бунтующего против системы.
Мы хотели бы обратиться к той взаимосвязи, которую Т. Толстая устанавливает между чтением героев-читателей как «событием о котором рассказывается» и «событием самого рассказывания», формирующим сюжет и определяющим жанр (по мнению М. Бахтина) [Бахтин 1975, 403–404]. Мы предполагаем, что Толстая использует диегетическое «событие чтения» в разных его вариантах для формирования необычной разновидности антиутопии, которая в основу разоблачаемой автором социальной модели кладет определенные способы чтения и изучает последствия их социокультурного влияния.
Категория «событие чтения» рассматривается в статье на разных уровнях: во-первых, событие чтения – это элемент диегетической реальности: персонаж, читающий художественные тексты, вступает в определенные отношения с читаемым. Чтение художественных текстов описывается в феноменологической герменевтике (работы М. Бахтина, Г.-Р. Яусса, М. Мамардашвили и др.) как «диалог». Чтение как «некоторый акт случа-ния, внутри которого мы оказываемся» [Мамардашвили 1995, 389] понимается этими учеными как феноменологическое и эстетическое со-бытие автора и читателя в акте чтения: «Событие жизни текста – его подлинная сущность – развивается на рубеже двух сознаний, двух субъектов» [Бахтин 1979, 301]. Соответственно, референтное (рассказанное) событие жизни героя-читателя может реализоваться как диалогическое со-бытие (встреча) автора и читателя.
Во-вторых, «событие чтения» рассматривается в плане «события самого рассказывания» [Бахтин 1975, 403–404.], в этом аспекте оно отличается выделенностью, характерной для перехода мира или сознания от одного состояния к другому. Событийность чтения в этом аспекте состоит в том, что оно оформляет некий уникальный бытийный опыт, превращая его в универсальный опыт в нарративе [Тюпа 2013, 36].
Художественный мир романа «Кысь» организуется вокруг главного героя (Бенедикт), который, являясь героем-читателем, сопоставлен целому ряду других читающих героев (Варвара Лукинишна, Кудеяр Кудеярыч, Федор Кузьмич, люди, хранящие книги).
Первым событием в романе является пороговая для сознания Бенедикта (героя, относительно которого совершаются главные сюжетные события) жизненная ситуация, представленная на нескольких уровнях. Во внутреннем мире героя это событие связано с отстранением – от себя, от мира, от Другого:
Смотришь на людей <…> словно впервые видишь, словно ты другой породы али только что из лесу вышел, али наоборот в лес вошел. И все тебе в диковинку, в скучную диковинку [Толстая 2002, 52].
На этом этапе момент внутреннего изменения, рефлексии героя (взгляда как бы «со стороны» на себя и мир) связывается им с индивидуальным страшным мифом – мифом о Кыси, которая «в спину смотрит»:
Вот, опять…Опять в голове раздвоение какое-то. То все было просто, ясно, счастливо, мечты всякие хорошие, а то вдруг кто сзади подошел да все это счастье из головы и выковырнул… Как когтем вы-нул…Кысь это, вот что! Кысь в спину смотрит!!! [Толстая 2002, 98].
Юношески-максималистическая хандра сменяется в Бенедикте необходимостью самоосознания, попытками задать философские вопросы о сущности бытия, его физическом и метафизическом смысле, нащупыванием пути романтического поиска мечты, любви, фантазии, утопии:
И тревога холодком, маленькой лапкой тронет сердце, и вздрогнешь, передернешься, глянешь вокруг зорко , словно ты сам себе чужой : что это? Кто я? Кто я?!… [Толстая 2002, 56].
Изменение этого героя связано также с познанием красоты как «гения», с постижением ее сладкой, страшной тайны (в «волшебном видении» возлюбленной как воплощения «тайны» и «света»: «То вот Оленьку представишь нарядную, белую, неподвижную, аж под ложечкой засосет» [Толстая 2002, 57]); с переживанием вполне тютчевской «ночной бездны» и «равнодушной природы».
Важным следствием этого изменения является новое знание о сущности художественного слова: герой-переписчик вдруг осознает, что тексты, которые он переписывает и которые дают ему переживание разных миров, имеют источник своего существования – Автора. В мире, где живет Бенедикт, в городке Федор-Кузмичске, сочинение всех текстов приписывается одному персонажу (Федору Кузьмичу), как бы воплощающему в себе ав-тора-скриптора [Барт 1989, 384–392], который в буквальном смысле черпает тексты из безразмерного словаря Культуры. Таким образом, постулированная когда-то «Смерть Автора» обретает в романе почти буквальный смысл: тексты, которые записывают герои-переписчики «для всеобщего пользования», лишены не только «автора биографического», реального создателя художественного произведения, но фактически лишены Автора как стоящего за ними «голоса», ответственности за слово и ценностную картину мира, которую они развертывают перед читателем.
Соответственно без диалогической ответственности автора и читателя Книги превращаются в лубочные «книжицы», Автор – в «переписчика» (Федор Кузьмич переписывает своей рукой сохранившиеся после «дня Х» печатные художественные произведения), а читатель буквально становится тем «пространством, где запечатлеваются все до единой цитаты» [Барт 1989, 390]: «слова» (как называет Бенедикт поэтический, стихотворный язык переписываемых стихотворений) присваиваются и превращаются для Бенедикта в бытовую «расхожую монету».
Итак, в результате первого события герой выстраивает для себя противопоставление «книжица» (лубок, не имеющий автора, созданный переписчиком) – «книга» (печатная) и пытается постичь категорию Автора-сочинителя как Другого:
Не Федор Кузмич… Другой кто-то, невидимый, древний <…> Большой, наверное, белый и большой, бледный, старинный, давно вымерший, <…> страшный <…> [Толстая 2002, 124].
Но образ Автора как Другого встраивается в уже существующую ценностно антидиалогическую оппозицию героя: «свой – чужой». «Свой» – «он немножко, как ты сам» ; Другой – это «чужой», странный, непохожий, непонятный и даже опасный, страшный (он отождествляется в какой-то момент в сознании Бенедикта с ужасом Кыси – вызывающей потерю счастливо-самодовольной целостности, диалогическое раздробление в тебе самом на «ты» и «как-бы-не-ты») [Толстая 2002, 124, 125].
Фактически, перед нами анти-диалогическое разделение автора и читателя, которое соотносится в романе с изменением ценностной позиции героя (второе событие в романе). Проявление признаков звероподобия в герое (хвостик «питекантропа») с «собачьим именем» (Бенедикт) соотносится с появлением других звероподобных героев (семья Кудеяра Кудея-ровича), связанных со сферой еды и смерти («Наш» в названии главы, безусловно, должно пониматься как «их» – фиксирует возможность принадлежности героя к миру, главная потребительски-гурманская ценность которого – еда). В целом, это событие обозначено в главе «Покой» как отказ героя от поиска своей таинственно-волшебной мечты, от поиска смысла в «книге жизни» – от «бессонного пути в глухом лесу» (пути, обозначенного учителем Бенедикта – истопником Никитой Ивановичем). Волшебно-прекрасная мечта Бенедикта обретает черты обытовления: образ «Княжьей Птицы Паулин» трансформируется, теперь это – мечта, вылинявшая до бытовой ветоши (в столовом зверинце тестя Бенедикт замечает клетку, а в ней «на суку чего-то висит, белое, мятое, дырчатое , как ветхая простынь » [Толстая 2002, 127] – выделено мною – О.Д .).
С этим событием связано также изменение способа чтения главного героя. Прежде способ чтения Бенедикта («духовного неандертальца» – по выражению Никиты Ивановича) представлял собой преимущественно «вживание» [Бахтин 1979, 25]), свойственное психологическому возрасту маленького ребенка (герой как читатель «Колобка» миметически повторяет тот художественный мир, с которым взаимодействует, и показательно уже изначальное встраивание Бенедикта в полюс еды-смерти – повторение жевательно-глотательных движений Лисы):
Бенедикт радовался за колобка пишучи. Посмеивался. Даже рот открыл , пока писал. А как дошел до последней строчи, сердце екнуло. Погиб колобок-то. Лиса его: ам! – и съела. <…> Все песенки пел. <…> И вот – не стало его. За что? Бенедикт сглотнул и обвел глазами избу [Толстая 2002, 43].
Теперь же герой полностью погружается в такой способ взаимодействия с книгой. Традиционная культурная метафора «пищи духовной» – «вкушения книги» ценностно преломляется в романе (книга
«преломляется» героем, гротескно в ней соединяющим «хлеб земной» и «хлеб небесный») и предстает как возвышенно-гурманское вкушение, перерастающее в обжорски-потребительский процесс умерщвляющий диалогическую суть литературного произведения:
Сели обедать. Бенедикт раскрыл «Северный вестник», <…> разломил журнал, чтоб не закрывался, и локтем нажал, и еще миской с супом придавил [Толстая 2002, 201].
При этом Бенедикт так и не выходит за рамки наивно-реалистического типа чтения. Понятие «наивный реализм» в литературоведении и педагогике употребляют для описания «такого уровня читательской деятельности, когда специфика литературы не осознается: художественный образ отождествляется с реальной фигурой, вымысел, если он замечается читателем, противопоставляется правде, вообще литературное произведение воспринимается как описание жизненных фактов» [Качурин 1988, 14]. При наивно-реалистическом чтении полностью отсутствует момент «отстранения» [Бахтин 1979, 26]) – выхода на «субъектный», изображающий уровень целостного авторского смысла. Вся читательская деятельность Бенедикта фиксируется на этапе «вживания» – общения только с изображенным, «объектным» миром героя («люди в книжках»), отождествления с героем и его горизонтом в и дения:
Все у меня в руке, в кулаке <…>: и природа вся неохватная, и жизни людские! Стар и млад и красавицы несусветные! <…> И все радостно кидаются в объятия избраннику, а избранник-то кто же? Избранник – Бенедикт, зовись он хоть дон Педро, хоть Сысой [Толстая 2002, 199–200].
Переживание чужого опыта доводится до массово-потребительского абсурда (герой-«читатель» жаждет в романе все новых и новых «воображаемых» книжных миров, руководствуясь прежде всего «эстетикой новизны»).
Чтение книг не является для Бенедикта онтологическим событием – не возвращает его как читателя «к себе» и «в себя» измененным, другим; умение «читать» книги – терпеливо «прислушиваться» к голосам предков, сберегая память и уважение к миру мысли, так и не приходит, как не приходит желание читать «книгу жизни», идти путем выстраивания внутренней человеческой культуры.
Таким диалогически настроенным читателем в романе является Варвара Лукинишна; для нее существенна оппозиция еда – книги (еду меняет на книги). Она представляет тип чтения-«беседы» (различает «разные голоса книг»), тип читателя, живущего в «воображаемой реальности» (ее книга-цитата в романе мало имеет отношения к так называемой «реальной действительности», наступившей после « дня Х », к мутировавшему миру: «и свеча, при которой она читала полную тревог и обмана жизнь…» [Толстая 2002, 128]).
Постепенно процесс чтения Бенедикта окончательно уподобляется поглощению-потреблению пищи – на уровне образной системы выстраивается образ «книги-еды», «чтения-гурманства», когда книгу пробуют «на вкус», и второй раз наслаждаться ею невозможно:
<…> пробовал прежние книги перечитывать, да это же совсем не то. Никакого волнения, ни трепета али предвкушения нету [Толстая 2002, 259].
Тип читательской рецепции, воплощенный главным героем, буквально соответствует выработанному в ХХ в. понятию «феноменология тела» как способу взаимодействия читателя и художественного произведения: акцент в читательской деятельности ставится не на познавательно-понимающей (с точки зрения радикальной феноменологии тела – «рационально-просветительской») составляющей процесса чтения, а на «иррационально-аффективной». Двуединая цель искусства, сформулированная Горацием («Поучать, доставляя наслаждение») сводится «феноменологией тела» до единого – гедонистически-переживательного – процесса; представление о чтении как «наслаждении» становится основой «потребительского гедонизма».
Главной ценностью Бенедикта в погоне за новыми художественными мирами становится именно «удовольствие» от чтения, «наслаждение» текстом, чтение-гурманство. Более того, у героя, воплощающего такой тип сознания и способ чтения, есть и «свой пушкин» – «буратина»-«дубельт», выструганный Бенедиктом, – образ, принадлежащий «книжно»-пищево-му полюсу ценностей и «свысока» воспринимаемый героем:
Вот он стоит, как куст в ночи, дух мятежный и гневный ; головку набычил, с боков на личике две каклеты – бакенбарды древнего фасону, – нос долу, пальцами как бы кафтан на себе рвет <…> [Толстая 2002, 178].
Потребление-удовольствие как способ чтения связано в романе с образом «выпитой жизни», предлагая новое разрешение устойчивой культурной оппозиции «жизнь реальная / реальная действительность» – «воображаемый / книжно-иллюзорный мир». «Выпитая жизнь» в «Кыси» – это не классическая попытка «воображаемого мира» присвоить статус «реальной действительности», «отняв» у героя, втянутого в иллюзорно-книжные миры, возможность прожить собственную жизнь (Дон Кихот). Напротив, именно Бенедикт – герой-«читатель», лишенный умения терпеливо прислушиваться к голосу автора, претворять эстетическое переживание в онтологический опыт, «читать» «книгу жизни», ограничивает «книжным мирам» – «голосу автора» – доступ к общению с другими читателями. Происходит «выпивание живой души» книги, фактически, убийство автора и – буквально – читателя, которое является третьим событием в романе.
«Похороненные» книги властно закрыты «санитарами» для диалогического взаимодействия автора и читателя, Бенедикт остается единственным «читателем», полностью закрытым для общения с Автором в своей высокомерной уверенности, что только он создает автора, или, по крайней мере, возрождает его из небытия, из неставшего – является ключевой фигурой эстетического процесса, дарующей бытие тексту:
Ты, пушкин, скажи! Как жить? Я же тебя сам из глухой колоды выдолбил, голову склонил, руку согнул: грудь скрести, сердце слушать: что минуло? что грядет? Был бы ты без меня безглазым обрубком , пустым бревном, безымянным деревом в лесу <…> Не будь меня – и тебя бы не было ! Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал? – Я воззвал! Я! [Толстая 2002, 258].
Событие убийства человека ради книги, которое совершает герой, – логическое завершение пути героя к «завладению», потребительскому «заглатыванию» книжных миров, чужой жизни. Образ « белой книги», « светлой мечты» о райски-сказочной « белой Птице Паулин» включается в единый смысловой комплекс с моментом убийства человека / книги и отчаянно-гурманским поглощением его результатов («Каклет несите белых , мягких» [Толстая 2002, 217]).
На этом этапе происходит превращение – сначала метафорически, затем буквально – героя в Кысь , питающуюся чужими душами, жизнями. С потерей возможности перевоплощаться, «превращаться» во время чтения («Как все равно оборотень какой : то ты мужик, а то вдруг раз! – и баба, а то старик, а то дитя малое, <…> а то просто незнам что» [Толстая 2002, 184]) наступает буквальная метаморфоза и телесно-миметическое перерождение героя, который повторяет жадные движения мифологической Кыси :
Он зажмурился от счастья, крепко стиснул веки, помотал головой ; вытянув шею , чтобы лучше чувствовать; <…> с сомкнутыми веками он словно бы видел лучше, слышал острей, чуял явственней <…> вот сейчас бы мягко, мягко, неслышно и невидимо соскочить с башни, перенестись <…> снежным смерчем в слуховое окно! <…> И упиться, упиться, упиться буквами, словами, страницами, их сладким, пыльным, острым, неповторимым запахом! <…> – Ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы - !!!… –крикнул в блаженстве Бенедикт [Толстая 2002, 285].
Рассмотрев основные события, необходимо определить их сюжетный смысл. Традиционная схема романа, связанного со сферой творчества (создания или, как в данном случае, чтения / восприятия художественного произведения) – романа «становления» / «воспитания» в определенный момент переходит в тип сюжета «романа испытания», основное событие в котором – испытание героя на самотождественность, в результате которого герой, как правило, меняет свою ценностную позицию в мире, поддается «искушению», не выдерживает «испытание жизнью». В данном же случае
«открытый» финал позволяет говорить о «сплаве» двух классических европейских сюжетных романных схем: хотя неудавшийся герой-«читатель» все еще ищет готовую книгу, «где сказано, как жить», перед ним остается по-прежнему открытый и «непрочитанный» мир, до «азбуки» которого герой пока так и не дошел.
Т. Толстая использует «нарративную интригу» [Рикёр 2000, 165], которая определяет понимание нарратива в романе для реципиента ее текста (реального читателя романа «Кысь»): «жизненная азбука», которую так и не освоил главный герой (по мнению Никиты Ивановича), предлагается «реальному» читателю текста Т. Толстой на композиционном уровне. «Интеграция» фрагментов текста Т. Толстой в определенную последовательность [Рикёр 2000, 42] предполагает необходимость учитывать этическое значение таких «букв» человеческого существования, как необходимость самопознания и ответа вопрос «Кто ты? Зачем? Каковы основы человеческого бытия?», как проблема слова и ответственности за него, за свою жизнь и свой поступок (это оформлено в названиях глав: «Аз», «Буки», «Веди», «Глагол», «Добро», «Есть», «Живете», «Иже», «Како», «Люди», «Мыслете», «Наш», «Он», «Покой», «Слово», «Твердо» и т.д.).
Через трансформацию традиционной культурной метафоры чтени-я-«вкушения» (представленной, например, в книге пророка Иезекииля в Ветхом Завете: «Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который Я даю тебе; и я съел, и было в устах моих сладко, как мед») способ общения Бенедикта с текстами (чтение-наслаждение, чтение-удовольствие предстает как способ анти-чтения: перерастая в потребительский, принципиально не-диалогический гедонизм, этот способ разрушает сам принцип существования «эстетического события» как события «диалога», общения автора и читателя в акте эстетического переживания.
В романе Толстой в качестве одной из важнейших основ «идеологической» модели утопии городка Федор Кузьмичск выступает способ авторства и чтения, который лишает эстетическую коммуникацию диалогического взаимодействия между автором и читателем (книги хранятся в спецхране, и читатели не получают в руки полного текста книг, а только переписанные, без указания авторства, рукописи, которые по умолчанию приписываются правителю города). Чтение из процесса приобщения к смыслу, к «голосу» автора превращается в чтение-удовольствие, чтение-потребление.
В то же время автор романа «Кысь» играет с читателем, встраивая в систему персонажей интертекстуальные отсылки к эстетическим концепциям ХХ в., сосредоточенным на интерпретации категории читателя как эстетического субъекта и его роли в процессе чтения.
Смысл антиутопического сюжета в романе «Кысь», таким образом, может быть уточнен: отрицаемая автором антиутопии социальная или культурная модель базируется здесь на доведенной до гротеска «традиции чтения», которая сама по себе не обеспечивает «культуру чтения». Структуралистский «автор-скриптор» и читатель, являющийся «точкой сборки» всевозможных интерпретаций, читатель-«гедонист», декларированный «феноменологией тела», доведенные до крайности в воплощении в «реальность», обнаруживают свою ценностную ограниченность, сводящую сложный феномен эстетического диалогического события чтения к простому акту одностороннего читательского действия. Таким образом, событие чтения, представленное во множестве изображенных актов, формирует постмодернистскую разновидность антиутопии, направленной против давления культурных моделей на сознание человека конца ХХ – начала XXI в. Событие чтения в «Кыси» – сюжетообразующий элемент романа, который представляет собой метарефлексию над литературоведческими категориями «автор», «герой», «читатель», «скриптор». Персонификацию и рефлексию этих категорий осуществляют сами герои романа, а ценностно-смысловые отношения в нем выражают всю сложную, опасную, противоречивую сторону этой теоретизиро-ванной действительности.
Список литературы «Событие чтения» в романе Т. Толстой «Кысь»
- Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / пер. с фр. Г.К. Косикова. М.: Прогресс, 1989. 616 с.
- Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 7-180.
- Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. 502 с.
- Грешилова А.В. Антиутопические тенденции в романе Т. Толстой «Кысь» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 8(74). Ч. 2. С. 33-36.
- Качурин М.Г. Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках литературы: книга для учителя. М.: Просвещение, 1988. 173 с.
- КовтунН.В. Реальность и текст в прозе рубежа ХХ-ХХ1 веков: «Последний мир» К. Рансмайра и «Кысь» Т. Толстой // Кризис литературоцентиризма. Утрата идентичности У8. новые возможности. М.: Флинта; Наука, 2014. С. 69-94.
- Козьмина Е. Поэтика романа-антиутопии: на материале русской литературы ХХ века. Екатеринбург: Екатеринбургская академия современного искусства, 2012. 187 с.
- Мамардашвили М. Лекции о Прусте (психологическая топология пути). М.: Да Ма^теш, 1995. 548 с.
- Рикёр П. Время и рассказ. Т. 2. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. 224 с.
- Толстая Т.Н. Кысь: роман. М.: Подкова, 2002. 320 с.
- Турышева О.Н. Мотив чтения в структуре повествовательного сюжета // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2010. № 1. С. 363-371.
- Тюпа В.И. Интрига как нарратологическая универсалия // Универсалии русской литературы. Вып. 5. Воронеж: Научная книга, 2013. С. 36-44.