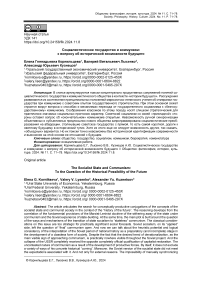Социалистическое государство и коммунизм: к вопросу об исторической возможности будущего
Автор: Корнильцева Е.Г., Лысенко В.В., Кузнецов А.Ю.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье артикулируются поиски концептуально продуктивных сопряжений понятий социалистического государства и коммунистического общества в контексте «истории будущего». Рассуждения развиваются из соотнесения принципиальных положений марксистско-ленинского учения об отмирании государства при коммунизме с советским опытом государственного строительства. При этом основной сюжет строится вокруг вопроса о способах и механизмах перехода от государственного социализма к «безгосударственному» коммунизму. Соображения классиков по этому поводу носят слишком стратегический для практически значимых социальных прогнозов характер. Советский социализм со своей «прикладной» стороны оставил вопрос об «окончательном» коммунизме открытым. Невозможность ручной синхронизации объективных и субъективных предпосылок нового общества запрограммировала социалистические преобразования на аберрации, столкнувшие советское государство с прямой, то есть самой короткой, дороги к светлому будущему в исторический тупик. Хотя из этого еще не следует возможность других, так сказать, «объездных» вариантов. Но их поиски точно невозможны без исторической идентификации современности и выяснения на этой основе ее отношений с будущим.
Общество, государство, социализм, коммунизм, бюрократия, номенклатура
Короткий адрес: https://sciup.org/149146688
IDR: 149146688 | УДК: 141 | DOI: 10.24158/fik.2024.11.8
Текст научной статьи Социалистическое государство и коммунизм: к вопросу об исторической возможности будущего
Целью статьи является оценка исторического потенциала снятия современности в парадигме марксистского обществознания.
В соответствии с этим формулируются задачи:
-
– интерпретация внутренней эволюции советского социализма как процесса его административно-бюрократического перерождения;
-
– реконструкция концепта социалистического государства как механизма перехода к без-государственной фазе общественного развития;
-
– ревизия ресурсов дедукции «действительного» коммунизма из процессов самодвижения социальной реальности в связи с исторической идентификацией современности и уточнения ее отношений с будущим.
Основным инструментом исследования выступает метод построения причинно-следственных моделей. При этом происходящая из постулируемой природы явления логика идентичности рассматривается в качестве его ведущей детерминанты на интервале самотождественности.
Основная часть . Главное ленинское детище – советское государство, несущая конструкция одноименного проекта, колыбель нового общества, по замыслу своего отца-основателя, проводит инвентаризацию и принимает на баланс экспроприированную буржуазную собственность. Под его патронажем должны утвердиться и окончательно войти в быт принципы коммунистического общежития. После чего, в отсутствие антагонистических классов, по мере стирания последних социальных различий и перехода общества к саморегулированию, государственные институты отмирают за дальнейшей ненадобностью (Ленин, 1969 а). Но для вождя мирового пролетариата такая перспектива была, скорее, теоретической. При всем уважении к Ф. Энгельсу, своему главному наставнику в этом вопросе, он полагал, что, как минимум, на его век работы у первого в мире государства трудящихся хватит (Энгельс, 1955).
Тем временем на историческую авансцену выступило тоже, как скоро выяснилось, не последнее действующее лицо – советская бюрократия, которая ни сейчас, ни позже отмирать не планировала, наоборот, только входила во вкус и собиралась жить долго и счастливо. Для чего постепенно перенастроила государственную машину на воспроизводство своего господствующего положения. Для окончательного закрепления бюрократического порядка был взят курс на последовательное огосударствление общественной и частной жизни. Но, в полном соответствии с принципами диалектики, неограниченный рост государства стал началом конца. Во всем известном финале, когда размеры утратили последнюю связь с функциональностью, государственное здание рухнуло от первых (чувствительных, но не фатальных для более легких и гибких конструкций) толчков под собственной тяжестью. Тотальная регламентация социальной жизни вызывает ее паралич. Замена жизненно важных общественных органов административными протезами существенно снижает качество этой самой жизни, и, как выяснилось на практике, заметно сокращает ее продолжительность.
Без посторонней помощи бюрократ с насиженного места не снимется: слуга, занявший господствующую социальную высоту, с полным основанием считает свою жизненную задачу-максимум перевыполненной. Технический персонал советской власти, заместивший ее в качестве сути и смысла общественного строя, получил из проделанной эволюции почти неограниченную жизнеспособность. Но, по ленинскому плану, уход государства нового типа в историю должен быть абсолютно естественным, ведь речь идет о переходе к безгосударственному состоянию (Ленин, 1969 а). В самом деле, любое целенаправленное социальное изменение подразумевает своего не совпадающего со всем обществом коллективного организованного субъекта. Для преодоления существующего государственного порядка необходим превышающий его способности к самосохранению материальный и организационный ресурс. То есть, по крайней мере, в самый момент упразднения его субъект должен быть больше государством, чем его объект: «убивший дракона становится драконом». В случае с разрушением буржуазного государства это правило удалось обойти благодаря новому качеству политического строя, учрежденного на обломках предшествующего. Чистое отрицание, без удержания, позволяет выбраться из мутного исторического потока сухим.
Но советское государство должно стать последним. В то же время номенклатура, осознавшая себя новым правящим классом, превратила его в механизм своего способа присвоения (Во-сленский, 1991). Очевидно, в таком качестве «социалистическое» государство не может решить стоящую перед ним историческую задачу. Отсюда, даже теоретически, – вариантов немного. Первый – «перезагрузка» советского проекта. Второй – признание исторического поражения с возвращением на «столбовую дорогу цивилизации». И здесь также возможна развилка: принять западную либеральную демократию за конечную цель или довести свой капитализм до обещанного классиками самоотрицания, позволив на этот раз новому строю самостоятельно созреть в недрах старого.
Учитывая случившиеся перемены, в таком зигзаге должно быть изрядное творческое начало. Но основная энергия направляется теперь не на подмену собой истории, а на примирение и сотрудничество с ней. В тенденции человек, конечно, преодолевает власть социального детерминизма, но лишь по мере овладения условиями и предпосылками собственного развития. Поступательный характер указанного процесса, в свою очередь, подразумевает определенный этап и направленность общественной эволюции. Альтруизм не может стать нормой до того, как перестанет противоречить задаче физического выживания, то есть раньше окончательного упразднения частной собственности как главного источника социальных антагонизмов. Но, как отмечалось, в социалистическом государстве средства производства поступают в оперативное управление номенклатуры, которое на практике мало чем отличается от полноценного права собственности (Восленский, 1991). Широкие возможности пользования общенародным добром во многом компенсируют формально-юридические ограничения в части владения и распоряжения. Противоположность частного и общественного интересов, что называется, налицо. Снова получается, ни много ни мало, политическая организация классового господства. И на первый план опять выходит главная функция «традиционного» государства, состоящая в представлении, обслуживании и защите корпоративного интереса как всеобщего. Величина административного ресурса пропорциональна положению в бюрократической иерархии, но эта зависимость не линейная – в силу разной «этажности» параллельных управленческих структур (то есть между ними нет взаимно однозначного «вертикального» соответствия) со смежными, пересекающимися или дублирующими компетенциями. Классическое присвоение и распределение прибавочного продукта принимает форму статусной организации потребления. Тот случай, когда положение дороже денег. В условиях хронического дефицита внушительной номенклатуры товаров повседневного спроса, не говоря о «предметах длительного пользования» – в буквальном смысле слова.
Конечно, для буржуазного перерождения аппарата и тотальной бюрократизации государственного механизма требуется определенное время. Однако не такое большое, как можно представить. Непрерывная кадровая ротация, как способ его «скоротать», – из тех средств, которые бывают хуже болезни. И это, еще не упираясь в ресурсные ограничения и не вдаваясь в технологические проблемы процесса. Важнее принципиальная установка на естественную, то есть не регламентированную, в том числе не ограниченную конкретными сроками инволюцию «последнего» государства (Ленин, 1969 а). Но корпорация, стоящая над остальным обществом, неизбежно использует свое положение в групповых интересах. И государственная машина в ее руках превращается в средство производства и присвоения административной ренты. В отличие от предыдущих типов государственного устройства эта рента становится целью и смыслом функционирования государственных институтов. И дело не в скромности или сознательности прежних функционеров. Только с нынешней производительностью труда общество может позволить себе роскошь такого непропорционально большого и неэффективного государства. С другой стороны, не очень понятно, как избежать нового расслоения, если плановая экономика требует радикальной централизации управления. И не только собственно хозяйственными процессами. Ведь гос-план изначально понимался не «просто» как панацея от кризисов перепроизводства, но, прежде всего, как инструмент эмансипации человека от власти объективных законов общественного развития, сообщающий истории новое, рукотворное качество. Национализация основных средств производства впервые позволяет взять общественное бытие под рациональный контроль. Поэтому все предыдущие попытки социального конструктивизма были обречены на провал. Но превращение государства в главного и, по сути, единственного собственника, концентрация в его руках всех ресурсов вдохнули в аппарат, чуть было не растворившийся, по замыслу классиков, в массе трудящихся, новую жизнь и вознесли на небывалую социальную высоту. Администрация, по определению, обладает известными привилегиями, но только теперь она по совокупности признаков становится правящим классом и меньше всего помышляет о самороспуске (Восленский, 1991). Изначально присущий бюрократии повышенный инстинкт самосохранения, компенсирующий ее не связанную с определенной формой собственности идентичность, только усиливается, превращаясь в надежную защиту от «антибюрократических» мероприятий, которые обезвреживаются на дальних подступах, задолго до того, как станут проблемой. И вместо «естественного» сокращения государства происходит его расширенное воспроизводство.
Можно, конечно, предположить, что на пороге «окончательного» коммунизма, получая все необходимое для жизни независимо от личного вклада, массовый человек станет руководиться безусловным категорическим императивом общего блага. И аппарат, понимая общественную пользу разгосударствления, как минимум, не будет препятствовать своему упразднению. Почему бы в этом пункте бытию и сознанию не поменяться ролями. Но отсутствия прямой материальной заинтересованности для антропологической революции недостаточно. Бюрократ как представитель социально обособленной группы остается частичным индивидом, неспособным к отождествлению общественных перспектив с личными. И вообще, предоставленный себе (то есть власти уникальной констелляции социальных влияний) человеческий фактор – достаточно сомнительная материя, чтобы полагаться на нее в таком принципиальном моменте. Ведь речь не о желаемом, а закономерном.
В марксизме личность – социологическая категория (Маркс, Энгельс, 1955 в). Причем если для самого К. Маркса это временное обстоятельство, и с преодолением отчуждения абстрактная форма наполнится конкретным содержанием, и развитие станет саморазвитием по преимуществу, то В. Ленин скептически смотрит на феномен человека вообще. (Совсем не страдая при этом, насколько теперь можно судить, от заниженной самооценки). И счастье человечества не его, человечества, ума дело, но совершенно определенных частей тела: большевистский культ коллективизма связан со способностью масс превращать идеи в материальную силу. Индивид в этом отношении бесполезен и, значит, вреден. Отдельность, дистанция к целому противопоказана революционному делу, поскольку провоцирует критическое восприятие в то время, как идеи должны происходить из единственной головы. У авторов «Манифеста» социалистическое сознание тоже вносится в пролетарские массы извне (Маркс, Энгельс, 1955 а). Наемный работник не может изнутри системы капиталистического производства объективно оценить свое положение и перспективы эмансипации труда. До окончательного преодоления отчуждения (необходимые и достаточные условия для которого создаются, опять же, не доброй волей, но объективным ходом вещей) недоверие к субъективности – пробный камень научности. При любом отношении к объективизму вторичность индивидуальности как социального эпифеномена не оставляет хорошего выбора. На флуктуациях над общественной заданностью ничего менее эфемерного не построишь. Но для основоположников марксизма это не отменяет человека как универсальную форму жизни и, соответственно, его потенциально бесконечную спонтанную содержательность. У В. Ленина же на обозримую перспективу коммунистическая сознательность не формируется изнутри, а носит наведенный характер. Даже у самых идейных «убеждения» имеют внешнее происхождение. Но в «сухом» остатке одно: полагаться на добрую волю раньше, чем она станет первой потребностью – значит, множить утопии. С другой стороны, антропологическая революция несовместима с государством, питающимся человеческим несовершенством. Но главное: массовый человек меняется только после общественных перемен, причем с изрядным временным лагом и, как правило, с понижающим коэффициентом. И дело не в одной лишь ригидности «стационарной» идентичности или инерции картины мира и образа жизни. На переднем крае истории уровень неопределенности нередко противоречит задачам самосохранения. Поэтому немногие, как положено, пионеры – это в основном не просто маргиналы, но почти непременно авантюристы, для которых возможная выгода после определенных размеров перевешивает любой риск. Идеалистическое крыло социальных первопроходцев, революционеры и реформаторы, видят в опережении времени шанс обменять жизнь (к сожалению, не только свою, а зачастую, только не свою) на принимаемое или выдаваемое за смысл по хорошему курсу.
Можно предположить, что эти сюжеты синхронизируются: отмирание государства начинается как объективный процесс, а выходит на «проектную мощность» как рукотворный. Объективная часть связана, прежде всего, со спецификой социалистического государства, изначального понимаемого его создателями как последнее и временное («коммунистическое государство» – противоречие в определении) (Ленин, 1969 а). «Субъективная» – с общественными привычками жизни в направлении планомерного сокращения государственного регулирования с перспективой его полного упразднения. На первый взгляд, реализация такого сценария могла бы сильно упроститься, если бы социалистическое государство с самого начала строилось в соответствии с его предназначением. Но в самом лучшем случае результат не мог быть ближе к идеалу, чем реальные обстоятельства к лабораторным условиям. То есть при изрядном везении вышло бы не сильно хуже случившегося. Такова логика отчуждения: большая удача – руководясь благими намерениями, отделаться умеренными разрушениями. Но, рассуждая отвлеченно, многих проблем можно было бы избежать, положив историческую миссию советского государства его конструктивным принципом, чтобы морфология, анатомия, жизненный цикл всех государственных институтов определялись задачами технического сопровождения движения общества к безгосу-дарственному состоянию. Таким образом, само государство необходимо развивается в сторону своей минимальной достаточности для оптимального содействия достижению обществом окончательной исторической зрелости.
На практике между обществом и его самостоятельным будущим расположилось не минимально достаточное, а максимально возможное бюрократическое государство, культивирующее вульгарный патернализм и социальный инфантилизм самого примитивного свойства. Как отмечалось, преодоление буржуазного строя подразумевает превосходящее его защитные механизмы организованное насилие. Поэтому единственно возможной исторически успешной формой советского государства могла быть только диктатура пролетариата. Сравнительная слабость национальной буржуазии, переходный характер, а то и кризисное состояние политических институтов, облегчив для большевиков захват власти, усложнили задачу ее удержания и осуществления. Так что теоретически предполагаемому постепенному ослаблению государства непосредственно предшествует его беспрецедентное практическое усиление. Но, очевидно, эти тенденции прямого сообщения не имеют. За ростом государства, если оно, увлекшись, не упадет раньше под собственной тяжестью, следует его стабилизация. По времени она, вполне естественным образом, пришлась на завершение капитального этапа социалистического строительства. К этому моменту была исчерпана энергия революционного энтузиазма – история не знает успешного примера передачи этого, как выясняется, недолговечного ресурса, так сказать, по наследству. За чем неизбежно последовала рутинизация советского проекта. К собственно возведению здания социализма прибавились заботы, связанные с его эксплуатацией и обслуживанием. Усложнение функционала в отсутствие альтернативных административных практик и технологий повлекло за собой дальнейшее бюрократическое утяжеление системы органов государственной власти и управления.
По-хорошему, все вопросы по поводу отклонений от канонического сценария надо адресовать, прежде всего, основателю советского государства, решившего, что начать строить коммунизм можно во враждебном капиталистическом окружении, а в результате не имевший шансов на собственную аутентичность советский проект столкнул западный капитализм с рассчитанной классиками траектории и таким образом обрел никем не оспариваемую составляющую своего всемирноисторического значения. Перераспределение части прибавочной стоимости в пользу наемного труда привело к мутации и хронизации коренного противоречия буржуазного строя. Его историческая обреченность стала менее очевидной. Гарантированное удовлетворение базовых потребностей лишает классовые антагонизмы остроты, необходимой для направленной социальной эволюции. В результате история начинает «пробуксовывать» в вязкой среде потребительской цивилизации. Замедление исторического времени актуализирует проблему будущего – на такой скорости не только до коммунизма, вообще никуда не доедешь. Имеющейся социальной динамики недостаточно для преодоления инерции наличного образа жизни. Не очень понятно, как без дополнительного ускорения вырваться из ловушки физического благополучия. Поддержание более-менее комфортного существования впервые не требует от обычного человека ежедневных трудовых подвигов. Не то чтобы люди совсем отказались от стремления к большему, но в массе, не испытывая повышенного давления обстоятельств, они склонны откладывать вопросы, требующие дополнительных усилий, на завтра. Ф. Фукуяма по-своему, но отчетливее других, выразил эту беспрецедентную гравитацию современности, увидев в последней конец истории (Фукуяма, 2010).
Об окончательной всеобщей гармонии речь, разумеется, не идет: прежние противоречия никуда не исчезли. Но в своих новых формах «классические» антагонизмы не могут служить источником поступательного исторического движения. Дело не в количестве энергии, а в ее качестве. Геополитическое противостояние сложившихся и формирующихся центров силы находится на исторических максимумах. Но развитие, происходящее из напряжения между глобальными акторами, имеет на текущем интервале преимущественно инволюционный сценарий. Расшатывая миропорядок (без гарантий интеграции на новом уровне), оно ведет к консолидации государственных структур для большей устойчивости к усиливающимся внешним и внутренним вызовам. Общество под растущим административным давлением становится все более гомогенным и пластичным объектом всевозможных, прежде всего политических, манипуляций.
Такая грубая структурная деградация по своему смыслу и вектору противоположна коммунистической «гомогенизации» как движению к социальной однородности по мере преодоления отношений частной собственности и эмансипации общества от «производственного» детерминизма. Когда производительные силы достигают такого развития, что все необходимое для жизни (и даже больше) человек получает, не надрываясь от непосильной работы, а буквально играючи, как сопутствующий продукт самоцельной и самоценной творческой деятельности.
Но объективная обусловленность коммунизма не означает его автоматического пришествия. Положиться на время, как раньше, теперь не получится. До сих пор каждый занимался своим делом, а на «выходе», как результирующая, своих невольных создателей встречала новая форма общества. Отношения собственности в качестве фундамента и каркаса общественного здания интегрировали разнонаправленные движения в саморазвивающуюся тотальность социального взаимодействия. История делала себя руками совершенно конкретных, но ни о чем не подозревающих индивидов. В марксизме экономическая формация в строгом смысле слова относится к предыстории именно потому, что общественная эволюция определяется здесь анонимной логикой (само)развития материального производства, а люди участвуют в процессе в роли статистов, своей жизнью прокладывая дорогу объективным закономерностям. Но в «светлое будущее» на социально-экономическом детерминизме не въедешь. Объективно-закономерная смена общественных форм заканчивается на изрядном расстоянии до «окончательного» коммунизма, если не отождествлять последний с овладением человеком своими природными и социальными предпосылками. Очевидно, такая эмансипация сама по себе еще не равна коммунизму, разве что в наивно-бытовом его понимании. Как действительность полноты своих существенных признаков он подразумевает систему устойчивого воспроизводства бесклассовой социальной структуры. Классовая организация общества происходит из способа производства. В присваивающей системе хозяйствования форма общения определяется природными обстоятельствами. «Положительный» коммунизм (хотя теперь понятно, почему его нельзя трактовать как очередную общественную форму в сложившемся смысле слова (Маркс, Энгельс, 1955 б)) не может возникнуть из простого отсутствия своей природной или экономической заданности, когда бытие больше не диктует человеку правила жизни, а, наоборот, становится объектом его свободной от «экологического» или социального детерминизма воли. Но в таком случае получается разрыв исторической постепенности: объективные факторы общественного развития утрачивают свою силу, когда «субъективные» еще полностью не созрели. Смена природы социальной динамики при переходе от социализма к собственно коммунизму - один из центральных и в то же время наименее прописанных сюжетов марксистской историософии. Во многом именно с этим «пробелом» связаны обвинения К. Маркса и его адептов в историцизме (Поппер, 1992, 1993). Последние выглядят достаточно убедительными прежде всего в том, что касается запрограммированного характера образа будущего, логически следующего из настоящего, но внутренне, при ближайшем рассмотрении, в некоторых важных моментах оторванного от него.
Восстановлению «связи времен» могут способствовать альтернативные квалификации современности («постиндустриальное», «информационное», «технотронное общество»). Ограничивая претензии экономического детерминизма (с которым не только критики К. Маркса во многом отождествляют его социальную философию) на логику позднего капитализма, они сокращают исторический разрыв между разными видами социальной реальности - объективно заданной и произвольно положенной, когда человек поступает с собой и своими обстоятельствами исключительно как считает нужным. Во втором случае речь идет фактически о снятии исторического («предысторического») как такового в отличие от предшествующего, в первую очередь, в форме советского проекта, «простого» растворения истории в технологии. Последняя означает буквально специальное умение преодолевать сопротивление материала, навязывая происходящему свою логику. Чтобы получить одно, приходится делать - больше или меньше - другое. Отсюда - не самый высокий коэффициент полезного действия (КПД) и не всегда практически достаточное соответствие реализации замыслу. Теперь же история превращается в исключительное пространство произвольного действия, и человеческая жизнь становится непосредственным результатом его (человека) продуктивной спонтанности. «Историческое», или «тотальное», общество работало как магнитное поле, выстраивающее социальные связи и отношения вдоль своих силовых линий. Новое качество социальной реальности существует в такой форме и постольку, в какой и поскольку к ней подключаются конкретные индивиды в ситуации актуального взаимодействия. Как не могло быть социально функционального индивида вне саморазви-вающейся тотальности совместной деятельности людей, так произвольно положенная форма общения не существует вне человека как субъекта своих сущностных сил, устраивающего собственную жизненную реальность непосредственным образом.
Заключение. Дальше масштабных попыток социальной технологии советский социализм по пути к новому историческому качеству не продвинулся. Социалистическое государство, как выяснилось на практике, может заложить (по крайней мере, начать закладку) материальный фундамент коммунизма, но возвести здание уже неспособно, являясь главным препятствием на пути к своей цели. С одной стороны, общество не в состоянии самостоятельно справиться с классовыми антагонизмами. У основоположников марксизма из-за этой неспособности социально-поте-старные образования и сменяются собственно государствами как организованным принуждением (Ленин, 1969 б; Энгельс, 1955). С другой стороны, государство трудящихся (первое в истории как таковое и последнее как всякое), подавив сопротивление реакционных классов, в теории не столько принуждает, сколько координирует. Однако всегда подразумеваемый аргумент к силе заметно снижает качество социального раскрепощения. Тем не менее, предполагается, что под водительством государства общество научится самостоятельности. Но главная проблема заключается не в странной, мягко выражаясь, логике подобного предположения, а в отсутствии «есте- ственных» механизмов разгосударствления общественной жизни. Самоупразднение номенклатуры, а никакого другого социализма, кроме номенклатурного, (пока что) не получается, – противоречие в определении. Принудительное упразднение – специально организованный процесс, как таковой неизбежно меняющий прежних функционеров на новых «организаторов».
Невозможность прямого сообщения между социализмом и коммунизмом не отменяет безальтернативный характер последнего в качестве положительного преодоления настоящего. Но стратегическая неизбежность будущего сама по себе не означает его исторической возможности и практической достижимости. (Сценарии тех же тоталитарных антиутопий сегодня смотрятся на порядок реалистичнее, что, тем не менее, не делает их вариантами будущего в указанном смысле слова). В любом случае с высоты момента не заметно гарантий, что современность, сколько бы она ни продлилась и какие бы новые квалификации соответственно актуальным тенденциям ни получила, найдет нужную «дорожную карту».
Список литературы Социалистическое государство и коммунизм: к вопросу об исторической возможности будущего
- Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М., 1991. 624 с.
- Ленин В.И. Государство и революция // Полное собрание сочинений: в 55 т. М., 1969 а. Т. 33. С. 1-120.
- Ленин В.И. О государстве // Полное собрание сочинений: в 55 т. М., 1969 б. Т. 39. С. 64-84.
- Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Сочинения: в 50 т. М., 1955 а. Т. 4. С. 419-459.
- Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Сочинения: в 50 т. М., 1955 б. Т. 3. С. 7-544.
- Маркс К., Энгельс Ф. Тезисы о Фейербахе // Сочинения: в 50 т. Т. 3. М., 1955 в. С. 1-4.
- Поппер К. Нищета историцизма. М., 1993. 188 с.
- Поппер К. Открытое общество и его враги: в 2 т. М., 1992. Т. 2. 528 с.
- Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2010. 588 с. EDN: QOKXGP
- Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Сочинения: в 30 т. М., 1955. Т. 21. С. 28-178.