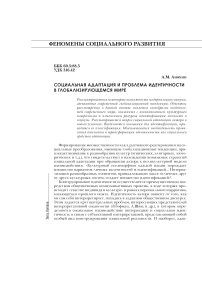Социальная адаптация и проблема идентичности в глобализирующемся мире
Автор: Анохин Андрей Михайлович
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Феномены социального развития
Статья в выпуске: 4 (5), 2007 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются некоторые возможности модернизации социума, адекватные современной глобализационной тенденции. Объектом рассмотрения в данной статье является своеобразие особенностей современного мира, связанных с возникновением культурного плюрализма и изменением ракурсов идентификации личности в социуме. Рассматривается вопрос социальной адаптации актора в новых условиях. Выделяются основания для идентификации, приводится ее классификация. Обосновывается необходимость проявления внимания к трансформации идентичности как социального средства адаптации.
Короткий адрес: https://sciup.org/14042428
IDR: 14042428 | УДК: 316.42
Текст научной статьи Социальная адаптация и проблема идентичности в глобализирующемся мире
Формирование множественности как адаптивного реагирования на социальные преобразования, имеющие глобализационные тенденции, привлекает внимание к разнообразию культур (этнических, элитарных, эзотерических и т.д.), что свидетельствует о нахождении возможных стратегий социальной адаптации при обращении актора к поликультурной модели взаимодействия. «Культурный полиморфизм каждой нации порождает множество вариантов личных валентностей и идентификаций... Интернализация разнообразных элементов, принадлежащих массе отличных друг от друга культурных систем, создает множество идентификаций»1.
Terra Humana
Конструирование идентичности осуществляется преимущественно посредством общезначимых коммуникативных практик, в ходе которых происходит «участие индивида в культуре» в рамках персонального нарратива, касающегося прошлого опыта. Идентичность актора зависит от того, как он сам себя интерпретирует, находясь в заданном общественном дискурсе. Этим задается круг центральных проблем, интересующих представителей интерпретативной социологии (Э.Гофман, А.Шюц и др.), в котором определяются социальное взаимодействие (интеракция) и социальная идентичность в связи с субъективной интерпретацией, представляющей собой особый вид конструирования социальной реальности. И наоборот, адап- тивно-интерпретативный процесс субъекта адаптации дает возможность зафиксировать, уточнить или восстановить собственную идентичность.
М. Ф. Бендл2 полагает, что в связи с глубоким социальным кризисом «идентичность» является центральным понятием большинства современных социологических исследований. К наиболее значимым причинам кризисных явлений в жизни российского общества относится резкая смена вектора социокультурного развития. В результате этих «новых» ориентаций возникает разрыв между прошлым и будущим, приводящий к распаду или трансформации прежних социальных структур и институтов. Связан он также с пониманием важности приобретения и поддержания новой идентичности в глобализирующемся обществе. С другой стороны, в настоящее время наблюдается и кризис идентичности, заключающийся в утрате обществом своей самотождественности и сопровождающийся появлением «множества разноплановых, недостаточно теоретизированных научных исследований, создающих представление об «идентичности», как о чем-то сконструированном, текучем, множественном, неустойчивом и фрагментарном»3.
Вместе с тем, накопленные сведения позволяют утверждать, что успешное разрешение «кризиса» идентичности способствует адекватной социальной адаптации, связанной с конституированием преемственной связи между нынешним состоянием общества, перспективами его развития и предшествующими стадиями его существования. Этим задается социальная конструкция, стабильная как во временном, так и в пространственно-коммуникативном плане.
Общепринятая схема коммуникации
Эта схема, согласно А. Шюцу, принимается каждым человеком. О смысле сценических событий человека информирует заранее предположенный фон вещей, которые «каждый, подобный нам, знает». Он полагает, что такой фон используется им самим и другими людьми по правилам кодиро-вания4, в рамках которых решается вопрос о соответствии между феноменом и ноуменом. А. Сикурел, А. Шюц, Г. Гарфинкель и др. исходят из того, что понимание основано на идентификации, уподоблении участников разговора друг другу, и трактуют понимание как прагматическую взаимную подгонку значений, обусловленную предполагаемыми познавательными и интерпретативными способностями, приписываемыми каждым своему партнеру по общению. Так осуществляется обмен между сопряженными культурами и вложенными друг в друга социальными структурами. Если передаваемые (любым способом и с любой целью) образцы закрепляются в «чужой» культуре без ассимиляции, то они очень слабо мутируют из-за того, что являются инородными для автохтонной культуры и не могут свободно развиваться. Это обеспечивает их большую «сохранность» по сравнению с параллельно существующими формами «исходного образца», находящегося в «родной» среде. Одновременно можно говорить, что такое «отсутствие изменения» может приводить к остановке в развитии той или иной культурной формы, ее стагнации или большей искусственности по сравнению с соответствующей единицей, развивающейся в сопряженной культуре. Диалог культур ведет к тому, что этносоциальная общность зачастую удовлетворяет свои социокультурные потребности за счет заимствования из иной
Общество
культуры необходимых образцов, в том числе и своих, переданных ранее в процессе взаимодействия. Сопряженная культура выступает своеобразным буфером (областью) обмена. В качестве иллюстрации к сказанному можно привести анализ механизма сохранения патернальной культуры эмигрантами. В то время как язык и традиции на родине активно меняются, в среде эмигрантов это происходит гораздо медленнее, что создает исследовательское поле для антропологического изучения (языка, образа жизни, социальной организации и т.д.) в данном пространстве.
М.Ф. Бендл5 подчеркивает, что создавать идентичности, адекватные новым условиям, можно при опоре, в частности, на конструктивистский подход, который может быть представлен в культурных категориях, в терминах сходства и различия, контекста, субъективных представлений о самости, социального представления «себя», «нарративов самости», понятых как рассказ о «себе» для «себя» и др. В любом случае, мы говорим об имманентной специфике социального конструкта, имеющего базовые положения, относящиеся к трансформации идентичности и возможному осуществлению идентификационного процесса.
Необходимые основания для трансформации идентичности
В основе концептуализации социальной системы, как некоей «самости», лежит проблема границ. Любая система (в том числе и актор) – это пространство, и существует определенное различие между ней и окружением, где «внутреннее» всегда предполагает наличие своей противоположности – «внешнего». «Отношение к культурному пространству является важнейшим условием идентификации..., – пишет С.Н. Иконникова6, – Одним из основных свойств любого пространства является непрерывность и протяженность. Но в силу разных обстоятельств и факторов внутри культурного пространства происходят изменения объема, иерархии составляющих его частей, внутренняя перегруппировка его подсистем». Данная «диффузия» возможна за счет гибкости границ и языковой практики субъектов, осуществляющих изменение социальной конфигурации. «В течение поколений схемы опыта, остающиеся интерсубъективно релевантными, становятся постоянно объ-ектированными в языке. Едва это случается, языковые «модели» опыта начинают осуществлять влияние на опыт, точнее, они начинают управлять вниманием и формировать интерпретацию опыта, обеспечивая социально и исторически очерченную «топографию» реальности»7.
Terra Humana
Граница, очерчивающая ситуационно значимые для субъекта локальности, условно отделяет мир, находящийся в «актуальной досягаемости» субъекта, от остального мира. Говоря о культуре, необходимо учитывать мнение М. М. Бахтина, который отмечал, что внутренней территории культура не имеет, она вся существует на границе8. Речь здесь идет не только о культуре как таковой, но и о том, что любая локальная культура обретает свое бытие, фиксирует и проявляет свою самобытность, вступая в контакт с другими локальными культурами (когда акторами обнаруживается культурная сопряженность).
Говоря об идентификации как социальной активности актора, мы обращаем внимание на то, что им производится трансформация гра- ницы: вначале она является более выраженной, затем прозрачной (позволяющей проявить субъективность) и, наконец, система в соединении с актором приобретает новые контуры. Мир вместе с включенными в него объектами, находящийся в актуальной досягаемости, становится определяющим в принятии решений и действий актора, идентифицирующегося с ним. «В самом деле, идентичность объективно определяется как размещение в определенном мире, и она может быть субъективно усвоена лишь наряду с этим миром. Иначе говоря, любые идентификации возможны в пределах горизонтов, открывающихся особым социальным миром.., предписываемое определенными правилами…»9. Трансформация идентичности сводится к трансформации границ, определяемых прежней идентичностью, являющейся биографической для актора.
З. Бауман10 и М. Ф. Бендл11 выделяют несколько связанных и дополняющих друг друга направлений исследования трансформации идентичности.
-
1. По мнению Э. Гидденса, «устойчивая идентичность является основой постоянных взаимодействий в условиях изменяющегося непредсказуемого мира. Если идентичность находится в кризисе, то ей на помощь приходят внешние и безличные экспертные системы, состоящие из опытных профессионалов, и решение проблем все больше отходит в их ведение.
-
2. С точки зрения К. Лэша, ранее социальные акторы находились во власти предустановленных правил поведения, исходящих от социальных институтов, а сегодня такая зависимость стала невозможной. Идентичность превращается в постоянный проект по конструированию и изменению самой себя. Теория К. Лэша связана с учением о «детрадиционали-зации», в рамках которого идентичность рассматривается как «самость», приобретающая рефлексивные и критические способности с учетом не столько одной традиции, сколько всех существующих традиций. Согласно замечанию К. Лэша, востребованные «идентичности» представляются чем-то, что «может надеваться и сниматься вроде костюма». Если они «свободно выбраны», то выбор «никак не связан более с обязательствами и последствиями», следовательно, «свобода выбора сводится к воздержанию от выбора».
-
3. В теории М. Кастельса глобализация и идентичность вступают в противоречие друг с другом. Силы, формирующие условия, в которых нам приходится противостоять тем или иным проблемам, находятся за пределами досягаемости любых институтов. «Иными словами, – заключает З. Бауман12, – проблема состоит не столько в том, как обрести избранную идентичность и заставить окружающих признать ее, сколько в том, какую идентичность выбрать и как суметь вовремя сделать другой выбор, если ранее избранная идентичность потеряет ценность или лишится ее соблазнительных черт». Мы зависим сегодня от глобальных факторов, но наши действия, как и прежде, локальны.
Парадоксальным выглядит «присоединение» в процессе идентификации, которое в бóльшей мере обозначает «отторжение» от другого – поиск идентичности расщепляет структуру и обособляет акторов. Идентичность фиксирует исчезающую возможность. Как отмечают З. Мелосик и Т. Шкудларек13, беда всех конструкций идентичности как раз и состоит в том, что «когда я достигаю цели, я теряю свою свободу; я перестаю быть собой, как только становлюсь кем-то». В современном мире свобода маневра поднимает-
Общество
ся до ранга высшей ценности – метаценности, т. к. обретение четкой идентичности может закрывать ряд потенциальных ресурсов, либо лишать права на их использование.
Классификация трансформирующихся идентичностей
При создании классификации идентичностей будем опираться на общую модель, предложенную М. Майклом, который в качестве оснований для классификации выделяет: а) исторический объем идентичности (временной период ее конституирования); б) принятые единицы анализа (совокупность переменных – социальных, исторических, культурных, дискурсивных, – которые образуют «объем» идентичности)14.
В любой социальной системе исторически развиваются процессы, направленные на формирование и поддержание идентичности. Временнáя перспектива социальной группы способствует ее идентификации и сохранению ее этоса (морали). Рассмотрение временнóго периода не входит в задачи нашего исследования, поэтому мы акцентируем внимание на тех ключевых переменных «объема», по которым можно предложить классификацию социальной идентификации. К наиболее значимым основаниям мы относим классификации: а) по уровню достижения (обретения); б) по отношению к объекту; в) по релятивному признаку (признаку относительности).
-
а) Классифицируя по признаку достижения (обретения) того или иного уровня, все идентичности можно рассматривать как полные (тотальные) или как частичные (парциальные) идентичности .
Тотальная идентичность достигается в случае однозначного слияния актора с обозначенным объектом с изменением конструкции и созданием общего демаркационного контура.
Парциальная идентичность предполагает процедуру дифференцирования объекта, результатом которой становится создание его дискретного представления (образа объекта с набором характеристик), синтез собственных обособленных характеристик (образа себя, как набора масок или ролей) и, наконец, сочетание отдельных компонент проведенной дифференциации. Существует множество примеров, когда человек не идентифицирует себя с какими-то определенными компонентами культуры. Так, человек, идентифицирующий себя как православный, может не ходить в церковь, не исполнять какие-либо религиозные предписания или даже не быть крещеным.
Terra Humana
Разновидностью парциальной идентичности может являться ограниченная (лимитированная) идентичность, проявляющаяся, по мнению Л.В. Ко-рель15, в том, что «если у определенных групп адаптантов близкое окружение невелико или отсутствует в силу каких-либо обстоятельств, а другие «социальные опоры» идентификации ослаблены (старые разрушены, новые не созданы), то это усугубляет деструктивную направленность адаптивного поведения, провоцируя возникновение социальной патологии разного вида».
Также к разновидностям парциальной идентичности относится идеалистическая идентичность, представленная «восходящим», «повышающим» вариантом отождествления индивида (предполагающим ориентацию на референтную или более высокую по статусу группу) либо «понижаю- щим» вариантом (например, освобождение от лишнего)16. В основном, предметом анализа в идеалистической идентификации выступает «образ», представленный: 1. образом для себя, представленным набором объективных (точнее, объективизированных) характеристик; 2. образом для других, который, насколько возможно, очищен от негативных черт; 3. образом в себе, отражающим подсознательный уровень, который обычно не осознается, но проявляется в кризисные моменты; 4. образом-компенсатором («Да, негативное было, но сейчас мы боремся, и в этом наша сила, положительное значение»). В данном случае можно признавать отрицательное, но пропагандировать в положительном ключе определенные черты (например, «Да, мы ленивые – но зато какие скромные, не выпячиваемся»).
Парциальность возникает и тогда, когда объект идентификации очень большой. Например, страна, все человечество, весь народ и т.д. являются крупными объектами, имеющими феноменологический статус и не поддающимися полной идентификации.
В случае утраты социальными общностями и отдельными акторами прежней социальной идентичности, когда не успевают сформироваться новые социальные ориентиры, исчезают надежные идентификаторы, образцы и идеалы, мы констатируем как отдельный вид невозможность социальной идентификации.
-
б) При классификации по объектному признаку можно выделить антропометрические, расовые, этнические, национальные, половые, гендерные, политические, религиозные, профессиональные, корпоративные и другие идентичности .
Сегодня наиболее востребованными идентичностями, с учетом их трансформации, являются идентичности, направленные не на постижение онтологического смысла или размещение социальных ценностей, принятие сообщества в целом, а на освоение необходимого ресурса для вхождения в тот или иной социальный пласт. Кризис интенсифицирует социальные идентификации личности, которая начинает отождествлять себя со своим народом (этнической группой), с социальным движением, с определенным кругом людей, отличающихся по имущественному состоянию и т. д. Возможно, данный процесс происходит из-за того, что группа (или иная общность) – более инертное, в отличие от индивида, социальное образование, выступающее в период быстрых социальных преобразований точкой опоры для личности. При этом идентификация может быть представлена широким спектром объектов, что находит выражение в гибридной идентичности (С. Холл).
Общество
Вышесказанное также свойственно для корпоративной идентичности , дающей универсальную защиту в меняющейся среде через тождество с определенной совокупностью акторов. Статус принадлежности к общности модифицирует личное отношение и социальные реакции, позиция конструируется достижением определенных уровней. Проявленная активность обладает определенным риском, и потому, используя корпоративные символы, знаки, специальную речь, стиль, манеру поведения и другие стандарты, выручающие нас при ошибке, мы сохраняем себя, свое имя, свою истинную идентичность.
Близкой по смыслу к данной классификации, но акцентирующей внимание на совокупные особенности организации идентичности и ее протекания, можно назвать ролевую идентификацию , к которой можно отнести выделенное множество классифицированных оснований объектного признака. Понятие построения роли (role-making) указывает на то, каким образом ожидаемое поведение строится и модифицируется в ходе взаимодействия. «Организация этих поддерживающих реальность отношений сложна и запутана, в особенности в высокомобильном обществе со значительной дифференциацией ролей»18. Кроме того, границу идентичности сегодня достаточно трудно определить – «членство» в совокупном консорциуме, как правило, является нефиксированным и объединяет большое число людей по совокупным основаниям, к которым можно отнести: нации, конфессии, партии, пользователей программного продукта или услуг и всю сетевую структуру современного мира в целом (Интернет, связь, телевидение, образование, туризм, клубы, магазины и пр.). Другая сторона данной классификации может быть представлена навязанной идентичностью (например, «лицо кавказкой национальности»), которая задается другими и часто несет негативную окраску.
-
в) В основе классификации может лежать релятивный признак, показывающий относительно чего происходит идентификация. В контексте нашего исследования мы сформулировали классификационный ряд социальных идентификаций по данному основанию.
«Нулевая», или нейтральная, идентичность : отказ от идентификации в условиях соприсутствия с другими. При этом виде идентичности актор размещает себя вне «поля» идентификации (человек исключает себя сам, или это делают другие). Для него неактуален процесс идентификации и его результат. При этом он осознает возможность такой идентификации.
Terra Humana
Значение негативной идентичности отмечается многими исследователями. «Формирование социальной идентичности, играющей важную роль в механизме конструктивных адаптаций, – отмечает Л.В. Корель22, – осуществляется в современных кризисных условиях по принципу «от противного»: люди скорее осознают, с кем они себя не идентифицируют, но труднее обретают чувство позитивной социальной групповой идентичности». Эту мысль продолжает И.Кубанов: «Каждое негативное состояние служит… базой для производства новых – позитивных – состояний, и материал для этих новых состояний черпается из исходных; иначе говоря, происходит трансформация, метаморфоз состояний». Далее автор говорит о двойственности получаемого результата: «…с одной стороны, исходное состояние, становясь строительным материалом, стирается; с другой стороны, новое состояние, которое возводится на его основе и месте, не обладает: 1) объектной референтностью (т.е. внешняя причина как бы отсутствует, мир во-вне как бы не имеет никакого отношения к этому новому состоянию); 2) оно все равно остается состоянием, и, более того, как некая форма, оно используется в целях защиты от… мира... Другими словами, новое состояние продуцируется как жесткая, ригидная форма, имеющая своей целью только одно: создать некое пространство, или лучше поверхность, на которой могла бы собраться индивидуальная форма и производилась бы ее самоидентификация»23.
Обратная (оппозиционная) идентичность предполагает активное противопоставление себя некоторому объекту или явлению в процессе идентификации. Обозначенная оппозиция характеризуется бинарностью: «Не это, а то». Несет элемент конструктивного, так как создает собственную идентичность по обратному образцу (от противного). Актор, зная, кем он является в данной структуре, создает ассоциативные связи и осознает противоположности.
Общество
«Брендовая», или субститутивная (от лат. substituo – замещаю), идентичность, выстраиваемая на основании замещения актора брендом (клич- кой, ником и др.). Бренд понятен и привлекателен для акторов, так как является продуктом данного социума. Он становится доступным ресурсом для субъекта, находящегося в кризисе идентичности, задавая собой границы, и позволяет актору минимальными средствами сконструировать устойчивую локальность. Присоединяя себя к бренду, субъект обретает большую маневренность в продвижении бренда, а значит и себя (он может даже утрачивать понимание реальности и своей самости, что является не только психологической проблемой, но и социальной). «Брендовая» идентичность определенным образом позволяет модулировать максимальный спектр ценностей, которые воспринимаются социумом как наиболее значимые. В то же время актор оставляет за собой или другими возможность (и право) дистанцироваться от «бренда», оставаться свободным, обладая значительным потенциалом для создания и активизации множества новых «идентичностей», в частности брендовых.
Сетевая структура современного общества приводит к изменению взгляда на проблему дистанции между социальными слоями, что актуализирует использование различных механизмов организации доступности к ним через процессы идентификации. Сегодня, обладая такими концентратами социума, как деньги, власть, свободное время, возможность перемещаться в пространстве со значительной скоростью, ресурсом и др., можно повысить уровень социальной включенности. «В конечном счете, легитимация идентичности, – говорят П.Бергер и Т. Лукман24, – происходит в том случае, когда она помещена в контекст символического универсума». Другими словами, выделенные нами концентраты социума сами выступают средством идентификации. «Брендовая» идентичность позволяет сочетать в себе полный спектр возможностей, потенциально заложенных в этих концентратах. Однако при помощи бренда более доступным становится и удержание социальной дистанции. Поэтому бренд довольно успешно использует элита, вводя его посредством моды, средств мультимедиа, IP-технологий и др. в социальную ткань повседневности. Этим же пользуются и аутсайдеры, используя собственный бренд, основанный на стигматизации: демонстрация болезни, горя, катастрофических событий и др. посредством одежды, стиля поведения, запаха, внешнего вида, стиля речи и пр. «Символический универсум устанавливает иерархию самовос-приятий идентичности – от «наиболее реальных» до наиболее мимолетных. Это значит, что индивид может жить в обществе, имея некоторую уверенность в том, что он действительно является тем, кем он себя считает, когда играет свои привычные социальные роли, при свете дня и на глазах значимых других»25.
Terra Humana
Мимикрирующая (симулятивная) идентичность, отражающая конформистские тенденции, характеризуется устойчивостью адаптивного поля. К основным показателям этого поля, выступающего привычным и находящегося в динамическом равновесии для актора, можно отнести сведение дезадаптивных процессов к минимуму. При этом идентификация осуществляется как и у всего окружения (идентичность по аналогии). Адаптивная стратегия, доведенная до высокого уровня, позволяет не ощущать насилия со стороны власти и других социальных структур, не попадать под тотальное влияние манипулятивных систем, сохранять собственные доминанты. «Два элемента – внутренняя неприязнь и внешнее преклоне- ние (не уважение, а зависимость) – образуют главные компоненты этого механизма конституции «Другого», других, социальных партнеров действующего (или пассивно терпящего)»26.
Осуществляя социальное движение по горизонтали и по вертикали социальных уровней (в пределах возможностей собственных ресурсов и социального потенциала), субъект осуществляет «плавающую» идентичность. Понижая статус одних и повышая значение других акторов социального пространства, он «выбирает» из предоставляемых ими возможностей необходимые для осуществления собственной идентификации. Социальная компетентность ничего не сообщает о культурных предпочтениях актора, она просто указывает на его умение «жить в двух» (или большем количестве) измерениях. В тех случаях, когда возможно использование различных норм, актор, обладающий поликультурной компетентностью, просто «переходит» с одного символьного языка на другой, от одного набора средств к другим. Идентифицируя себя с множеством элементов социального пространства, выступающих маркерами среды, актор начинает ощущать более устойчивую и явно определяемую конструкцию реальности. Находясь в диффузном состоянии идентичности, он обладает запасом выбора и осуществляет его.
Посредническая (медиативная) идентичность связана с осуществлением идентификации другого актора или общности (с которыми сам субъект не идентифицирован) с другими сообществами (быть представителем для конструирования чьей-то новой идентичности). В случае рассмотрения вопроса социальной адаптации, адаптант может «работать» и на адаптацию той социальной общности, к которой он принадлежит (идентификацию с которой не утратил), например, через лоббирование интересов сообщества в местных или федеральных органах власти.
Таким образом, «идентичность – это такая конфигурация значимых представлений действующего о себе и других, которая опосредует институциональный, групповой и индивидуальный уровни действия, удерживая определенность (тождественность) социальной личности в разнородном контексте противоречивых или альтернативных мотивов, интересов, интенций, желаний или социальных требований. Идентичность связывает институциональный план действия (то есть не просто код общепринятого поведения, а его закрепленность в праве и, стало быть, потенциально обязательный, обладающий принудительностью характер действия) и плоскость индивидуального существования и поведения»27.
В заключение отметим, что в настоящее время, когда появляются различные теории идентичности в социологии, необходим критический анализ с учетом уже существующих моделей. Сочетание глобализации условий жизни и ее «фрагментированности», атомизация и приватизация повседневных усилий становятся сегодня самоподдерживающимся процессом. «Именно на этом фоне должны изучаться как логика, так и повальная нелогичность современных «проблем идентичности» и действий, которые вызываются ими»28. Мы полагаем, что к социальным средствам адаптации личности относятся различные формы индивидуальной и групповой идентификации. Разнообразие требует адекватного (креативного) способа реагирования. Нетипичность элементов и
Общество
факторов культуры побуждает к жизнетворчеству, делает актуальным выбор из многочисленных потенций, обусловленных взаимодействием со средой.
Список литературы Социальная адаптация и проблема идентичности в глобализирующемся мире
- Клосковска А. Культурный полиморфизм и национальные стереотипы//Социальные и гуманитарные науки. Серия 11. Социология: Реф. журнал:РЖ: Отеч. и заруб. лит./Рос. акад. наук, ИНИОН. -М., 1997. №1.
- Бендл М.Ф. Кризис «идентичности» в эпоху высокого модерна//Социальные и гуманитарные науки. Серия 11. Социология: Реф. журнал:РЖ: Отеч. и заруб. лит./Рос. акад. наук, ИНИОН. -М., 2003. -№ 2.
- Гарфинкель Г. Понятие «доверия»: Доверие как условие стабильных согласованных действий и его экспериментальное изучение//Социальные и гуманитарные науки. Серия 11. Социология: Реф. журнал:РЖ: Отеч. и заруб. лит./Рос. акад. наук, ИНИОН. -М., 1999. -№4.
- Иконникова С.Н. Архитектоника и динамизм культурного пространства России//Гуманитарные науки. -СПб. -№ 2 (8). -1997.
- Lucmnann Th. Sociology of language. Indianapolis, 1975.
- Бахтин М.М.Эстетика словесного творчества. -М.: Искусство, 1979.
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. -М.: «Academia-Центр» Медиум, 1995.
- Бауман З. Индивидуализированное общество. -М.: Логос, 2002.
- Майкл М. Конструирование идентичностей: социальные, внечеловеческие и трансформирующие факторы//Социальные и гуманитарные науки. Серия 11. Социология: Реф. журнал:РЖ: Отеч. и заруб. лит./Рос. акад. наук, ИНИОН. -М., 1999.
- Корель Л.В. Социология адаптации: вопросы теории, методологии и методики. -Новосибирск: Наука, 2005.
- Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997-2002 годов. -М.: Новое литературное обозрение «ВЦИОМ-А», 2004.
- Кубанов И. Аффект и индивидуация (Достоевский и А.Белый)//Логос 2 (1999). -№ 12
- Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997-2002 годов. -М.: Новое литературное обозрение «ВЦИОМ-А», 2004.
- Кубанов И. Аффект и индивидуация (Достоевский и А.Белый)//Логос 2 (1999). -№ 12