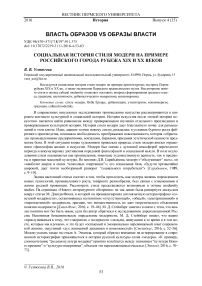Социальная история стиля модерн на примере российского города рубежа XIX и ХХ веков
Автор: Устюгова В.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Власть образов vs образы власти
Статья в выпуске: 4 (35), 2016 года.
Бесплатный доступ
Исследуется социальная история стиля модерн на примере архитектурных построек Перми рубежа ХГХ и ХХ вв., а также экспонатов Пермского краеведческого музея. Рассмотрение нового стиля в оптике cultural modernity позволяет поставить вопросы формирования среднего класса, традиции, идентичности, урбанистического модернизма, консюмеризма.
Стиль модерн, урбанизация, утилитаризм, консюмеризм, традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/147203765
IDR: 147203765 | УДК: 94(470+571)"18/19":911.375 | DOI: 10.17072/2219-3111-2016-4-53-63
Текст научной статьи Социальная история стиля модерн на примере российского города рубежа XIX и ХХ веков
В современных визуальных исследованиях произведения искусства рассматриваются в широком контексте культурной и социальной истории. История искусства после «новой истории искусства» пытается найти равновесие между приверженцами изучения отдельного произведения и приверженцами культурной истории. История стиля модерн дает благодатную почву для размышлений в этом ключе. Идеи, давшие толчок новому стилю, рождались в условиях бурного роста фабричного производства, возникала необходимость преображения повседневности, которая «обрастала» промышленными предприятиями, вокзалами, биржами, придания эстетической ценности предметам быта. В этой ситуации взоры художников привлекла природа, стиль модерн явился отражением «философии жизни» в искусстве. Модерн был связан с духовной атмосферой переходного периода и аккумулировал достижения передовой философской и социальной мысли. В поле исследования стиля оказываются как произведения, имеющие художественную ценность, так и предметы и практики массовой культуры. По мнению Д.В. Сарабьянова, модерн «“обслуживает” всех», он «наиболее широк в своих “классовых очертаниях”»; его социальная база, «будучи чрезвычайно широкой, дает почти необозримый разворот ”социального потребителя”» [ Сарабьянов , 1989, с. 9–10].
Задача настоящей статьи состоит в том, чтобы проследить, как модерн, являясь порождением новых технологий, промышленного роста, товарного разнообразия, был связан с изменениями в жизни русской провинции. Рассмотреть стиль представляется возможным в оптике modernity studies. На страницах «Нового литературного обозрения» не так давно была развернута дискуссия вокруг статьи М. Дэвида-Фокса, в которой он проанализировал англоязычную историографию «советской модерности», остановившись на понятиях «отсутствующей», «общей», «альтернативной» и «переплетенной» модерности, признав, что множественность не дает теоретического объяснения понятия модерности [ Дэвид - Фокс , 2016, с. 19–46]. М. Д. Стейнберг заметил в связи с этим, что анализ понятия мог бы быть иным, если бы автор обратился к исследованиям дореволюционной России. Вспоминая беньяминовское определение модерности, М. Д. Стейнберг пишет, что важно «прислушиваться к тому, что говорится» о модерности «людьми, живущими в то время и в том месте, которые мы изучаем», и это будет «осязаемый и эмоционально переживаемый опыт современной жизни», ощутимый «дух жизненной динамики и возможностей» [ Стейнберг , 2016, с. 52–56]. Можно указать также на отзыв А. Эткинда, который обратил внимание на игнорирование в современной историографии прижившегося в истории русской культуры слова «модерн». «К примеру, словосочетание “русская культура модерна” приятно колеблется между значением “культура Нового времени” и “культура модернизма”, объемля эти пересекающиеся смыслы» [ Эткинд , 2016, с. 70– 73].
В обширном поле изучения модерности выделяются исследования культуры модерна (cultural modernity), вызванной к жизни индустриализацией, быстрым расширением городов, растущим преобладанием среднего класса, изобретениями, меняющими повседневную жизнь, буржуазным вкусом на товары, богатством форм в рамках всего спектра художественных средств выразительности и новых медиа. Обслуживающий повседневность стиль модерн маркирует социальную проблематику: капитализм и социальное благоустройство, городская среда и средний класс, массовое производство и потребление, транснациональный оборот товаров, традиция в социальном сознании провинции. Для изучения социальной истории стиля модерн взяты архитектурные постройки Перми рубежа ХIХ и ХХ вв., а также экспонаты Пермского краеведческого музея, заключающие в себе «осязаемый и эмоционально переживаемый опыт современной жизни».
В историографии стиля большинство работ посвящено архитектурному модерну, среди них есть ставшие классическими [ Борисова, Стернин , 1990; Сарабьянов , 2001; Кириков , 2011; Кириллов , 2014; Нащокина , 2015]. Известны книги о модерне в литературе, музыке, фотографии, моде [ Перси , 2007; Скворцова , 2012; Модерн. Belle Époque, 2016]. Появились исследования провинциального модерна, в том числе архитектуры [ Крастиньш , 1988; Гуменюк , 2007; Найданов , 2013; Николаева , 2015]. Аналогичные труды имеются в западной историографии [ Loyer , 1997; Arwas , 2000; Pevsner , 2005; Wittlich , 2007; Ormiston , 2009]. Проблематика исследований расширяется, когда речь заходит об образе жизни «прекрасной эпохи». Визуальные образы выступают в широком контексте связей искусства и общества [ Silverman , 1989; Шорске , 2001; Boele , 2007; Иванова-Исаева , 2009; Kinghorn , 2012].
Стилистика модерна впервые была отмечена в печатной графике. Пропагандистами нового стиля стали художественные журналы, поэтому не случайно первые приметы стиля можно было наблюдать на страницах журналов и газет. В провинциальной прессе в стиле модерн начала печататься реклама парфюмерной фабрики «Брокар и Ко», фирмы «Какао Ван-Гутена» и даже высших курсов бухгалтерии «Бюро А.Н. Балягина». Впервые витиеватые линии модерна встречаются в 1899–1900 гг. и надолго остаются в газетной и журнальной периодике. В губернской столице получают распространение книги, оформленные в новом стиле, от классических и современных сочинений до сказок и нот.
Информационная революция начала ХХ в. связана с периодической и книжной продукцией, фотографией и кинематографом, а также с открыточным бумом. «Открытые письма», иллюстрированные почтовые открытки издавались огромными тиражами, являлись мобильным средством связи, не только содержали личное сообщение, но и имели «картинку», несли разнообразную информацию. Наряду с другими явлениями модерна открытки были новыми «технологиями взгляда», способствовали формированию мобильного модерного мира [ Урри , 2012, с. 450]. Многие открытки, представленные в Пермском краеведческом музее, имеют стилистику модерна [ Нащокина , 2004; Овсянников , 2005]. Э. Роули в книге «Открытые письма» рассматривает влияние открыток на формирование массовых представлений о государственной власти, национальной общности, городской повседневности, телесности, гендерных ролях в обществе модерна [ Rowley , 2013].
Экспансия не только произведений «технической воспроизводимости», но и декоративноприкладных искусств вызывает изменение всех аспектов творческого процесса и бытия произведения искусства. Эпоха модерна выдвигает фигуру художника-универсала – живописца, дизайнера, архитектора. С историей Перми и Пермской губернии связана судьба разных художников рубежа веков, в том числе братьев А. А. и П. А. Сведомских, П. И. Субботина-Пермяка, А. К. Денисова-Уральского. Среди них можно выделить А. Н. Зеленина. Он участвовал в оформлении журналов, вел педагогическую деятельность, занимался иконописью. По проекту А. Н. Зеленина в 1913–1915 гг. в селе Ныроб Чердынского уезда вокруг часовни, возведенной над местом содержания Михаила Романова, возведена художественная ограда. Каменные столбы-домики, украшенные майоликой, напоминают мотивы произведений В. Васнецова и И. Билибина, художников Абрамцева и Талаш-кина. Для своей семьи по собственному проекту художник построил два дома по Петропавловской улице, ныне не сохранившихся [ Спешилова , 2006, с. 13]. Произведения художника, представленные в Пермской государственной художественной галерее и Пермском краеведческом музее, свидетельствуют о его приверженности тематике «конца века» и стилистике модерна (волнистые формы растений, птиц, стилизованные обитатели «подводного царства»). Однако чрезвычайно характерен универсализм художника, занимавшегося и архитектурным, и прикладным творчеством.
Стиль модерн находил отражение в представлениях образованных и рафинированных кругов и входил в жизнь горожан-обывателей множеством предметов повседневного окружения и быта. Существование стиля связано с ускоренной модернизацией общества, развитием капитализма, изменениями в городской среде, социальным благоустройством. Рассмотрение стиля в оптике modernity studies предполагает обращение к архитектуре с ее возможностями использования новых технологий и материалов. Изучая феномен парижских пассажей, В. Беньямин в книге «Париж, столица ХIХ столетия» писал, что предпосылкой их появления был подъем текстильной промышленности и использование металлических конструкций в строительстве: «Железа избегают при строительстве жилых домов и используют его в пассажах, выставочных залах, вокзалах – зданиях, предназначенных для временного пребывания. Одновременно расширяется архитектоническая сфера стекла» [ Беньямин , 2000, с. 154]. На страницах «Пермских губернских ведомостей» публикуются статьи о небоскребах в Америке («небокребателях», как их тогда называли); открываются строительные бюро, принимающие заказы на сооружение железобетонных конструкций (бюро А. Б. Турчевича). О планировке города Перми П. И. Мельников-Печерский писал: «Он выстроен правильно, можно сказать, правильнее Нью-Йорка: ровные, большие кварталы, прямое и параллельное направление улиц и переулков бросаются в глаза» [ Мельников-Печерский , 2011, с. 41].
В архитектуре появлялись новые жанры и конструкции, генерировались «образы» будущего, оказывая влияние на привычный образ жизни людей. Ар нуво фиксирует инфраструктурный прогресс – строительство железнодорожных вокзалов, мостов. Железнодорожный вокзал Пермь I был возведен по типовому проекту санкт-петербургского архитектора П. П. Шрейбера в 1877–1878 гг. B. C. Верхоланцев писал: «По набережной, начиная от Соликамской улицы, все частные дома были сломаны. Вместо них появились довольно красивые обширные каменные здания вокзала и управления Уральской горнозаводской железной дороги. Благодаря приливу денег в руки местных промышленников и города, Пермь быстро улучшается с внешней стороны» [ Верхоланцев , 1994, с. 17– 18]. С появлением в начале XX в. нового вокзала Пермь II старый стал всего лишь небольшой станцией на пути проезжающих. Б. Пастернак в повести «Детство Люверс» вспоминал: «Это был вокзал провинциальный, без столичной сутолки и зарев, с заблаговременно стягивающимися из ночного города уезжающими, долгим ожиданием; с тишиной и переселенцами, спавшими на полу, среди охотничьих собак, сундуков, зашитых в рогожу машин и не зашитых велосипедов» [Пастернак, 1991, с. 44]. Здание вокзала с островерхими башенками, напоминающими старинный терем, являлось типичным образцом распространенного в зодчестве второй половины ХIХ века «русского стиля».
Напротив, при строительстве в начале столетия (открытие в 1909 г.) вокзала Пермь II не могли уже игнорировать архитектурные требования современности. На рубеже веков Пермский железнодорожный узел связывается с общероссийской сетью железных дорог и входит в состав Транссибирской магистрали. Автором проекта нового вокзала явился инженер И. Н. Быховец. Здание было оформлено огромным эллипсовидным окном в верхней части фасада, высокими арочными окнами, лепниной, имело характерные для модерна криволинейные формы. Декоративное решение фасадов и интерьера вокзала обнаруживало черты, сходные с архитектурными находками В. Орта и Г. Гимара. Создание единого гармоничного образа было провозглашено в качестве основного эстетического и социального постулата модерна. Воплощение в здании вокзала Пермь II новых принципов архитектоники, новых общественных задач выводили поиски регионального модерна на универсальный уровень.
Проводниками ценностей модерна являлись образование, печать, книги, выставки, воскресные чтения. Архитектура также «несла» знания и технологии «в массы». Со стилем модерн в Перми связана история учебных заведений, в том числе для низших слоев населения. А. С. Терехин к «модерну с национальным оттенком» относит здания женской гимназии, училища слепых, Кирил-ло-Мефодиевского общества [ Терехин , 1980, с. 46]. Своеобразный облик училищу слепых придает пристроенная к нему часовня (1890–1896, архитекторы Ю. Й. Дютель, В. В. Попатенко). Фасад пристроя украшен теремным крыльцом на высоких столбах, кокошниками, венчается колокольней. О. В. Старцева пишет: «Ощущение рукотворности форм необыкновенно важно для “национального” модерна. Все перечисленные приемы призваны воплотить лишь ассоциации с Древней Русью, заставить повеять “духом старины”, выразить новый взгляд на нее, что целиком связано с эстетическими концепциями модерна» [ Старцева , 1998, с. 143–144].
Вопрос о генезисе неорусского стиля остается спорным. Е. И. Кириченко, Д. В. Сарабьянов рассматривают неорусский стиль как направление, национально-романтическую ветвь модерна, напротив, Е. А. Борисова, М. В. Нащокина не отождествляют его с модерном. По мнению М. В. Нащокиной, стилистическая разница между версиями нового архитектурного стиля была совершенно очевидна, единым стилем они так и не стали. В глазах российского общества модерн оказался чужим, заимствованным, оторванным от развития отечественного зодчества; кроме стремления к диалогу и открытости России на рубеже веков было не чуждо и обратное движение – к сознательной национальной самоизоляции [ Нащокина , 2000].
«Русский стиль» был связан с развитием русского национализма как культурного движения в поздний имперский период. Впрочем, идея национальной идентичности была одним из краеугольных камней западной культуры ХIХ в. Ориентация на национальное прошлое представляет собой особенность и раннего европейского модерна (прерафаэлиты, Абрамцево). Как и русская икона [ Вздорнов , 1986; Шевеленко , 2013], древнерусская архитектура была важнейшим ресурсом культурного воображения рубежа ХIХ и ХХ вв. В поисках монументальной простоты русские архитекторы обратились к древним памятникам Новгорода и Пскова и к традициям зодчества Русского Севера. Европеизированное образованное сообщество рассматривало древнюю традицию как культурное основание национальной уникальности, особой культурной идентичности.
Распространением этих идей можно объяснить появление выразительных памятников национально-романтического стиля в провинции. Часовня в честь Казанской иконы Божьей Матери (1905–1908) сравнивается с церковью в Абрамцево; выдвигаются версии авторства Ю. Скавровско-го, В. Васнецова или В. Покровского; в оформлении принимали участие С. Вашков и Н. Рерих. В облике здания Кирилло-Мефодиевского общества (1911–1912, архитектор В. А. Кендржинский) сочетаются черты новгородской, псковской, московско-суздальской архитектуры ХVI–ХVII вв. [Архитекторы и архитектурные памятники…, 2003, с. 135–136]. Г. Д. Канторович замечает, что архитекторы «как бы заново увидели и показали пластичность русской архитектуры, красочную декоративность форм», он находит, что в здании Кирилло-Мефодиевского общества многое работает на «сказку» [ Канторович , 2000, с. 138–139]. Разработка сказочных, мифологических, эпических сюжетов характерна для культуры символизма и модерна, искусство приобретает черты условности, декоративности, призванной выразить фантазийный мир древнерусской культуры, показать глубину национальной традиции. В модерне переплетались современность и традиция, «изобреталась традиция» (по Э. Хобсбауму).
Создание нового, универсального, стилистического языка, не связанного с древнерусской храмовой традицией или ордерной системой, происходило в строительной практике геометрического модерна. Геометрический, или рациональный, модерн появился в Перми рано, один из первых его образцов – Ольгинское училище, возведенное В. В. Попатенко в 1896 г. По проектам архитектора были построены учебные заведения различных рангов: Первая женская учительская семинария, Императорское музыкальное училище (1901), Екатерино-Петровское училище (1903), ремесленно-учебные мастерские (1907–1909), Алексеевское (Стефановское) училище (1912–1913), Алексеевское (Насоновское) училище (1912) и др.
Здания некоторых училищ возведены с использованием «образцового» проекта, разработанного Министерством народного просвещения (проект Р. Р. Марфельда), и приспособлены архитектором В. В. Попатенко для городской программы школьного строительства (этим и объясняется раннее появление черт геометрического модерна в провинциальной строительной практике). Здания имеют асимметричную композицию фасада, построение объема по принципу «изнутри-снаружу», крупные окна, геометрический декор. Модерн основывался на принципе, согласно которому красота присуща самим зданиям и предметам, а не придается им в виде украшений. За этой идеей стояли потенциал новых архитекторов, инженерная мысль, технические разработки в строительстве. Архитектура модерна становилась все более отзывчивой и гибкой в использовании конструктивных и технических новшеств, все более разнообразной в жанровом отношении и демократичной.
Архитектура обывательских домов – показатель консерватизма провинции. Меценатами нового архитектурного стиля являлись буржуазные слои, что было обусловлено их стремлением к самоутверждению в качестве представителей экономической и культурной элиты. Законодателем моды модерна выступил частный особняк. Иллюзии модерна были связаны с буржуазной культурой комфорта, частного особняка, частной жизни, красивой обыденности. Особняк С. М. Грибушина – единственный из пяти сохранившихся домов «чай-сахарных королей». Он был построен по проекту А. Б. Турчевича в 1895–1897 гг., приобретен и перестроен С. М. Грибушиным в 1905 г. [ГАПК. Ф. 38. Оп. 4. Д. 33; Ф. 716. Оп. 1. Д. 765–766; Ф. 1658. Оп. 4. Д. 661]. Благодаря использованию архитектором приемов барокко, классицизма, ампира здание во многом эклектично. То же самое можно сказать о другой известной работе А. Б. Турчевича – особняке Е. И. Любимовой, ныне Театре юного зрителя.
В архитектуре ХIХ в. велика была роль классицизма и особенно ампира. М. В. Нащокина считает, что искусство классицизма имело четко обозначенный идеал – великое классическое искусство древних, его постоянное присутствие ощущалось и в послеклассический период [Нащокина, 2000]. В московском модерне были представлены реминисценции западной архитектуры – средневековья, готики, романтизма. Новая архитектура и интерьеры были ориентированы на создание эстетизированного, мифологизированного пространства. Буржуазная элита творила миф о себе, каждый столичный особняк – выставочный образец, целая программа модерна. Провинциальный модерн не носил программного характера и заявлял скорее о континуальности воспроизводства традиционных моделей жизни, быта, повседневности, потребления.
Универсализм стиля нашел выражение в потребительской культуре, массовом потреблении товаров стиля. В стиле модерн возводились гостиницы, торговые учреждения, магазины. Примерами служат магазин рижского Товарищества «Проводник», Торговый дом купцов Ижболдиных (1890-е и 1909–1910 гг. соответственно, архитекторы А. Б. Турчевич или П. К. Гаврилов), «Королевские номера» (1910, архитектор Е. И. Артемьев). Фабричный способ производства товаров, революция в сфере потребления приводят к мобильности социальной стратификации, возникновению внесословного уровня коммуникации. Получил распространение феномен универсальных магазинов, торговавших разнообразными товарами – от чаев до галош. Товарищество «Проводник» славилось резиновыми изделиями, но торговали в магазине дамским, мужским и детским платьем, мехом, ватой и пухом. Здание магазина в Перми имеет причудливый фронтон с вытянутым эллипсовидным окном; массивные четырехгранные полуколонны выделяют угловой, главный, фасад здания, который прежде венчала башенка; в декоре использованы лепные элементы – львиные головы, маскароны, розетки [ Старцева , 1998, с. 144]. «Торговый дом купца Дмитрия Григорьевича Ижболдина с сыновьями» также занимался мануфактурной торговлей по всей стране [ Спешилова , 1999, с. 176–178]. Особенностью здания являются большие оконные проемы, пышная лепнина фриза и аттик, венчающие скошенный угол. Инженерный и архитектурный потенциал модерна по прежнему сочетался с традиционным богатым декором.
Модерн распространялся через индивидуальный и социальный быт, способствуя формированию современных представлений о культуре общества. Железобетонные конструкции использовались в строительстве мостов, перекрытий вокзальных перронов, больших городских рынков, промышленных зданий. Здания каркасных конструкций не нуждались в украшениях, заимствованных из традиционного арсенала. К таким зданиям можно отнести одну из первых построек с применением железобетонной конструкции в Перми – дом Инженерного товарищества, возведенный по проекту К. П. Икорского в 1910 г., или образец промышленного модерна – здание пивоваренного завода, выстроенное в начале 1910-х гг. по заказу Ижевской пивоваренной компании по проекту П. К. Гаврилова.
Со стилем модерн связана разработка нового типа зданий – кинотеатров, собиравших в начале века все слои населения. Первоначально под крышей одного здания располагались разные социальные и культурные институты, например, театр «Триумф» обосновался в здании Инженерного товарищества. Трехэтажный дом Инженерного товарищества имел центральное отопление, парад- ный подъезд, широкую лестницу «во все этажи». Кинозал в «Триумфе» вмещал в себе «чуть не целый театральный партер», две ложи [ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 27. Л. 549, 647; Ф. 716. Оп. 1. Д. 248– 249]. «Стены и потолок оштукатурены, раскрашены и расписаны в новом стиле» [Строительный рекорд в Перми, 1910, с. 3]. В фойе был установлен электрический фонтан, перед театром горела световая реклама. Впоследствии «Триумф» переехал на Покровскую улицу. Дом был построен предпринимателем И. М. Журавлевым специально для кинотеатра [ГАПК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 27. Л. 588]. В специально возведенных зданиях открылись электротеатры «Аполло» и «Прогресс». Электротеатры ориентировались на театр как эталон архитектуры, превосходя в некоторых случаях этот эталон своим убранством.
Стиль модерн сразу же выходит за рамки изящных искусств, предвосхищая новые формы в декоративно-прикладной и коммерческой сфере. В. Мейерхольд в 1907 г. замечал, что Art nouveau и Modern style теперь всюду – «на тросточках, на домах, в кондитерских и на плакатах» [ Мейерхольд , 1968, с. 165]. Широкое потребление продукции стиля позволяет говорить о растущем влиянии среднего класса, приобщении провинции к транснациональному обороту товаров. В то же время модерновые вещи позволяют судить об индивидуальных предпочтениях горожан.
Появление стиля модерн способствовало широкой постановке проблемы дизайна, и у средних слоев городского населения возник интерес к художественной отделке домов. Строительный бум с использованием новых технологий породил моду на стекло. Например, магазин А. И. Кудряшова в Перми предлагал разнообразное стекло – «зеркальное, легерное, бемское, цветное, прессованное, рифленое, трафаретное и полубелое лучших фабрик; иллюминаторы и стеклянные кирпичи “Фальконье”». А. И. Кудряшов имел честь уведомить покупателей об «огромном выборе обоев, бордюров, фризов, панелей, фонов всевозможных стилей и рисунков русских и заграничных фабрик» [Реклама, 1910]. В газетах размещались объявления о продаже «золоченой» мебели в стиле рококо, гостиной «красного дерева с бронзой стиль “Модерн»”», кабинета «красного дерева стиль “Жакоб”».
Многие изделия стиля, собранные в Пермском краеведческом музее, имеют местное происхождение. При Юговском медеплавильном заводе Пермского уезда существовал мебельностолярный промысел. Мебель юговских кустарей имела распространение на Урале и в Сибири, вплоть до Харбина. На уральских заводах (Каслинском, Билимбаевском, Кусинском) по моделям П. К. Клодта, Е. А. Лансере, А. Л. Обера, Ф. П. Толстого создавались образцы художественного литья. Вершиной искусства каслинских мастеров явился чугунный павильон-дворец по проекту Е. Баумгартена, получивший «Гран-при» на Всемирной Парижской выставке 1900 г. [ Пешкова , 1983, кн. 1, с. 18–21]. Некоторые экспонаты музея отсылают к местным торговым домам – «Торговому дому М. И. Грибушина Н-ки», кондитерской фабрике «Кама» В. В. Судоплатова в Перми, «П. С. Досманов в Перми. Китайский чай». Рост конкуренции на рынке был связан с необходимостью продавать товар и воздействовать на покупателя упаковкой, оформлением товара.
В домах обывателей стояли пианино фирмы «Smidt & Wegener», рояли фабрики «Muhlbach», граммофоны фабрик Берлина. В Пермском краеведческом музее собрана уникальная коллекция светильников. Это изделия из фарфора, фаянса, стекла, на лампах есть фирменные знаки фабрик Отто Мюллера и Эриха Гретца в Берлине, Хуго Шнайдера в Лейпциге, братьев Брюннер в Вене [Светильники, 1990, с. 8–9]. Некоторые предметы обеденного стола, кофейники, сахарницы, молочники, выполненные из латуни и посеребренные гальваническим способом, произведены в Королевстве Польша, имеют клейма фирм Норблин, Фраже и др. Эти вещи имели широкое бытование; по свидетельству хранителя коллекции Натальи Краснослободской, большинство предметов польской гальваники было найдено на развалинах деревянных частных домов по Петропавловской, Монастырской и другим центральным улицам Перми. Вещи придают времени рельефность и объемность. Они свидетельствуют о кругообороте товаров и идей модерна, о ценностях эстетизма, пользы, консьюмеризма.
Сегодня разрабатываются новые подходы к изучению вещей, которые «конструируют» человека и его эмоции, играют различные социальные роли. Экспонаты Пермского краеведческого музея помогают воссоздать вещный мир стиля модерн, сообщают о разнообразии связей со вкусами владельцев, рисуют облик самих хозяев. Каждый отдел краеведческого музея раскрывает свои грани эпохи. Фонд металла сохранил вещи, декорированные узнаваемыми мотивами стиля модерн, но, главное, эти вещи свидетельствуют о характере повседневной жизни горожан, статусе их владель- цев, социальных отношениях. Образцами стиля являются металлическая копилка, оформленная в виде сейфа и украшенная изогнутым растительным стеблем, или бронзовый колокольчик для вызова слуг, сделанный в виде модернового цветка. Мир письменного стола говорит об интересах не мещанской среды, а интеллигенции, чиновников. На письменном столе стояли чернильницы, карандашницы, канделябры, всевозможные осветительные приборы. Чернильницы имеют разный состав предметов, необычен декор. Например, одна подставка для чернильницы оформлена в виде «домика» с отгибающимися «оградками». Она поступила в музей от пермского архитектора и историка А. С. Терехина. Внимание привлекает чернильница в виде пенька, у подножья которого лежит цветок с изогнутыми длинными листьями. Причудливая асимметрия этого изделия воплощает стиль своего времени.
Образцы осветительных приборов рубежа веков имеют силуэты характерных для модерна плавных, тягучих линий и декорированы изображением экзотических цветов с их вычурными, утонченными формами. Подвесной свечной фонарь темно-розового матового стекла, восходящий своей формой, по словам хранителя коллекции Елены Артищевой, к излюбленному стилем модерн цветку чертополоха, вошел в коллекцию предметов, собранных во время экспедиции у бывших служащих Шпагинских мастерских и железнодорожных станций в Перми. Еще один подвесной свечной фонарь-люстра имеет сферический корпус молочного стекла и украшен цветочной росписью: на голубоватом фоне изображены розовые маки с тонкими изогнутыми стеблями. Подвесной фонарь принадлежал семье пермского провизора Д. Д. Булдакова и профессора А. Г. Генкеля.
Осветительные приборы органично входили в интерьер «бель эпок», становились принадлежностью быта состоятельных горожан, подчеркивали разнообразие вкусов городских элит. Лампы, бытовавшие в крестьянских домах и рабочей среде, проще и скромнее, как, например, представленные в музее лампы-ночники, одна из которых поступила из деревни Пермского уезда, другая – из поселка рабочих-шахтеров луневских каменноугольных копий. Вместе с тем и они имеют замысловатую грушевидную форму и декорированы цветочным орнаментом в стиле модерн.
В фонде декоративно-прикладного искусства хранятся сервизы или отдельные образцы фабрик Кузнецовых, Гарднера, братьев Корниловых. Так, представлены два гарднеровских сервиза: большой столовый и маленький чайный для кукол, декорированные одинаковым букетом из васильков и колосьев с порхающим мотыльком. Стиль модерн был метонимичен по отношению к обществу, продукция в этом стиле встречалась во всех сословиях, среди людей разных возрастов. Чрезвычайно популярными в «прекрасную эпоху» были изделия из бисквитного фарфора. Из семьи священника Д. А. Затопляева, жившего в Перми и служившего в Рождество-Богородицкой церкви, в музей поступила ваза. Если воспользоваться описанием хранителя коллекции Е. Артищевой, то эта ваза из тонированного бледно-зеленого «бисквита», асимметричная, неровной имитирующей рябь на воде поверхности. С одной стороны у вазы ручка в виде стебля водяной лилии, с другой – фигурка девушки с длинными волосами из белого «бисквита». Эти изделия сохранили для нас вкус модерна к мелким деталям, интерес к мягкой пластике форм, нежным оттенкам цвета, той самоценной красоте, которая стала достоянием быта.
Согласно одному из определений стиля в нем явлено стопроцентно «социальное», выдающее себя за стопроцентно «эстетическое». В XIX в. вместе с развитием промышленного производства происходит развитие профессионального художественного моделирования костюма, создаются первые Дома моды. В пермской губернской прессе печатались статьи о европейских институтах красоты: «Мученичество ради красоты», «Барышни – манекенщицы», «Как создается дамская мода?» Массовый выпуск швейных машин и модных журналов с прилагающимися выкройками и образцами одежды позволял женщинам шить самим. Источниками социального конструирования выступали журналы «Chiffons», «Les Grandes de Paris», «The Latest Noveltg Lux», «Венский шик», «Модный свет», «Русский базар», «Модистка», «Декольте» и др.
Конструктами женской моды были реклама, журналы, фотографии, кинематограф, они же являются источниками, позволяющими нарисовать портрет дамы начала века. Не менее красноречивыми оказываются вещи, дающие возможность реконструировать стиль с «местным акцентом». Силуэт S-образной формы достигался в модерне с помощью корсета и жабо [Стил, 2010]. В Пермском краеведческом музее сохранился ряд экспонатов, демонстрирующих тенденции нижнего дамского белья: корсеты, нижние юбки, чулки. Например, корсет производства Бельгии (Брюссель) конца ХIХ в. изготовлен из сатина бежевого цвета с пластинами из китового уса, на подкладе име- ются штампы «Baleine Garantie» и «Manufacture B.H. de Bruxelles»; предмет принадлежал семье купца К. И. Казанцева. Этот корсет сочетается с нижней юбкой, двухслойной, из кремового шелка и вышитого тюля, дополненного аппликацией. Нижнее белье относится к малозаметной сфере жизни, но белье в стиле модерн «визуально», олицетворяет роскошь и красоту. В начале века появились корсеты из трикотажа; гигиеническое белье становится частью спортивного костюма и повседневного быта среди поклонников здорового образа жизни [Шапиро, 2016, с. 174–193]. Корсет из светло-голубого шелкового трикотажа в музейной коллекции сделан в виде широкого пояса из двух половин, соединенных белой хлопчатобумажной шнуровкой.
В фонде тканей музея представлены дамские платья рубежа веков. Самым ярким экспонатом является свадебное платье 1899 г., в котором Августа Космортова венчалась со служащим железной дороги Пахомом Афанасьевичем Космортовым. По описанию хранителя коллекции Татьяны Муруевой оно состоит из лифа и юбки, сшито из тафты бронзового света; на подкладе имеются фабричные штампы «Мануфактура учредителя Захара Савича Морозова». Свадебное платье с буфами рукавов и богатым шлейфом демонстрирует тенденцию моды конца века: разделение женской фигуры по талии, лиф с напуском спереди, валик турнюра от несколько завышенной сзади талии. Еще одно подвенечное платье-парочка датировано 1906 г., оно сшито по заказу в Перми из матового жаккардового шелка цвета топленого молока и декорировано газовым кружевом и вышивкой.
Модными тканями были шелковые: шифон, тафта, крепдешин, муслин, парча – и мягкие переливчатых тонов: плюш, репс, бархат, велюр. В пермских магазинах встречались тармалама, креп-буа, бархат имир, вуаль-де-суа, фай-дешин, шантеклер, французский муслинет, бумажные гейши. В моде стиля модерн ленты, кружево, вышивка, банты, оборки, плиссе, сутаж – все, что вызывало ассоциации с природными «женственными» формами (лебедя, бабочки, орхидеи) и формировало соответствующие модели телесности, идентичности. «Прошивки и отделка из льняного, неотбеленного кружева великолепно подходили к летним, дачным вещам чеховской поры», – отмечает А. Васильев [ Васильев , 1998, с. 11]. Мода начала века романтична, в ней выражена ностальгия по чеховским вишневым садам.
В Пермском краеведческом музее сохранились образцы аксессуаров «бель эпок» – воротнички, перчатки, митенки, сумочки, кружевные зонтики. Важным аксессуаром дамской моды являлись шарфы, накидки, палантины. Например, в коллекции тканей представлен палантин из тюлевой сотой сетки, все поле которого вышито лентой тонкой металлической фольги золотого цвета в неорусском стиле. Изделия в таком же стиле встречаются на фотографиях в альбоме В. Васильева «Красота в изгнании». О распространении моды ả la russe пишет также Кристин Руан в книге «Новое платье империи» [ Руан , 2011]. Аксессуары принадлежали женщинам разных сословий, так, летний зонтик, двухслойный, нижний слой фестончатый, верхний из белого тюля с вышивкой, принадлежал семье мастерового Мотовилихинских заводов.
Гимн любви к деталям – женские поясные пряжки, булавки для шляп, при этом даже маленький декоративный крючок несет отпечаток ведущего стиля. Венчали дамский гардероб в стиле модерн ставшие притчей во языцех невероятных размеров шляпы, которые украшались цветами, бантами, перьями, вуалью. В декоративно-прикладном фонде сохранилась шляпная булавка, представляющая собой заостренный стальной стержень с декоративной головкой в виде полого ажурного шара, вокруг которого обвилась змея. Угрожающее и опасное для посетителей синематографов приспособление.
Вместе с тем изменялись условия жизни и труда, развивался транспорт, все больше людей стремились получить образование и сменить место жительства, массовое распространение получил спорт. И женская мода становилась все более практичной. Реклама магазинов в Перми гласила: «готовое платье», «обширный выбор готового мужского, дамского, детского верхнего платья».
В женском гардеробе присутствует домашняя одежда – матине, пеньюар, халат с рукавами кимоно. В коллекции музея женское утреннее платье сшито из коленкора с набивным рисунком и преобладанием малинового, розового, черного, голубого, зеленого цветов; краски яркие, восточные, покрой свободный. Ориентализм достигает своего пика во время сезонов Русского балета С. Дягилева. Балеты в оформлении Л. Бакста оказали большое влияние на П. Пуаре, который создает широкие брюки в гаремном стиле. Вскоре о дачных нарядах горожанок репортер свидетельствовал: «Дачные поезда и пароходы были совершенно переполнены нарядной публикой. Доминировал, конечно, дамский элемент, в своих ослепительно-белых “отуреченных” костюмах, в которых нижняя туника успешно конкурирует с турецкими дамскими шароварами» [Дачная жизнь, 1915, с. 3].
Пермский модерн служит доказательством того, что историко-художественное понятие стиля содержит в себе характеристику не только стиля искусства, но и стиля самой жизни «бель эпок». Черпая вдохновение в непослушных линиях природы, восхищаясь восточным искусством, художники рубежа ХIХ и ХХ вв. постарались вырваться из оков «старых» стилей. Art nouveau стал синонимом свободы, обновления, преображения. Распространяясь посредством тиражной графики, новый стиль сумел адаптироваться в архитектуре, прикладном искусстве, дизайне интерьеров, мебели, предметов быта, моде. Модернизация декоративного искусства рассматривалась в качестве стимула социальных изменений, источника обретения новых жизненных возможностей. Творческий потенциал модерна стоял за художественной и буржуазной элитой. Однако благодаря распространению новых медиа, изменениям в городской среде, строительству железнодорожных вокзалов, мостов, учебных заведений, торговых домов, кинотеатров, церквей перемены ощутили все городские слои. Стиль нашел универсальное выражение в потребительной культуре, кругообороте товаров и идей. Социальная активность искусства модерн раскрывается в городской повседневности, индивидуальном быту. Вместе с тем рубеж веков – это время массового производства традиций. Стиль модерн несет шлейф затянувшегося ХIХ в. Ар нуво заключал в себе романтическую реакцию на модерные ценности. Провинциальная архитектура наряду с новыми технологиями сохраняла приверженность традиционным стилям и декору. Рациональность и использование новых материалов сочетались в модерне с орнаментацией и излишествами. Консервативность и ностальгию по буколическим временам демонстрировала дамская мода. Тем не менее в условиях быстрого роста городов и доступности товаров формируется слой городских жителей, который предъявил спрос на изящные вещи; стиль модерн выступает маркером среднего класса. Заметно изменилось положение женщины в обществе, «новая женщина» – источник вдохновения художников и дизайнеров ар нуво. Эстетические и утилитарные функции искусства модерн проникнуты мироощущением индивида как социального феномена.
Список литературы Социальная история стиля модерн на примере российского города рубежа XIX и ХХ веков
- Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья. Пермь, 2003
- Беньямин В. Париж, столица ХГХ столетия//Беньямин В. Озарения. М., 2000
- Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. М., 1990
- Васильев А. Красота в изгнании. Творчество русских эмигрантов первой волны: искусство и мода. М., 1998
- Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. М., 1986
- Верхоланцев B.C. Город Пермь: его прошлое и настоящее. Пермь, 1994.
- Гуменюк А.Н. Стиль модерн в архитектуре Омска. Омск, 2007.
- Дэвид-Фокс М. Модерность в России и СССР: отсутствующая, общая, альтернативная или переплетенная?//Нов. лит. обозрение. 2016. № 140
- Иванова-Исаева Т. Жизнь в стиле Гранд Отеля Европа. СПб., 2009
- Канторович Г.Д. Архитектура Перми на рубеже ХГХ-ХХ вв.//Пермь от основания до наших дней. Пермь, 2000
- Крастиньш Я.А. Стиль модерн в архитектуре Риги. М., 1988.
- Кириков Б.М. Архитектура петербургского модерна: общественные здания. СПб., 2011
- Кириллов В.В. Архитектура «северного модерна». М., 2014
- Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. М., 1968. Ч. 1
- Мельников-Печерский П.И. Дорожные записки//По Каме и Уралу: путевые записки ХХ-ХХ вв. Пермь, 2011
- Модерн. Belle Epoque//История моды: еженедельное издание. М., 2016. № 2
- Найданов Г.А. Модерн Оренбурга. Оренбург, 2013.
- Нащокина М.В. Московский модерн. СПб., 2015.
- Нащокина М.В. Судьба мимолетного стиля//«100 лет петербургскому модерну»: матер. науч. конф. СПб., 2000. URL: http://www.archi.ru/publications/articles/nash_mod.htm (дата обращения: 19.08.2016).
- Нащокина М.В. Художественная открытка русского модерна. М., 2004
- Николаева Н.А. Северный модерн в Выборге. СПБ., 2015.
- Овсянников А. И. Губернский город Пермь на иллюстрированной почтовой открытке 1899-1917. Екатеринбург, 2005
- Перси У. Модерн и слово: стиль модерн в литературе России и Запада. М., 2007
- Пешкова И.М. Искусство каслинских мастеров: в 2 ч. Челябинск, 1983
- Реклама//Перм. губерн. ведомости. 1910. 13 марта, № 57; 14 марта, № 58
- Руан К. Новое платье империи: история российской модной индустрии, 1700-1917. М., 2011
- Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М., 1989, 2001.
- Светильники. Коллекция осветительных приборов Пермского областного краеведческого музея. Пермь, 1990
- Скворцова И.А. Стиль модерн в русском музыкальном искусстве рубежа XIX-XX веков. М., 2012.
- Спешилова Е.А. Алексей Нестерович Зеленин. Художник. Иконописец. Педагог. Пермь, 2006.
- Спешилова Е.А. Старая Пермь. Дома. Улицы. Люди. 1723-1917. М., 1999.
- Старцева О.В. Стиль модерн в архитектуре Перми//Два рубежа. 100-летнему юбилею «Мира искусства». Пермь, 1998
- Стейнберг М. Д. О понятии модерности//Нов. лит. обозрение. 2016. № 140
- Стил В. Корсет. М., 2010
- Строительный рекорд в Перми//Перм. губ. ведомости. 1910. 6 янв., № 4
- Терехин А.С. Пермь: Очерк архитектуры. Пермь, 1980.
- Урри Дж. Мобильности. М., 2012
- Эткинд А. Обратимая современность//Нов. лит. обозрение. 2016. № 140
- Шапиро Б. Феминизация спорта и женское белье. К истории спорта Belle Epoque//Теория моды. 20152016. № 38
- Шевеленко И. «Суздальские богомазы», «новгородское кватроченто» и русский авангард//Нов. лит. обозрение. 2013. № 124
- Шорске К.Э. Вена на рубеже веков: политика и культура. СПб., 2001
- Arwas V. Art Nouveau: From Mackintosh to Liberty: The birth of a style. London, 2000
- Boele V. Art Nouveau during the reign of the last tsars. Aldershot, 2007
- Loyer F. Art Nouveau in Catalonia. Evergreen, 1997
- Kinghorn J. The Atlantic transport line, 1881-1931: a history with details on all ships. London, 2012
- Ormiston R. Art Nouveau: posters, illustration & fine art from the glamorous fin de siecle. London. 2009
- Pevsner N. Pioneers of modern design: from William Morris to Walter Gropius. New Haven; London, 2005
- Silverman D.L. Art Nouveau in fin-de-siecle France: Politics, Psychology and Style. Berkeley, 1989
- Rowley А. Open Letters: Russian Popular Culture and the Picture Postcard, 1880-1922. Toronto, 2013.
- Wittlich P. Art-nouveau Prague: forms of the style. Prague, 2007
- Дачная жизнь//Перм. губерн. ведомости. 1915. 10 июля, № 182