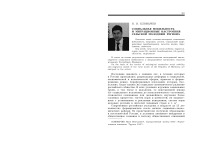Социальная мобильность и миграционные настроения сельской молодежи региона
Автор: Климычев Иван Викторович
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Социология региона
Статья в выпуске: 4 (85), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе результатов социологических исследований анализируются социальная мобильность и миграционные настроения сельской молодежи Республики Мордовия.
Сельская молодежь, социальная мобильность, социальный лифт, миграция, регион, рыночные преобразования, качество жизни, образование, занятость
Короткий адрес: https://sciup.org/147222661
IDR: 147222661
Текст научной статьи Социальная мобильность и миграционные настроения сельской молодежи региона
В статье на основе результатов социологических исследований анализируются социальная мобильность и миграционные настроения сельской молодежи Республики Мордовия.
On the basis of the results of sociological researches social mobility and migration moods of the rural youth of the Republic of Mordovia are analysed in the article.
Последние двадцать с лишним лет, в течение которых в России проводились радикальные реформы в социальной, экономической и политической сферах, привели к формированию новых, пореформенных поколений, которые, безусловно, будут влиять на социально-экономическое развитие российского общества. В этих условиях изучение социальных групп, в том числе и молодежи, ее повседневной жизни (от социального положения до психологического состояния), становится основанием для дальнейшего изучения более сложных процессов: систем норм и ценностей; их взаимосвязи с установками и реальным поведением; систем норм молодых россиян и жителей западных стран и т. д.1
Современная российская молодежь в возрасте до 25 лет личностно формировалась после начала социально-экономических реформ. Ее представители получили образование в постсоветской России, в условиях активного внедрения в общественное сознание и систему общественных отношений
КЛИМЫЧЕВ Иван Викторович, корпоративный тренер ООО «Управляющая компания “Группа ГАЗ”».
либеральных ценностей, «а активная вторичная социализация этой возрастной когорты проходила в “путинскую эпоху”»2. Важно иметь в виду, что молодежь в возрасте от 26 до 35 лет — это совершенно другое поколение россиян. Ее формирование и социализация проходили в условиях разных периодов трансформаций — «ельцинского» и «путинского»3. Каждому из этих периодов свойственны различные виды социальной мобильности молодежи.
Под социальной мобильностью понимается любой переход индивида или социального объекта (ценности), то есть всего того, что создано или модифицировано человеческой деятельностью, из одной социальной позиции в другую4. Это перемещение общностей, групп и индивидов по социальному пространству. Высокий уровень социальной мобильности населения является гарантией его социальной защищенности. Социальная мобильность населения свидетельствует об открытости и подвижности общества, а также о его устойчивой стабильности5.
Рыночные преобразования в России сопровождаются ускоренной социальной мобильностью населения, которая имеет в основном нисходящую и горизонтальную направленность. Основными причинами этого процесса, на наш взгляд, являются существенное снижение уровня жизни большинства россиян, прогрессирующая поляризация населения по доходам и ярко выраженное неравенство социальных возможностей для людей разных социальных групп. Несмотря на то что качество жизни является важнейшим приоритетом социально-экономического развития страны, недавно бесспорность этой идеи не была столь очевидной. Значительные просчеты в проведении реформ, особенно экономических и социальных, обусловили то, что последние два десятилетия XX в. стали периодом социального упадка и деморализации. Прежде всего это отразилось на сельских жителях. Негативные социально-экономические последствия реформ в виде явной и скрытой безработицы, обесценивания труда, сокращения финансирования социальной инфраструктуры негативно повлияли на облик сельской местности6.
Важная особенность динамизма современной социальной мобильности — существенное изменение системы критериев оценки успеха и нарастание тенденции распространения неинституционализированных каналов социальной мобиль- ности. Поэтому необходимо выделить ряд тенденций, характеризующих ее активизацию: социальную поляризацию (расслоение на богатых и бедных); углубление социальной и имущественной дифференциации; массовую нисходящую социальную мобильность; массовую смену места жительства работниками умственного труда. Кроме того, следует отметить существенную сегментацию рынка труда7.
Изменения половозрастной структуры населения оказывают существенное влияние на динамику демографических процессов. Несмотря на то что в республике ежегодно рождается больше мальчиков, чем девочек, на 1 января 2011 г. в Мордовии на 1 тыс. мужчин приходилось 1 182 женщины (в городской местности — 1 239, в сельской — 1 099). Стабильное превышение численности женщин над численностью мужчин начинается в возрасте 40 лет. Основной причиной малочисленности мужчин является высокая смертность, прежде всего в трудоспособном возрасте (41,1 % от общего числа умерших мужчин). С увеличением возраста разница становится более значительной. Численность детей и подростков в возрасте до 15 лет уменьшилась на 0,8 тыс. чел., или на 0,7 %. Доля населения моложе трудоспособного возраста составила 14,3 % от общей численности населения (118,2 тыс. чел.). Численность лиц трудоспособного возраста за предыдущий год снизилась на 8,2 тыс. чел. и составила 516,8 тыс. чел. (62,5 % от общей численности населения). Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения составлял 23,2 % (191,5 тыс. чел.). Численность этой возрастной группы по сравнению с 2009 г. увеличилась на 2,5 тыс. чел.
Самый низкий удельный вес населения моложе трудоспособного возраста в общей численности отмечается в Кочкуровском муниципальном районе (12,0 %), наибольший показатель зафиксирован в Атюрьевском (17,1 %). Более 30 % от общей численности населения приходится на долю лиц старше трудоспособного возраста в Большеберезниковском, Ковылкинском, Дубенском и Темниковском муниципальных районах. Наибольший удельный вес населения трудоспособного возраста в общей численности отмечается в Зубо-во-Полянском (69,2 %), Лямбирском (63,4 %) районах и в городах республиканского подчинения (Саранск — 65,1 %, Ковылкино — 62,4 %, Рузаевка — 61,5 %), а самый низ- кий — в Большеберезниковском (52,6 %), Дубенском (54,7 %) и Ковылкинском (55,1 %) муниципальных районах8.
Ученые всегда уделяли внимание молодежи. Однако проблемы сельской молодежи периода радикальных социально-экономических и идеологических трансформаций не часто становились предметом их внимания. В январе — марте 2012 г. на территории Республики Мордовия нами проведено социологическое исследование «Проблемы социального самочувствия, ценностных ориентаций сельской молодежи и ее отношение к государственной молодежной политике». Объем выборочной совокупности составили 1 056 чел. В опросе для выявления социальных характеристик сельской молодежи приняли участие респонденты различных половозрастных групп, относящихся к категории «молодежь». Социальнодемографические характеристики выборочной совокупности в основном отразили социальную структуру молодежи республики. Большую часть анкетируемых составили молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет (59 % от общего числа опрошенных). Второй по численности оказалась категория людей в возрасте от 20 до 25 лет (20,8 %) (девушки — 51,1 %, юноши — 48,9 %).
Одним из механизмов социальной мобильности являются так называемые «социальные лифты». Это условное наименование совокупности факторов, оказывающих влияние на вертикальную социальную мобильность, но чаще употребляемое в современном контексте обсуждения теории элит в качестве одного из средств ротации правящей элиты. В контексте нашего исследования социальный лифт рассматривается как набор условий, факторов и практик, позволяющих индивиду, группе, социальному слою менять свой социальный статус. Наиболее часто в качестве социального лифта выступают работа (ее поиск), образование (его получение, повышение), брак, политика (участие в ней) и т. д. Так или иначе эти факторы определяют динамику и направления миграционных потоков.
Большая часть опрошенной молодежи имеет среднее и среднее профессиональное образование (48,3 %). Значительна доля и тех, кто имеет высшее и незаконченное высшее образование (30,5 %). Получили неполное среднее образование 17,9 %, имеют начальное образование 3 % респондентов. Если сравнивать уровень образования сельской молодежи по полу, можно сделать вывод о том, что девушек, получивших высшее и имеющих незаконченное высшее образование, в два раза больше, чем юношей. Респонденты, имеющие на момент опроса среднее и среднее профессиональное образование, не имеют гендерных различий. В группе тех, кто имеет неполное среднее и начальное образование, юношей значительно больше.
Образование — наиболее сложный вопрос для молодого поколения. Оно является основой дальнейшего развития общества и играет решающую роль в судьбе человека.
Уровень и специализация образования во многом определяются жизненными планами человека, его профессиональной ориентацией. С одной стороны, в ней отражаются стремления и намерения молодежи, с другой — конкретное осуществление этих намерений, реализация личных планов. Результаты нашего исследования показывают, что лишь 45,9 % респондентов уверены в правильности своего выбора специальности при получении образования; 35 % опрошенных не смогли оценить правильность своего выбора. Вероятно, сказывается отсутствие опыта применения полученных знаний. При этом 18,2 % сельской молодежи ответили отрицательно на вопрос «Если у Вас была бы возможность сейчас сделать выбор специальности, стали бы Вы снова ее получать?».
Необходимо отметить, что современная молодежь ориентируется на получение высшего образования. Получать начальное профессиональное желают лишь 3 %, а средне профессиональное — 14,4 %. Эта тенденция позволяет говорить о восходящей вертикальной образовательной мобильности сельской молодежи, если учитывать, что многие респонденты (68,9 %) на момент проведения исследования продолжали обучение.
С 1995 г. в Мордовии постсоветского периода наблюдается отрицательная динамика миграционных потоков, Так, если в 1995 г. она составила 416 чел., то в 2011 г. — 3 424 чел. Наибольшее отрицательное значение этого показателя отмечается в 2001 г., что связано с последствиями кризисного 1998 г. (дефолт) и разорением многих промышленных и сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности9. Колебания миграционного прироста и убыли коррелируют с социально-экономическими и политическими процессами в стране в целом и республики в частности. Прежде всего это трансформация республики из аграрной в индустриально-аграрную.
Внутрироссийское переселение жителей Мордовии занимает основную долю внешнего миграционного оборота республики. В 1997—2001 гг. отток населения из республики усиливался. Сальдо межрегиональной миграции увеличилось с 1 615 чел. в 1999 г. до 2 854 чел. в 2001 г.10 Аналогичная тенденция отмечена и в 2007—2011 гг. Так, в 2007 г. за пределы республики выехали 12 589 чел., а в 2011 г. — 19 167 чел. Миграционный прирост в 1999 г. составил 1 662 чел. и в 2011 г. — 3 424 чел. Миграционные процессы в республике определяются динамикой рыночных преобразований, ситуацией в сфере занятости, возможностями трудоустройства мигрантов, территориальными различиями в уровне жизни населения.
Миграция — особый вид общественной практики, представляющий собой механическое перемещение людей по определенной территории (географическому пространству). Миграционное поведение следует рассматривать вместе с трудовым статусом работника, его занятостью в личном хозяйстве, образованием, жилищно-бытовыми условиями, демографическим типом семьи, особенностями местожительства. К этому необходимо добавить широкий выбор сфер приложений труда в городе по сравнению с селом, более высокооплачиваемую работу, удовлетворение культурных запросов, отсутствие сезонности в работе. Особенно это касается молодых людей11. Это подтверждают результаты исследования. На вопрос «Хотели бы Вы переехать и сменить место жительства?» 42,4 % молодежи ответили положительно, 44,1 % — отрицательно; 13,5 % затруднились с ответом. Двухмерное распределение показывает, что наибольшим желанием переехать обладает молодежь в возрасте от 20 до 25 лет (47,8 %) и моложе 20 лет (44,2 %). При этом число тех, кто не хочет переезжать в этом возрасте, одинаково и составляет 40,4 и 40,6 % соответственно. Это говорит о высоком потенциале притягательности сельской жизни для определенной части молодежи. К тридцати годам миграционные настроения ослабевают. Доля тех, кто не намерен менять место жительства, увеличивается (56,3—61,6 %).
При сравнении миграционных настроений по полу выяснилось, что у девушек миграционные настроения прослеживаются более ярко: 46,1 % из них хотели бы переехать и жить в другом месте в отличие от юношей (38,8 %). Отрицательные ответы дали 40,6 % девушек и 47,4 % юношей, что говорит о большем миграционном настрое девушек в отличие от парней. Число тех, кто не определился, примерно одинаково (юношей — 13,8 %, девушек — 13,3 %).
Не менее важное значение имеет вопрос о соотношении уровня образования молодежи и ее миграционных настроений. Анализ результатов исследования позволяет утверждать, что большим желанием переехать обладает группа молодежи, имеющая неполное среднее и среднее образование, так как образованные люди, имеющие специальное образование, более востребованы на республиканском рынке труда в отличие от своих менее подготовленных сверстников. Кроме того, первая группа молодежи вынуждена работать на вторичном рынке, где используется неквалифицированный, физически тяжелый и менее оплачиваемый труд. В более социально-экономически развитых регионах (Москва, Московская область, Республика Татарстан и др.) по сравнению с Мордовией этот труд оплачивается выше, что стимулирует миграционные настроения молодежи Мордовии.
Необходимо иметь в виду, что миграция является лишь следствием комплекса причин, побуждающих молодежь покидать малую родину. Исследование показало, что основными причинами миграции сельской молодежи республики является поиск работы с высоким заработком. Также высок процент отметивших «поиск работы по специальности». При этом у молодых людей третьей по значимости причиной миграции является желание переехать, чтобы учиться дальше.
Результаты исследования подтверждают данные, полученные в апреле — мае 2013 г. Российским союзом сельской молодежи (РССМ) при консультационной поддержке специалистов ВЦИОМ. Было проведено социологическое исследование, целью которого являлось изучение установок, мотивов, настроений и ожиданий сельской молодежи. Результаты исследования показали, что жизненные планы сельской молодежи различны. При этом многие (48,8 %) не планируют связывать свою жизнь с селом. В то же время 35,9 % молодых людей в будущем хотят жить и работать в сельской местности либо вернуться туда после получения профессионального образования. Примечательно, что среди мужчин доля желающих жить в селе существенно выше, чем среди женщин. Почти две трети опрошенных девушек (61,2 %) склоняются к тому, чтобы покинуть село12.
Таким образом, сельская молодежь Мордовии стремится к получению высшего образования, высоко оценивает уровень знаний, полученный в учебных заведениях республики. Это говорит о том, что образование воспринимается молодежью как социальный лифт с высоким уровнем доверия, дающий возможность занять более высокие позиции в структуре общественных отношений общества. Проблемы отечественного образования мало известны сельской молодежи и не занимают значительного места в оценке ими качества полученного образования. Уровень миграционных настроений достаточно высок. Большим желанием переехать обладает молодежь в возрасте от 20 до 25 лет (47,8 %) и моложе 20 лет (44,2 %). К тридцати годам миграционные настроения ослабевают. При этом у девушек миграционные настроения выражены более ярко.
Список литературы Социальная мобильность и миграционные настроения сельской молодежи региона
- Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Культура как фактор общественного прогресса. М.: ЗАО «Юстицинформ», 2009. 408 с.
- Латова Н.В. Модернизирующая функция российской системы высшего образования//Система воспитания в высшей школе. М.: ФИРО, 2009. 80 с.
- Магун B.C., Руднев М.Г. Международные сравнения базовых ценностей российского населения и динамика процессов социализации//Образоват. политика. 2010. № 7-8. С. 244-280.
- Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт многолетних социологических замеров/под ред. М.К. Горшкова и др. М.: Весь Мир, 2011. С. 274
- Фролов С.С. Социология: учебник для высш. учеб. завед. М.: Наука, 1994. С. 129.